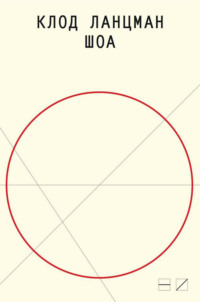Read the book: «Шоа»
© Librairie Artheme Fayard, 1985
© Новое издательство, 2016
* * *
Предисловие
Представляю читателям печатную версию моего фильма «Шоа»: все его диалоги и субтитры. Перевод с иностранных языков, которыми я не владею (польского, иврита, идиш), осуществлялся непосредственно во время съемок; переводчицы – Барбара Яницкая, Франсин Кауфман и госпожа Апфельбаум – не скрывались за кадром. Я полностью сохранил их манеру перевода, оставив как есть запинки, повторы, все особенности устной речи. Свои собственные реплики я тоже не стал подвергать какой-либо правке. В тех случаях, когда я общался с героями фильма на английском или немецком и помощи переводчика не требовалось, содержание нашего разговора передавалось посредством французских субтитров, подготовкой которых мы занимались совместно с Одеттой Одебо-Кадье и Ирит Лекер; теперь эти субтитры включены в текст книги.
Субтитры определили порядок ее построения. Представленные здесь в том порядке и последовательности, в каком они появлялись на экране, субтитры более или менее точно передают речь героев фильма, но никогда не передают ее полностью. Длина субтитров может значительно варьироваться в зависимости от спокойного или эмоционального состояния говорящего и от скорости его речи, тогда как время, дающееся на их чтение, всегда одинаково. Лицо говорящего, его мимика, жесты – одним словом, его образ – служат естественным продолжением субтитра, его воплощением, поскольку в идеале субтитр должен не предшест вовать словам и не сопровождать их, а совпадать с ними, появляться на экране в тот самый момент, когда они звучат. Оптимальный вариант – это когда человек, в совершенстве владеющий языком, на котором говорят герои фильма, просто не заметит субтитры внизу экрана и, напротив, у того, кто в состоянии понять лишь несколько слов, создастся впечатление, что он понимает иностранную речь. Иначе говоря, субтитры не предназначены для того, чтобы оставаться в памяти. Они рождаются на экране и умирают, едва родившись: один тут же сменяется другим, который живет не дольше, чем его собрат. Промелькнув перед нами, каждый из них уносится в никуда; длина фразы, ее окончательный вид определяются временем, необходимым для чтения субтитра, и переходом от одного кадра к другому. Обыкновенно фразы получаются «разорванными» на части, поскольку нескончаемый поток слов заставляет появляться все новые титры, обрекая старые на скорую смерть.
Таким образом, на экране субтитры – вещь второстепенная. Но если объединить их в книгу, вписать в нее, страница за страницей, те обрывки фраз, которые проносятся у нас перед глазами, не давая фильму сбиться с ритма, второстепенное неожиданно предстанет самоценным, обретет иной статус и иное качество, будет, образно говоря, отмечено печатью вечности. Титры должны будут жить сами по себе, самим себе служить опорой – без всякого фона, без образов, лиц, пейзажей, слез и пауз: без тех девяти с половиной часов, в течение которых идет «Шоа».
Я недоверчиво читаю и перечитываю безжизненный и голый текст. Странная сила наполняет его с первой до последней страницы: он держится вопреки всему, он живет своей жизнью. Это летопись катастрофы, и для меня в ней есть какая-то тайна.
Дам им вечное имя, которое не истребится
Исайя 56:5
Фильм первый
Действие начинается в наши дни в польской деревне Хелмно. Расположенная в восьмидесяти километрах к северо-западу от Лодзи, в центре региона, где значительную часть населения до войны составляли евреи, эта деревня стала первым на территории Польши местом массового уничтожения евреев с помощью газа. Начало катастрофы приходится на 7 декабря 1941 года. С 1941 по 1945 год, в два этапа (декабрь 1941 – весна 1943 года; июнь 1944 – январь 1945 года), в Хелмно было истреблено четыреста тысяч евреев. Способ убийства оставался до самого конца неизменным: так называемые газенвагены.
Из четырехсот тысяч мужчин, женщин и детей, которые были отправлены в Хелмно, выжили только двое: Михаэль Подхлебник и Симон Шребник. Симону Шребнику, сумевшему спастись во время второго этапа уничтожения узников, было тогда тринадцать с половиной лет. Отец Симона был убит у него на глазах в Лодзинском гетто, мать – отравлена газом в хелмновских автомобилях-«душегубках». Эсэсовцы включили мальчика в одну из рабочих команд, которые занимались хозяйственным обеспечением лагеря; эти работники были обречены на смерть, как и все остальные.
Каждый день мальчик проходил через Хелмно, неся на ногах цепи, в которые нацисты заковывали всех узников из рабочих команд. Симону дольше других сохраняли жизнь из-за его природной ловкости, благодаря которой он всякий раз выигрывал в соревнованиях, устраиваемых нацистами среди заключенных, – кто с цепями на лодыжках дальше прыгнет или быстрее пробежит дистанцию. Еще ему помог красивый голос. Несколько раз в неделю, когда нужно было рвать траву для кроликов, которых эсэсовцы разводили на заднем дворе своей администрации, Симон Шребник под надзором охранников садился в плоскодонку и поднимался по реке Нер до окраин деревни, где росла люцерна. Он пел польские народные песни, а охранники взамен учили его прусским военным маршам. В деревне все его знали – не только польские крестьяне, но и немецкое население: после падения Варшавы эта польская провинция была аннексирована Третьим рейхом, германизирована и переименована в Вартеланд. Хелмно превратилось в Кульмхоф, Лодзь – в Лицманштадт, Коло – в Вартбрюкен и т. д. Переселенцы из Германии обосновывались преимущественно в Вартеланде, в Хелмно даже открыли начальную школу для немецких детей.
В ночь на 18 января 1945 года, за два дня до прихода советских войск, немцы уничтожили последних узников. Их убивали пулей в затылок; не избежал экзекуции и Симон Шребник. Но пуля не задела жизненно важных центров. Придя в себя, он дополз до свинарника, где его обнаружил польский крестьянин. Симона лечил советский военный врач – он спас мальчика от смерти. Несколько месяцев спустя Шребник вместе с другими выжившими уехал в Тель-Авив. В Израиле я его и нашел. Я убедил маленького певца вернуться вместе со мной в Хелмно. Ему было сорок семь лет.
Маленький белый дом
Не выходит у меня из памяти.
Каждую ночь
Я вижу его во сне.
Крестьяне деревни Хелмно
Ему было тринадцать с половиной. У него был красивый голос, он очень красиво пел – все его слушали.
Маленький белый дом
Не выходит у меня из памяти.
Каждую ночь
Я вижу его во сне.
Когда сегодня я опять услышал, как он поет, у меня сердце забилось чаще – ведь здесь произошла настоящая резня, иного слова не подберешь. Я как будто снова пережил то, что здесь случилось.
Симон Шребник
Это было здесь, хотя место трудно узнать. Здесь сжигали людей. Сколько же людей здесь сожгли! Здесь, на этом самом месте.
Отсюда никто никогда не возвращался.
Сюда прибывали газенвагены… Помню две огромные печи… Потом в эти печи бросали тела, и пламя поднималось до небес.
До небес?
Да.
Это было ужасно.
Об этом невозможно рассказать. Никто не может себе представить, что здесь творилось. Невозможно представить. И никто не может этого понять. Даже я сам сегодня не могу…
Я не верю, что я здесь.
Нет, не могу в это поверить.
Здесь всегда было так спокойно.
Всегда.
Когда здесь ежедневно сжигали по две тысячи евреев, все было так же спокойно. Никто не кричал. Все делали свою работу. Все было тихо. Мирно. Как сейчас.
Юная девушка, не плачь,
Не грусти:
Скоро наступит лето…
И с ним к тебе вернусь я.
Девушки наливают солдатам вина
И подносят кусок жареного мяса.
Когда солдаты маршируют по улице,
Девушки открывают
Окна и двери в доме.
Крестьяне деревни Хелмно
Они1 думали, что немцы нарочно заставляют его петь на реке.
Для немцев он был всего лишь игрушкой. Он был вынужден это делать. Он пел, но его сердце плакало.
Плачут ли их сердца, когда они вспоминают об этом?
Да, конечно.
Когда их семьи собираются за столом, они до сих пор говорят о нем. Потому что он пел на глазах у всех, на видном месте. Все его знали.
Со стороны немцев это была чудовищная насмешка: они убивали людей, а он – он был вынужден петь. Так я думал.
Другой выживший, Мордехай Подхлебник (Израиль)
Умерло ли что-нибудь внутри него, когда он был в Хелмно?
Все умерло.
Умерло все, но человек есть человек: он цепляется за жизнь. Значит, надо обо всем забыть. Он благодарит Бога за все, что в нем осталось. И за то, что он умеет забывать. И давайте не будем об этом.
Легко ли ему об этом говорить?
Нет, не легко, для меня это совсем не легко.
Почему же тогда он все-таки об этом говорит?
Он говорит потому, что вы его вынуждаете. Но тут ему прислали несколько книг о процессе Эйхмана, где он был свидетелем, а он их даже не открыл.
Остался ли он живым человеком или…
Когда он был там, он жил как мертвец, ведь он и подумать не мог, что спасется, – и все-таки он выжил.
Почему он все время улыбается?
А вы хотите, чтобы он плакал? Человек то грустит, то улыбается. Когда живешь, лучше улыбаться…
Ханна Цайдль, дочь Мотке Цайдля (Израиль), узника Вильнюсского гетто
Почему она так интересуется теми событиями?
Это очень долгая история. Помню, когда я была совсем маленькой, я очень редко общалась с отцом. Во-первых, он много работал, и я почти совсем его не видела; и потом, он был молчаливым человеком и не вступал со мной в разговоры.
А потом, когда я выросла, когда нашла в себе силы заговорить с ним, я стала спрашивать, спрашивала еще и еще, пока мне не удалось по крупицам выудить у него правду, которую он так долго не мог мне сказать.
Он обрывал фразы на полуслове, мне приходилось буквально клещами вытаскивать из него подробности, и только когда к нам при ехал месье Ланцман, я наконец услышала от отца связный рассказ.
Мотке Цайдль и Ицхак Дугин, бывшие узники Вильнюсского гетто
Здешний пейзаж очень напоминает Понары: лес, ямы. Легко спутать с местом, где немцы сжигали трупы. Единственная разница в том, что в Понарах не было камней.
Но в Литве ведь леса гораздо более густые, чем в Израиле, не так ли?
Да, конечно.
Деревья похожи, но в Понарах они выше и стволы толще.
Ян Пивоньский (Собибор)
Охотятся ли сегодня в лесах близ Собибора?
Да, здесь все время охотятся, здесь много разных животных.
А в те времена в лесу охотились?
Нет, в те времена здесь охотились только на людей.
Несколько раз заключенные пытались бежать. Но жертвы плохо знали местность. Время от времени со стороны минных полей слышались взрывы: иногда там находили косулю, а иногда – какого-нибудь несчастного еврея, который пытался бежать из лагеря.
Наши леса всегда притягивали к себе своим безмолвием, красотой. Но должен вам сказать, что здесь не всегда царило безмолвие. Было время, когда тут, на этом самом месте, звучали крики, выстрелы, собачий лай: именно этот период врезался в память людей, которые тогда здесь жили. После восстания немцы решили ликвидировать лагерь, и в начале зимы 1943 года они засадили все вокруг трехлетними и четырехлетними саженцами елей, чтобы уничтожить все следы своей деятельности.
Вон теми высящимися стеной деревьями?
Да.
Их посадили на месте братских могил?
Да. Когда он впервые приехал сюда в 1944-м, он и представить не мог, что здесь произошло. Никто не догадывался, что эти деревья скрывают тайну лагеря смерти.
Мордехай Подхлебник
Что он почувствовал, когда в первый раз выгружал трупы из машин, когда он в первый раз открыл дверцу газенвагена?
Что он мог сделать? Он плакал…
На третий день он увидел свою жену и детей. Он опустил тело жены в могилу и попросил, чтобы его убили. Немцы сказали ему, что у него еще есть силы для работы и поэтому они его пока убивать не станут.
Тогда было очень холодно?
Дело было зимой, в начале января 1942-го.
В тот период тела еще не начали сжигать? Их просто закапывали в землю?
Да, их бросали в ямы, рядами, и каждый новый ряд присыпали землей; жечь еще не жгли.
Трупы лежали в четыре, а то и в пять рядов, один над другим. Ямы рыли в форме воронок. Они сбрасывали тела в ямы, им приходилось укладывать их валетом, как будто это сельди в бочке.
Мотке Цайдль и Ицхак Дугин
Значит, им пришлось выкопать и сжечь тела всех вильнюсских евреев?
Да.
В начале января 1944 года тела стали вытаскивать из земли. Когда раскопали последнюю яму, я узнал всю свою семью.
Кого из членов своей семьи он узнал?
Маму и сестер. Трех своих сестер с детьми. Они все лежали в этой яме.
Как ему удалось их узнать?
Тела пролежали в земле всего четыре месяца, к тому же стояла зима, поэтому они довольно хорошо сохранились. Я их узнал сначала по лицам, а потом по одежде.
Они были убиты сравнительно недавно?
Да.
И это была свежая могила?
Да.
Значит, нацисты действовали по четко разработанному плану? Они специально начали с самых старых захоронений?
Да.
Последние ямы были самыми свежими, а они начали с самых старых – с тех, которые относились еще к первому гетто.
В первой могиле лежало двадцать четыре тысячи тел.
Чем глубже мы копали, тем больше видели расплющенных, плоских тел – прямо какое-то месиво. Когда мы пытались их вытащить, они рассыпались в прах. Невозможно было поднять их наверх.
Заставив нас вскрыть могилы, немцы запретили пользоваться инструментами, они сказали: «Привыкайте работать руками!»
Руками…
Да.
Сначала, когда могилы только вскрыли, никто из нас не мог сдержаться: все, кто там был, разразились рыданиями.
Но подбежали немцы: они избили нас до полусмерти, они заставили нас два дня работать как проклятых, без инструментов, без всего, они то и дело осыпали нас ударами.
Все разразились рыданиями…
Немцы прибавили, что запрещают произносить слово «смерть» и слово «жертва», потому что это не тела, а просто деревянные чурбаны, ничего не значащие вещи, дерьмо, мусор.
Стоило кому-нибудь сказать «смерть» или «жертва», как его избивали. Немцы внушали нам, что мы должны называть трупы
Figuren,
то есть… «марионетками», «манекенами», или Schmattes, то есть «ветошью».
Сказали ли им, когда они начинали работу, сколько всего Figuren находится в ямах?
Шеф Вильнюсского гестапо сообщил нам: «Здесь лежит девяносто тысяч человек; сделайте все, чтобы от них не осталось и следа».
Рихард Глацар (Швейцария), бывший узник Треблинки
Это случилось в конце ноября 1942 года.
Когда после работы нас гнали в бараки, со стороны «лагеря смерти» – так называлась одна из частей нашего лагеря – в небо вдруг взметнулось пламя. Очень высоко. В одно мгновение все вокруг засияло, весь наш лагерь будто вспыхнул. Дело шло к вечеру, мы зашли в барак, поели, но не переставали следить через окно за этой фантастической картиной – заревом, окрашенным во все возможные оттенки цвета: красного, желтого, зеленого, фиолетового.
И тут один из нас встал…
Мы знали, что это оперный певец из Варшавы. Его звали Сальве. На фоне полыхающего за окном пламени он начал монотонно распевать неизвестную мне молитву:
Господь, Господь,
За что Ты нас покинул?
Когда-то нас сжигали в огне, Но мы никогда не отвергали Твоего священного закона.
Он пел на идише. Сзади пылали костры, в которых тогда, в ноябре 1942 года, в Треблинке стали сжигать трупы. В ту ночь это произошло в первый раз: мы поняли, что теперь тела умерших будут не предавать земле, а сжигать.
Мотке Цайдль и Ицхак Дугин
Когда все бывало готово, трупы обливали горючим и поджигали. Немцы ждали сильного ветра, так что пламя обычно не гасло дней семь-восемь.
Симон Шребник
Немного дальше, вон там, находился бетонный цоколь, и, если какие-то кости не сгорали, например большие кости ног, мы…
У нас был ящик, мы брались за ручки и несли его к цоколю, где другие должны были размалывать кости в порошок. В очень мелкий порошок. Его складывали в мешки, и, когда их набиралось много, мы шли к реке Нер; там внизу был мост, и мы опрокидывали мешки в Нер; прах падал в воду, его уносило течением.
Маленький белый дом
Не выходит у меня из памяти.
Каждую ночь
Я вижу его во сне.
Пола Бирен (Цинциннати, США), бывшая узница Освенцима
Возвращались ли вы когда-нибудь в Польшу?
Нет. Я хотела, и не раз.
Но что я там найду?
Как совладать с чувствами?
Мои дед и бабушка похоронены в Лодзи.
От одного знакомого, который ездил в Лодзь, я узнала, что власти хотят перекопать кладбище, срыть его.
Как я могу после этого туда вернуться?
Когда погибли ваши дед и бабка?
Мои дед и бабка?
В гетто они долго не протянули. Оба были немолоды, через год умер он, а еще через год – она. В гетто, да.
* * *
Пани Петыра (Освенцим /Аушвиц/)
Мадам Петыра, вы уроженка Освенцима?
Да, здесь я родилась.
И никогда отсюда не уезжали?
Никогда.
До войны в Освенциме жили евреи?
Да, они составляли 80 % населения. У них даже была синагога.
Одна синагога?
Да, кажется, одна.
Она сохранилась?
Нет, ее разрушили.
Сейчас на ее месте стоит что-то другое.
В Освенциме было еврейское кладбище?
Да, оно сохранилось до сих пор. Правда, сейчас оно закрыто.
Оно до сих пор сохранилось?
Да.
Что значит «оно закрыто»?
Там больше не хоронят.
Пан Филипович (Влодава)
Во Влодаве была синагога?
Да, синагога была, и какая! Она стояла, еще когда Польша находилась под властью царей. Она древней католической церкви.
Сейчас она не действует.
Нет прихожан.
Перестраивались ли эти здания?
Нет, все осталось как было. Здесь стояли бочки с сельдью, евреи торговали рыбой. Всякие лавки, лотки с товаром – «еврейская коммерция», как месье2 ее называет.
Здесь был дом Баренгольца. Он продавал древесину. Вон там стоял магазин Липшица, который торговал тканями. Здесь жил Лихтенштейн.
А дом напротив?
Это был продуктовый магазин.
Он принадлежал евреям?
Да.
Тут была галантерея со всевозможными нитками, иголками, разными безделушками, а дальше – три парикмахерских.
В этом красивом доме жили евреи?
Да.
В том маленьком – тоже?
Тоже.
А в том, что позади него?
Это все были дома евреев.
И тот дом слева?
Да.
А кто жил здесь? Боренштейн?
Да, Боренштейн. Цементом торговал. Красивый был мужчина и такой культурный. Тут жил кузнец по фамилии Теппер. Это был еврейский дом. Здесь проживал сапожник.
А как звали сапожника?
Янкель.
Янкель?
Да.
Создается впечатление, что Влодава была городом с чисто еврейским населением.
Так оно и было. Поляки жили немного дальше, центр города был занят исключительно еврейскими семьями.
Пани Петыра
Что случилось с евреями из Освенцима?
Их выдворили из города и переместили, но я не знаю куда.
В каком году это произошло?
Это началось в 1940-м, потому что в 1940-м я сюда переселилась. Раньше эта квартира принадлежала евреям.
Но по имеющейся у нас информации, евреев из Освенцима «переместили», как говорит мадам, не куда-нибудь, а в соседние Бендзин и Сосновец, что в Верхней Силезии.
Да, потому что Сосновец и Бендзин – тоже еврейские города.
Не знает ли случайно мадам, что потом сделали с евреями из Освенцима?
Думаю, что потом они все оказались в лагере.
То есть они вернулись в Освенцим?
Да.
Кого здесь только не было: людей согнали со всего света, привезли сюда.
Всех евреев собрали здесь. Чтобы уничтожить.
Пан Филипович
Как люди отнеслись к тому, что всех евреев из Влодавы депортировали в Собибор?
Как к этому можно было отнестись? Им пришел конец, но они предвидели его заранее.
Как это?
Еще до начала войны евреи предчувствовали свою судьбу – достаточно было поговорить с ними, чтобы это понять.