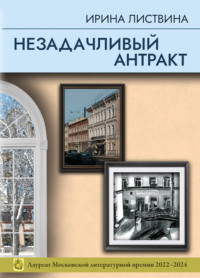Read the book: «Незадачливый антракт»
© Ирина Листвина, 2025
© Интернациональный Союз писателей, 2025
Художник обложки Александра Уханёва
* * *
Эскизы, миражи, сады…
К середине двадцатого века советские люди, пережившие две мировые войны наряду с едва соединявшими их, как недостроенные мосты, периодами разрух, совершенно изверились в идее «лучшего в мире будущего». Особенно нелегка была атмосфера после смерти Сталина, в год ненадёжного и готового к развалу триумвирата (Хрущёв, Маленков, Булганин). И тогда Бог внезапно и неожиданно смилостивился над растерянными, утрачивающими веру во что бы то ни было людьми. И вновь излил на них немного Духа Святого Своего.
Конечно, это было совсем не так, как во времена Апостольской церкви, когда нужно было приобщать к вере народы и этносы, незнакомые с монотеизмом. Тогда Дух говорил в каждом из апостолов на чужих языках.
Нет, теперь Он изливался на людей во множество раз скромнее, всего лишь как светлый дар общения, ими почти утраченный. Долгие годы они не осмеливались высказывать даже те из своих мыслей, что никакого отношения к политике и экономике не имели. Они чуждались друг друга и общались почти формально, глухо, уходя в любимую работу, как в ящик стола (и безнадёжно надеясь, что он когда-нибудь чудом превратится в почтовый ящик).
Ещё не веря тому, что доносы больше не нужны, люди всё же это чувствовали. И бескорыстное общение, основанное на взаимном доверии, стало казаться им бесценным. Они не просто обернулись и взглянули друг на друга. Они глядели друг другу в глаза, вглядываясь и вслушиваясь. Взгляды, жесты и мимика значили теперь не меньше, чем слова, а обращённые друг к другу души и лица говорили так, как это бывает лишь на первых стадиях влюблённости или избирательного дружеского сродства.
И тогда, подобно тому как было во времена Апостольской церкви, но и как в капле воды под микроскопом, вдруг выяснилось, что иные из них наделены этим даром больше других. Вокруг таковых стали образовываться кружки, сливающиеся в круги. Там говорили в основном о Боге, философии и искусстве. Избранные становились педагогами-гуманитариями, притягивавшими тогдашнюю молодёжь. В разных «градах и весях» страны (иной раз и в том же городе) это происходило по-разному; кто-то, разумеется, вспомнит об этом по-другому (и о других). Здесь речь пойдёт о пяти островках литературного Ленинграда тех лет (вплоть до начала 80-х).
Образ городского сада тоже говорит о естественной радости общения – с природой, порой и с собеседником (или с самим собой). Поэтому участки, как бы выделенные из большого единого парка вокруг бывшего Петербургского Воспитательного дома, непосредственно связаны здесь с именами главных действующих лиц.
Фрагмент «Из жизни ленинградской богемы»
I. На Ковенском переулке
Я вошла в привычно гостеприимные и безалаберные комнаты на Ковенском переулке за несколько минут до произошедшего. Сняла пальто и собралась немного поиграть с Рикки в мяч. Ирины не было, а Светка, ставшая в последний месяц какой-то неприветливой, выглянув, проскрипела шёпотом, что та на минутку вышла, сейчас придёт.
Вдруг явственно послышались два выстрела на чердаке (над потолком этого надстроенного этажа). Отчётливый первый щёлк был твёрд, что говорило об опытной руке. Второй раздался через секунду-другую, словно происходила дуэль. Он был суше (истеричнее, что ли), а затем послышался стон – мужской, непродолжительный; всё это заняло не более минуты. Трёхногая сука Рикки (помесь бульдожки с дворнягой), очень ласковая, но беспринципная в своих просьбах к знакомым, заковыляла туда-сюда, подпрыгивая, через комнату по диагонали. Я застыла у стены, а Светка выскочила и бросилась наверх. Через несколько минут раздался вой двух машин, милицейской и скорой.
Раненного в плечо офицера увезли в больницу, а Ирину Чемоданову (непризнанного, но небезызвестного в узком кругу прозаика) – минуя отделение милиции, в тюрьму. Понятие тюрьмы было неоднозначным, узилища были разные. Через несколько дней стало известно, что Ирину определили в отделение судебной психиатрии в Малых Крестах у Финбана.
Часа за полтора до меня к ним заявились два офицера с запиской от кого-то из знакомых. Это ничуть не удивляло: их две комнаты напоминали постоялый (и проходной) двор. Офицеры принесли коньяк, яблоки и шоколад, сели, выпили, несколько минут шутили, но вскоре стало ясно, что говорить с ними и не о чем. Ирина похвалилась, что на чердаке у неё тир, а кто-то из троих (исключая Светку) предложил пойти поупражняться в стрельбе.
Дальнейшее так и осталось неясным. Ирину я не видела почти полгода, навещать её не разрешали, можно было только поставить в окно передачу. Через четверть часа в коридоре раздавался окрик: «Кто оставил для Чемодановой?» Я подходила, и что-то обязательно вышвыривали обратно (банку сгущёнки, например), хотя передачу обдумывали люди поопытней меня.
Странное начало для взаимосвязанных в повести-эссе рассказов? Тем более что два предстоящих: «Хмельницкая и сад Тамары» и «Стоический сад» – отличаются совсем иной, академически спокойной атмосферой. Всё же изредка и они будут прерываться эпизодами – драматическими и не очень. Таковы были семидесятые, время ведь чем-то напоминает погоду. Бывает же, что за считаные дни до раскатистой, полыхающей в окна и долгой грозы по вечерам слегка погромыхивает, как бы совсем издали и случайно.
Фрагмент
«Хмельницкая и сад Тамары»
(начало)
Знаете, кто вы? Вы молчальница из сада Тамары.
Реплика Д. Е. Максимова
I. Приглашение к чаю
…Впервые я обменялась с ней несколькими словами в 1971 году, подойдя с вопросом после её лекции в Публичной библиотеке. Я была студенткой (вечернего филфака) и как-то вдруг набралась храбрости подойти, сказать несколько слов. Что-то не просто расположило меня к ней, а задело за живое. Помню, что ни к одному незнакомому человеку я ещё не испытывала такого импульсивного доверия с желанием обменяться несколькими словами. Конечно, я не думала, что мимолётное знакомство будет иметь продолжение.
А через несколько месяцев я встретила её в доме Ирины Чемодановой (одарённой писательницы-полудиссидентки, как ни странно, сугубо советского склада; написанное ею не попало в печать и не дошло до читателя вовремя).
Ирина недавно ещё работала секретарём поэта Ольги Фёдоровны Берггольц и была её другом. Познакомилась я с ней в клинике неврозов на Васильевском, где она лечилась, а я навещала однокурсницу. Мне (в двадцать с очень небольшим) было лестно, что человек, близкий к Ольге Берггольц, одобряет мои стихи. Тамара Юрьевна была в ровных, дружеских отношениях с Ириной. Но при упоминании друзей Т. Ю., ставших (в той или иной мере) и моими знакомыми, мне придётся иногда делать пропуски. Ирина Чемоданова заслуживает отдельного рассказа, но здесь он будет дан в виде отрывков.
Итак, вначале я встречала Тамару Юрьевну на Ковенском переулке – кивок, улыбка, не более. Как-то раз Ирина вручила ей стопку моих стихов, сказав: «Вот это – настоящее!» Тамара Юрьевна ответила, что обязательно посмотрит, и дала мне свой номер телефона. Через несколько дней я получила приглашение к вечернему чаю у неё на Загородном.
Я пришла туда к восьми, а вернулась домой поздно; поздними были и мои возвращения от неё в дальнейшем – все эти долгие годы, до её последней болезни. Но сейчас о нашей первой встрече, которая могла бы и не произойти, не получиться; однако состоялась. Странно, что она говорила о моих стихах так внятно, интересно и внимательно, а я, волнуясь, всё как-то не могла сосредоточиться. Часть моего внимания поглощала комната – нет, даже и не она, а присущая ей атмосфера, резко отличительная, дышащая немного унылым, но притягательнейшим уютом «у камелька в тусклый осенний день». Поначалу даже и голос Тамары Юрьевны слегка завораживал, убаюкивая внимание необычностью звучанья: у себя дома она не старалась говорить, как принято. Её выговор был очень раздельным и внятным, но питерским, дореволюционным. К тому же в нём была возрастная приглушённость с лёгкой хрипотцой, но была и тщательность, которая делает каждое слово понятным. При этом казалось, что говорит она медленно, как бы раздумывая; дикция в целом напоминала мне костяной фарфор. Что же до манеры говорить, то все, кто слышал записи чтений Александра Блока, знают этот говор, присущий интеллигентам начала XX века: возобладавшее четвёртое сословие (в подражание дворянству) сохранило лёгкий французский прононс, но он полностью слился с уже сложившимся твёрдым питерским. В тот первый вечер мне казалось, что и мебель у неё как на сцене театра МХТ, вот только вблизи кажется потускневшей, старил её и общий зеленоватый колорит, однако она не была ни поношенной, ни потёртой. Моё воображение поразили гамбсовские стулья и беккеровский рояль, а больше всего прекрасно сохранившаяся люстра в стиле модерн (без хрустальных висюлек, отнюдь). В комнате не было следов творческого беспорядка, но были свобода и покой, давно ушедшие из быта. Был и диван с пледом, накинутым на подушку, вышитую гарусом, как бы в приглашение к отдыху. Было и одно чарующее противоречие – акварели на стенах обладали живостью свежих красок, как если бы (там и сям) стояли букетики цветов: маки, ромашки, колокольчики…
Так я и стала время от времени бывать у неё, сначала в коммуналке на Загородном, недалеко от Владимирской площади, где сама жила ещё недавно, до окончания школы. Моей ответной реакцией на неожиданно живой и глубокий отклик на мои стихи было то, что я (ещё не выбравшись толком из «детства, отрочества, юности» – на выходе у меня родился сын, и захлопнутая дверь в детскую опять приоткрылась) увидела в ней фею в обличье беличьем – отметив сходство Т. Ю. с этим убегающим и спешащим вверх существом, пусть и издали, но явно расположенным к людям. (Часть лета моя семья проводила в Прибалтике, где белки почти ручные.)
Тамара Юрьевна была на добрых сорок лет старше меня (и этого не скрывала), но ведь феи в сказках нередко были пожилыми дамами. Наверное, всё это – о белках и фее – я тогда придумала, чтобы не слишком удивляться и облегчить себе привыкание к её кротким, живым, полным интереса ко мне глазам. Может быть, мы подружились с ней отчасти из-за благодарности, выразившейся в этих выдумках? Не знаю, кажется, всё обстояло не так просто. Многие молодые литераторы бывали у неё, читали свои произведения, нередко были прекрасно приняты и встречали интересный отзыв. Иные из них (но немногие) в ответ привыкали к ней, к её дому, становились настоящими друзьями – например, Лёша Любегин, совсем молодой, но независимый (с изданным сборничком стихов, уже член СП), и его жена Галя, врач-психиатр (серьёзная профессия, ещё бы!).
Однако не время говорить о литературной молодёжи тех лет. Внешность Тамары Юрьевны как-то сразу ускользнула от меня, поэтому описывать её я и не стану. На это имелся ряд причин, часть которых мне не вполне понятна. Но, судя по воспоминаниям её сверстников (из секций критиков и переводчиков), она была среди них существом непарным и порой казалась чудачкой. В частности, пишут, что она всегда сидела в сторонке, а при ходьбе голова у неё немного опережала ноги, хотя походка была в общем ровной и сутулилась она лишь слегка. В тридцатых годах её почти не печатали, она не примыкала ни к одной из заявивших о себе группировок, в отличие от большинства сверстников. Кроме того, она была среди тех, кто не прервал знакомство с М. М. Зощенко, когда все от него отшатнулись.
В общем, она была в хороших отношениях с коллегами, но в то же время ей бывало среди них и одиноко (до возвращения из ссылки Эльги Львовны Линецкой). Было ещё кое-что, мешавшее мне однозначно воспринять её внешний облик. На стенах комнаты висели её портреты в молодости (кисти покойного мужа). Её вид на них не то чтобы пересиливал или преодолевал общее впечатление, но примешивался к нему неуловимо, как запах лаванды к белью. Её манера держаться и говорить была живой и естественной, более того, казалась намного моложе её самой. Ничего застывшего и потускневшего с возрастом (кроме черт лица) в Тамаре Юрьевне не было…
Сколько людей, столько и случаев: народу в её доме бывало больше, чем в других. Однако ни с кем из «молодых» (вставляю кавычки, так как эта дружба вышла за пределы молодости, хотя рядом с ней казалось, что и нет) она не водилась и не возилась в 70-х и 80-х, как с Нелли Ореховой и со мной. Это могло объясняться тем, что у неё не было детей, а материнский комплекс, заставляющий сильнее любить ребёнка с ущербинкой в характере, часто болеющего и не слишком способного постоять за себя в житейских обстоятельствах, у неё был и проявился по отношению к нам обеим. Но всё же могу с уверенностью сказать: это Тамара Юрьевна выбрала меня, а не я её. И дело было не в моей или Неллиной привлекательности. Разумеется, присущая молодым беззаботность (да и свой шарм) у каждой из нас были. Но вечно простуженная и курящая, легко замерзающая в неуклюжих своих пальто Нелли (хотя и с большими ярко-голубыми глазами), да и я с моим рассеянным, устремлённым вглубь и немножко совиным взором (хотя и с тонкими чертами лица) – нет, мы обе не были красотками, нас обеих, каждую по-своему, воспринимали иначе.
Тамару Юрьевну больше всего интересовал в людях талант, он мог находиться ещё и в латентной стадии неординарной одарённости. Возможно, в нас обеих она увидела случаи, когда без поддержки талант может замереть и не достичь осуществления. Разумеется, мне легче судить о Нелли, ведь себя никогда не видишь со стороны. Её большой талант, возможно, напоминал Тамаре зуб мудрости, не сумевший прорезаться вовремя, – ведь так иногда бывает. Запоздалый процесс прорезания может сопровождаться муками, и дантист (увы, судьба нередко действует именно, как он) может счесть, что зуб предпочтительней вырвать. Мне непонятно другое: как сумела Тамара разглядеть большое дарование в её первых, неловких и подражательных, стихах…
Итак, ярко запомнившееся первое чаепитие с разбором стихов, а затем и многие другие, но атмосфера в них осталась неизменной. Хотелось бы закончить строками из опубликованных (но очень нескоро) сборников стихов Нелли Ореховой:
Вы мастер дружбы, тихая Тамара.
Где вы берёте всех своих друзей?
На огонёк таинственного дара
Являются пришельцы из ночей.
Да, мокрые – хоть выжимайте – души
Пообсушить, погреться у стола.
А на дорогах высыхают лужи
От вашего крамольного тепла.
Вот, кстати, первые два слова о Нелли. Мне предстояло близко подружиться с ней позже, в восьмидесятых, а в этой повести она будет изредка мелькать – тенью или на мгновенье, как бабочка. Но Тамара Юрьевна с самого начала говорила со мной о ней, как о нашей общей знакомой, и ещё, как о человеке безбытном и неустроенном. Они с мамой приехали в Ленинград несколько лет назад, после её поступления в ЛГУ. Жить им было практически негде, и Евдокия Ивановна (в прошлом неплохо зарабатывавший инженер-экономист) нанялась в домработницы к писательнице Кетлинской, на её дачу в Комарове, неподалёку от Дома творчества писателей. После окончания университета Нелли долго не могла никуда устроиться. И Кетлинской наконец надоело выслушивать жалобы Евдокии Ивановны и видеть её заплаканное лицо. Она придумала для Нелли синекуру – ещё не существовавшую тогда должность библиотекаря Дома творчества. Библиотеки там фактически и не было, но было много старых книг, в которых следовало разобраться.
В Ленинград Нелли приезжала раз в две недели, но на целых два дня – заказать книги в коллекторе и повидаться с друзьями (главным образом из примечательного университетского выпуска 1966 года). Из мимолётных встреч с ней на Ковенском (у Тамары Юрьевны мы ещё не пересеклись) возникал некий смутный и грустный образ: печальные глаза, стеснённые обстоятельства, стихи писать начала поздно и пока не очень получается. Но года через два я впервые навестила Тамару в Доме творчества, и это впечатление изменилось. Вместе мы заглянули на часок к Ореховым (во флигель для писательской обслуги), и я была приятно удивлена: её мама создала домашний уют совсем уж из ничего, из холодной комнаты с дощатым крашеным полом и тремя предметами казённой мебели. На столе были самовар, вкуснейшие домашние пирожки с разной начинкой и вино, а разговор шёл незамысловатый, но живой и информативный – о бытовых чёрточках этого (на мой взгляд, очень небезынтересного) заведения.
Но вскоре после переезда Тамары Юрьевны на Петроградскую впечатление это как бы раздвоилось. Как-то раз при мне к Тамаре заглянула поэтесса Нонна Слепакова, жившая двумя этажами выше. Она недавно вернулась из Комарова и забежала ненадолго, на «одну чашку» чая, но успела дать Нелли иную характеристику: «Это невозможно! Она уже пять лет работает в библиотеке, а там царит полнейший хаос! И потом, она то проспит начало рабочего дня, то вдруг заболеет, то лишний день пробудет в Ленинграде. Но главное в том, что эта ваша Нелли – тоже дэтэпэ в своём роде. Только это аббревиатура не от Дома творчества, а от дорожно-транспортного происшествия. Все мы это понимаем и многое прощаем ей за это».
Нонна обладала отточенно-острым язычком, а на тех, кто не хотел попасть на него (в частности, и на меня), она негодовала и обижалась, про себя полагая, что эти гордячки просто не желают понять, что она в качестве женщины деловой, преуспевшей и доброжелательной могла бы поспособствовать их продвижению в ленинградских издательствах.
II. Труды и замыслы Хмельницкой. Перечень работ
Начну с перечня её книг и статей (напечатанных и нет). В воспоминаниях – о ком бы то ни было – это может показаться необязательным и несколько навязчивым. Но всё же, говоря о деле жизни, надо начать с работ, да послужит это мне оправданьем.
Она окончила словесное отделение ЛИИИСКа (ленинградского института истории искусств, где преподавали Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум и В. В. Шкловский) и аспирантуру при нём в 1927-м. И через три года написала работу об Андрее Белом, бо́льшая часть отрывков из неё (много лет пролежав «в столе») была опубликована во время перестройки в Англии и Швеции, а в 1987-м была удостоена Золотой медали Шведской академии наук. Её вторая книга, «Н. А. Некрасов в воспоминаниях и документах» (в соавторстве с Е. М. Иссерлин), оказалась своевременнее и была опубликована в 1931 году в Ленгосиздате. Но третья книга – об И. С. Тургеневе – так и осталась неизданной.
С 1936 года она занималась современной советской и зарубежной литературой, в 1938-м начали выходить её первые статьи, однако вскоре наступает Великая Отечественная война и Блокада Ленинграда. В это страшное время Т. Ю. не покидает город, хотя и находится в списке писателей, подлежащих эвакуации. Но через Союз писателей она ходатайствует о том, чтобы остаться, так как боится оставить родителей без помощи.
После войны она несколько лет занималась переводами. С 1945 по 1955 год были опубликованы статьи о В. Каверине, М. Пришвине, Ю. Тынянове, вскоре выходит и книга «Творчество Михаила Пришвина» (1959). В то же время зачастили и переводы: рассказы Г. де Мопассана, статьи и фельетоны А. де Мюссе, эссе Ж. Санд и А. Франса, письма Ф. Шиллера… Но переводы для неё – лишь приработок, и когда её близкий друг, очень талантливая переводчица Эльга Линецкая, возвращается в пятидесятых из ссылки, Т. Ю. уступает ей своё место в секции переводчиков.
Начиная с шестидесятых она много времени отдаёт чтению лекций. В 1966 году выходит её книга «Голоса времени» (статьи о литературе, советской и зарубежной), в 1988-м – сборник статей «Вглубь характера» (о психологизме позднесоветской прозы). И наконец, в 2014-м (через пятнадцать лет после её кончины) издательство журнала «Звезда» выпускает книгу «Говорить друг с другом, как с собой», содержащую её переписку (1966–1970) с замечательным и большим ленинградским поэтом Г. С. Семёновым.
Но немалая часть книг и статей, написанных ею: об И. С. Тургеневе, о М. М. Зощенко, о поэзии Даниила Хармса и обэриутов, о В. А. Каверине и «Серапионовых братьях» – так и осталась неизданной.
III. Лекции и чудаки
С конца 50-х и почти до конца своих дней она читала лекции о целом ряде западных писателей (от Фолкнера до Фаулера), сохранивших верность идеям гуманизма. Их книги печатались (по частям) в журнале «Иностранная литература». Она ездила в самые разные библиотеки, от главных (Публичной и Академии наук) до маленьких, на закрытых1 и открытых предприятиях города – не проповедуя, не убеждая, а просто рассказывая и объясняя слушателям произведения этих авторов, писавших, казалось бы, про чужаков – своим кротким, одновременно высоким и глуховатым голосом, на безупречном русском языке. Так многие и становились наслышанными о писателях из журнала «ИЛ» (заодно об их персонажах). А те, в свою очередь, становились популярными. У неё был свой круг слушателей: гуманитарии и учёные со свободным расписанием, сидевшие в библиотеках часами, а также и те из работников ИТР, кто днями и вечерами не выходил из своих институтов и КБ. Последних условно назовём высоколобыми блондинами, слегка сутуловатыми шатенами или проще – молодыми людьми с гитарами. Эти скромные глашатаи, начитавшись (с её слов) в первую очередь Сэлинджера, популяризировали журнал «ИЛ» в своей среде.
Прошли и пятидесятые, и первая половина шестидесятых, необходимость в этих лекциях отпадала, тема утрачивала актуальность, читатели сами вошли во вкус чтения её авторов, обходясь без разъяснений, но она находила и выискивала новые имена. Надо сказать, ей очень мало платили за лекции, а она всё равно любила их – кажется, больше неплохо оплачиваемой работы литкритика и эссеиста. Смеясь, она говорила: «Я человек поверхностный, много писать не успеваю», – ставя в пример себе старых знакомцев, Д. Е. Максимова и Л. Я. Гинзбург (действительно печатавшихся больше). Откуда была в ней эта непонятная любовь – но не только к писателям и читателям журналов, а и к людям, временем изувеченным? Ведь героями её авторов чаще всего бывали одинокие чудаки (пост-Диккенс!), ничем не похожие на суперменов, появившихся лет тридцать спустя.
Отчего она так часто вспоминала этих странных, чудаковатых и душевно колченогих («тронутых») современников, покалеченных не только «этим безумным миром», но и временем? В советской литературе (шестидесятых оттепельных и семидесятых мирного сосуществования) про таких ведь не писали. Да и какое ей, в сущности, было дело до иностранных писателей? Все свои книги, напечатанные и нет (кроме половины одной из первых), она посвятила совсем не им. Но если её интерес к гуманистически настроенным авторам журнала «ИЛ» был просто разделён широкой читательской публикой, то любовь ко всевозможным чудакам не раз бывала и взаимной: ведь таковые тянулись к ней, чувствуя защитницу и своего рода ходатая, даже адвоката.
Так, например, она считала, что сосед-алкоголик, дружно презираемый всей их вороньей слободкой, гораздо душевнее других соседей, более благополучных и адаптированных. Я не могу судить, была ли она (в этом конкретном случае) права. Не раз, пытаясь заговорить по-человечески с этим Антоном Горемыкой (его вообще-то звали Олегом Михайловичем), я терпела полное фиаско. Кажется, один раз он даже кинулся на меня с ножом, хотя и совершенно не всерьёз, однако будучи в крепком запое. За что, совсем уже не помню. Многие её друзья боялись идти на эксперимент общения с ним. А сама она была неизменно верна (но, конечно же, не ему, а всем им) вышеупомянутым – такое уж у неё было мировосприятие…
Да, она дружила и с Зощенко. Они познакомились перед его изгнанием из Союза писателей вместе с Ахматовой. А подружились, когда он был в опале и незадолго до его кончины. Она объясняла мне Зощенко, однако не как юмориста («Ирина, стыдитесь, разве вам в самом деле всего лишь смешно?»). Объясняла как большого (не просто советского, а классически русского, несмотря на характерный совсленг) писателя, продолжавшего традиции «Смеха и горя» Лескова и грибоедовского «Горя от ума». Михаил Михайлович нарочито не старался выправить безграмотную косноязычность своих персонажей, не тщился «олитературить» их, сделав приемлемо-приличными для читателей с образованием. И не потому, что принимал их такими, как есть, а тоскуя и болея о жестокости времени, его прокрустовом ложе и неправедном суде, превращавших людей в кого попало, иногда и в топорных, деревянно-оловянных солдатиков.
Как же мне рассказать о деле её жизни, если я тогда ещё и не могла представить себе всё это в полноте? А была ли сама она чудачкой? Может, и да; но в первую очередь она была очень трезвым, даже трезвомыслящим человеком. Да, ей были чем-то до́роги всевозможные чудаки. Но мне кажется, что именно в связи с этой её особенностью, также и послевоенная западная литература с её духом человечности, свободы, чувством локтя. И с заявкой на право каждого быть самим собой, в конце концов, и чудаком.