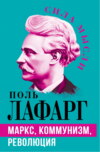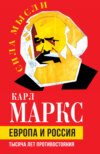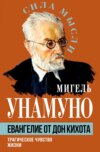Read the book: «Маркс, коммунизм, революция», page 3
Октябрьская революция поставила человеческую проблему, которую отвлечённо решали все нравственные системы мира, на реальную историческую почву. Мечта казалась близкой, но достаточно обратиться к Ленину, чтобы увидеть с какой осторожностью он говорит о возможностях и сроках. Ведь тот образец человека, который ничем не похож на бурсака Помяловского, существовал разве в тесной среде немногих товарищей-революционеров, да и здесь, в своём ближайшем окружении Ленин отметил присутствие многих обычных недостатков и опасных человеческих свойств. Что же касается решающих измерений, то есть большой массы людей, всегда оказывающей своё влияние на деятелей первого плана, то мечтать о лёгкой победе над возрождением привычек старой бурсы в какой-нибудь новой форме было наивно.
Первые шаги советского строя совершались в обстановке одичания масс, вызванного мировой войной. Война развращает людей, она создаёт условия, благоприятные для «босяцких и полубосяцких элементов»[15]. На революцию они смотрят «как на способ отделаться от старых пут, сорвав с неё, что можно»[16]. Борьба с этими «элементами разложения старого общества»[17], широко разлившейся махновщиной – большая страница революционного героизма. Эта борьба много сложнее, глубже и внутреннее, если можно так выразиться, чем простое установление твёрдого революционного порядка.
Дисциплина капитала, опьяневшего от успехов империализма, создавала в мире атмосферу кризиса, который поставил под сомнение элементарные основы общественности. На почве растущей централизации экономической мощи ожили отсталые монархии от Берлина до Токио. Даже более передовые страны превращались, по словам Ленина, в «военно-каторжные тюрьмы для рабочих». И всё это вызвало ответную волну отвращения к безличной, принудительной и лицемерной цивилизации. Подобно тому как это было в Европе накануне французской революции, в эпоху «бури и натиска», но более широко, на самом плебейском уровне, сила отпора приняла многие анархические черты.
Особенно невыносимо было угнетение масс государством, тесно связанным с организациями крупного капитала, в царской России. «Невероятная застарелость и устарелость царизма создала (при помощи ударов и тяжестей мучительнейшей войны) невероятную силу разрушения, направленную против него»[18]. Куда повернёт эта сила в дальнейшем ходе революции? Будет ли она тем движущим началом, которое оживит и наполнит новые формы организации жизни, или эти формы станут казённой вывеской, скрывающей равнодушие и злобу обывателя, похожего на бурсака Помяловского? Не разнесёт ли стихия по кирпичику фабрики и заводы, дворцы и библиотеки старого мира? В апреле 1918 года Ленин сказал: «Капитализм оставляет нам в наследство, особенно в отсталой стране, тьму таких привычек, где на всё государственное, на всё казённое смотрят, как на материал для того, чтобы злостно его попортить»[19].
В старой России связанный с помещичьим землевладением и царской бюрократией крупный капитал властвовал над громадной массой разъединённого мелкобуржуазного населения. Возникшие в результате передела земли двадцать пять миллионов крестьянских дворов создали после революции новый атомный котёл мелкой собственности. С этим фактом приходится считаться во всех областях советского строительства. На I Всероссийском съезде по внешкольному образованию Ленин сказал: «Широкие массы мелкобуржуазных трудящихся, стремясь к знанию, ломая старое, ничего организующего, ничего организованного внести не могли»[20]. И винить их за это было бы исторически несправедливо – крестьянин, грабивший барскую библиотеку, привык отвечать на утеснения власти растаскиванием или даже бессмысленной порчей накопленного старыми классами общественного добра. Всё это было не своё, а чужое, казённое, и вековая ненависть к «казне» создавала особенно дикие формы бунта против неё. Совместного усилия хватало часто для разгрома старого, но не хватало для организации новой товарищеской связи, для защиты народного имущества и добровольного народного контроля.
В прежнем казённом мире даже простое преступление было примитивной формой протеста, вызывая сочувствие к осуждённому. Но привычка к отрицательным действиям, по терминологии Бакунина и его друзей, имевшая глубокие корни в жизни народа, неизбежно должна была стать препятствием на пути к более высоким целям коммунизма. Она грозила остановить общественный подъём в рамках очень размашистой и народной, но всё же только буржуазной революции. Ибо, как не раз объяснял Ленин, особенность буржуазной революции состоит именно в том, что ей достаточно отрицательных действий, то есть разрушения, ломки. Что касается приведения в порядок освобождённых от казённой обузы хаотических общественных сил, то об этом заботиться нечего – буржуазный порядок растёт сам по себе, его создаёт принудительный закон рыночных отношений.
Социалистическая революция не может рассчитывать на успех без добровольной организации подавляющего большинства, и самая решительная, самая глубокая ломка старого миропорядка ещё не служит гарантией от восстановления его в другой форме. Вот почему коммунистическое начало Октябрьской революции могло проявить себя только там, где на месте «российского бестолкового хаоса и нелепости»[21], этой оборотной стороны традиционного деспотизма, возникли первые сознательные общественные связи для объединения миллионов людей.
В широком народном море было и то, и другое. Две формы развязанной массовой энергии ещё раз столкнулись друг с другом в непримиримой противоположности. Именно здесь, а не в прямой схватке с военной силой помещиков и капиталистов прошёл главный водораздел. С одной стороны – сплочение масс в духе пролетарской солидарности под руководством коммунистического рабочего авангарда, с другой – распад на центробежные силы при переходе от праздничного энтузиазма революции к обыденной жизни, борьба за раздел добычи и зависть всякой мелкой собственности к более крупной, не идущая дальше уравнительного коммунизма и взаимного озлобления.
Октябрьский подъём развязал нравственный узел, туго стянутый предшествующей историей, и сознательный авангард страны должен был снова связать его, но связать правильно. Это была задача не из лёгких, ибо известно ещё со времён Добролюбова, что внешних турок победить легче, чем внутренних. Колчак и Деникин были внешние турки. Схватка с ними стоила громадных потерь, и всё же этим аршином мерить другие задачи, стоящие перед народом, идущим к более высокой общественной организации, нельзя.
Самый опасный враг находится здесь, близко, среди нас, говорил Ленин, повторяя свои предупреждения настойчиво, неутомимо. Это не прежний, ясный во всём своём классовом облике белогвардеец, капиталист. Нет, это хуже – хуже именно своей неясностью, неуловимостью. Но это – «враг, погубивший все прежние революции». Столкнувшись с ним, «революция стоит перед какой-то пропастью, на которую все прежние революции натыкались и пятились назад»[22].
Со всей присущей ему энергией мысли Ленин подчёркивал значение новых, особенно непонятных с точки зрения книжного марксизма явлений классовой борьбы. Выбросив за границу два миллиона белогвардейцев, нужно было овладеть своими собственными силами и побуждениями, перегореть самим, добиться торжества «над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину»[23].
Слово эгоизм не раз встречается у Ленина, и несомненно, что в его словах о мелкобуржуазной стихии, неподдающейся разумной организации, моральный оттенок есть. Однако ленинская постановка вопроса не имеет ничего общего с тем осуждением эгоизма, которое превращает фразу о пережитках буржуазного общества в дисциплинарную мораль, направленную против интересов и влечений массы реальных лиц, образующих в совокупности народ. Напротив, адская кухня мелкобуржуазной стихии вовсе не исключает в глазах Ленина, такое блюдо, как возрождение в какой-нибудь новой форме прежней казённой дисциплины, подавляющей личность во имя государственной пользы или во имя самых революционных, но слишком общих идей.
Можно не сомневаться в том, что маоизм – наглядный пример бесцельных усилий победить анархию экономической разобщённости деспотизмом, основанным на социальной демагогии. С исторической точки зрения такие карикатуры сами являются искажением общественной воли в духе обывателя, похожего на бурсака Помяловского. В каждом выходце из старой бурсы, как бы ни был он сам по себе ничтожен, сидит маленький Наполеон, не знающий другой указки, кроме своего произвола. В его бунтарстве таится страшная жажда власти, и деспотизм одного есть равнодействующая множества частных явлений искажённой общественной воли, стремящейся в любом отдельном случае к личной гегемонии вместо товарищеского сплочения.
6
Видимо, существуют такие стороны классовой борьбы, которые сами по себе выдвигают на первый план вопрос нравственный. Человеческие свойства имеют в последнем счёте историческое происхождение, но, раз возникнув, они становятся фактором жизни и оказывают своё влияние на ход истории. Именно после революции разница между людьми, отбор и его общественные формы приобретают самое большое значение. Ссылаться на козни помещиков и капиталистов часто уже нельзя. Начинается громадный, насыщенный глубокими противоречиями период практического анализа собственных сил, размежевания внутреннего, столкновения различных потоков, идущих из глубин на поверхность. «Познай самого себя», – говорит победителю история.
Поскольку приспособление к новому строю становится выгодным с материальной точки зрения и удобным для удовлетворения своего ущемлённого самолюбия за счёт других, для борьбы за престиж, возникает резко проведённая Лениным разграничительная черта между идейным коммунистом и бунтарём-обывателем, достаточно активным, чтобы участвовать в общественной перестройке, но неспособным к моральному сплочению, легко сворачивающим на свою собственную дорожку, карьеристом, хищником и демагогом, эксплуатирующим революционную обстановку в свою пользу. Словом возникает вопрос о мнимых друзьях народа, и это тоже не частный, а большой общественный вопрос, имеющий своё историческое содержание и свой, в конце концов, классовый контур.
«Всякий знает, – говорил Ленин, – что в числе «друзей» большевизма, с тех пор, как мы победили, много врагов. К нам часто примазываются элементы совершенно ненадёжные, жульнические, которые политически колеблются, продают, предают и изменяют. И мы это хорошо знаем, и это нас не меняет. Это исторически неизбежно. Когда меньшевики нас укоряют, что среди советских служащих масса примазавшихся, нечестных, даже в общегражданском смысле, элементов, мы говорим им: откуда же нам взять лучших, как сделать нам, чтобы лучшие люди сразу в нас поверили. Революция, которая сразу бы могла победить и убедить, сразу заставила поверить в себя, такой революции нет»[24].
Как видно из всей деятельности Ленина, он страстно искал возможность привлечь к управлению обществом лучшие элементы, имеющиеся в нём. Эти элементы он перечислил в своей последней статье: «Передовые рабочие, во-первых, и, во-вторых, элементы действительно просвещённые, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, но слова не скажут против совести»[25]. Не раз высказывал Ленин также своё недоверие к «худшим элементам из интеллигенции», которые пользовались колебаниями тех, кто не сразу поверил в революцию, чтобы занять места в советских учреждениях. Обывателя, похожего на бурсака Помяловского, Ленин указывал безошибочно даже там, где обыватель чувствовал себя бунтарём и отрицателем старого, выдавая свои разрушительные фантазии за новую революционную культуру.
Часто является у Ленина и другая мысль великой глубины, развивающая в самых практических оттенках некоторые общие идеи Маркса и Энгельса. Старое классовое общество имело две стороны – лицевую, позитивную и оборотную, отрицательную. Законы его существования выступают в виде системы рациональных норм, абстрактных истин права и нравственности, но под этой внешней корой кипит стихия частных интересов, хаотическая борьба сил, не знающая пощады. Всякая мелкая собственность восстаёт против более крупной и становится, в свою очередь, консервативным оплотом порядка по отношению к «империализму голодранцев», как называли в эпоху первой мировой войны великодержавные претензии нищей Италии. В общем, «анархия – мать порядка», но порядка, основанного на борьбе всех против всех.
Вот почему не всякое отрицание старого имеет социалистическое содержание. Бунт и революция – не одно и то же. Более ста лет назад в связи с «философией бунта» одного из основателей анархизма Маркс и Энгельс перевели эту разницу понятий на язык действительной жизни. Бывает такое отрицание, которое может только усилить известный порядок вещей путём обновления его свежими силами в лице бунтарей, выскочек и анархистов, которым революция может сказать словами поэта – «ты для себя лишь хочешь воли».
Хотя дьявол является отрицанием божества, отвергает его благие предначертания и официальные добродетели, он, в конце концов, необходим божественному закону. Мало того – в опасный час он становится его последним прибежищем. Только сам чёрт может ещё спасти католическую церковь, сказал один из участников Констанцского собора. И Маркс приводит это изречение в связи с цезаризмом Луи Бонапарта, сумевшего ради классовых интересов буржуазии опереться на деклассированные элементы, подонки общества, солдатчину и все агрессивные, тёмные инстинкты мелкого собственника, подобно тому, как это впоследствии сделал Гитлер, как это делали и другие фюреры. «Только воровство может ещё спасти собственность, клятвопреступления – религию, незаконнорожденность – семью, беспорядок – порядок!»[26].
Тайную внутреннюю связь частной собственности и преступления, рациональных норм старого общества и его иррациональной стихии Ленин выразил в своих известных формулах, рассчитанных на понимание широкой массы людей: «Богатые и жулики, это – две стороны одной медали, это – два главных разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это – главные враги социализма». «Те и другие, первые и последние – родные братья, дети капитализма, сынки барского и буржуазного общества, общества, в котором кучка грабила народ и издевалась над народом, – общества, в котором нужда и нищета выбрасывала тысячи и тысячи на путь хулиганства, продажности, жульничества, забвения человеческого образа»[27].
За этими простыми словами – громадный перелом, меняющий всю систему равновесия, все отношения нравственной жизни общества. В течение веков сложилось прочно вошедшее в быт убеждение, согласно которому подъём угнетённых классов снизу грозит обрушить своды возведённые всей предшествующей историей культуры. Сами защитники народных интересов выступали больше под знаменем «идеи отрицания», как писал Белинский, и это было оправдано. Ещё Лафарг назвал истину, добро и красоту великими проститутками. В зеркале всей общественной идеологии, включая сюда и художественную литературу, восставшие титаны или богоборцы, дети Земли, призванные взорвать светский порядок олимпийской цивилизации.
Теперь роли меняются. Старый мир богатства и угнетения вышел из полосы света, и его господствующая идеология погрузилась в хаос иррациональных представлений. Важные места заняли в ней идеи, принадлежавшие раньше анархизму. Ленин видел это уже в первые годы Октябрьской революции, хотя в те времена было ещё не ясно, что это явление со всеми его превращениями, и крайне-левыми, и крайне-правыми, со всеми свойственными ему взрывами социальной демагогии может окрасить собой целую эпоху.
В наши дни отрицать присутствие бунтарского элемента в самых реакционных идеологиях невозможно. Эти духовные сдвиги отвечают реальным изменениям исторической обстановки. Капитализму империалистическому с его новой казёнщиной сопутствует в качестве её оборотной стороны не простая игра частных интересов, а роковая борьба за место под солнцем, слегка прикрытая нравственным лицемерием, но далеко ушедшая от старины «нормального» капитализма прошлого века.
Так далеко тянутся нити, которые нужно отделить друг от друга, распутав сложный клубок человеческих отношений на пороге возникающего мира. Революционное отрицание старой организации жизни должно перейти в отрицание старой дезорганизации. Это обязательное условие. Социализм отвергает классовую мораль буржуазного строя, но он не может победить без укрощения ещё более опасного врага – присущего старому обществу аморализма, освобождённого от всяких норм. Задача, ясно очерченная Лениным, состояла в том, чтобы оградить здоровое ядро революции масс от всяких карикатур на общественные преобразования, от элементов распада прежнего общества, голого, «зряшного» отрицания с его атмосферой насилия, агрессивности хамства, выдаваемых часто за что-то неподкупно революционное, с его возвращением к идеалу мёртвого покоя в духе бюрократической утопии одного из учеников Хулио Хуренито, Карла Шмидта, или в духе известного нам «бравого нового мира». Долой бога, но долой и дьявола!
С этой точки зрения понятна также борьба Ленина за создание жизненной обстановки, в которой народные массы могли бы усвоить «вполне и настоящим образом» лучшие, классически развитые формы культуры вместо продуктов разложения этой культуры, сеющих только анархический бунт против неё. Устами Ленина Октябрьская революция объявила себя не восстанием разрушительных сил против человеческого образа жизни, созданного веками, а прочным оплотом истины, добра и красоты.
Нет ничего удивительного в том, что этот поворот революции к положительным ценностям человеческого мира, освобождённым от лицемерия и дряблости притоком нового народного содержания, это необходимое даже для простого сохранения жизни на Земле революционное отрицание отрицания навлекло на Ленина упрёки в консерватизме. Ещё в 1918 году эсер Камков кричал, что Ленин повернул назад – сегодня он говорит «не укради», а завтра скажет «не прелюбы сотвори»[28]. Борьба политическая удивительным образом сочетала в одном общественном потоке самые радикальные фразы мелкобуржуазной революционности и всякого рода отрицательные действия анархистов и полуанархистов с грубой стихией мошенничества, спекуляции и простого разбоя.
Тут поднял голову «некий маленький чумазый, число ему миллион»[29]. Этот новый паразит быстро приспособился к условиям жизни, и его защитная краска, отвечавшая цвету революционного знамени, хорошо помогала ему в борьбе за существование. «У богатого взял, а до других мне дела нет»[30]. «Нас всё время угнетали, нас давили всё время – ну, как же нам не воспользоваться ныне столь удобным моментом»[31]. Таковы были плебейские формулы бунтаря-обывателя, втайне стремившегося стать наследником Октябрьской революции. Среди этого «миллиона» были, конечно, люди, далёкие от сознания общественной природы своей активности. Они могли искренне чувствовать себя Маратами пролетарской революции. Но от их фанатических революционных жестов, так же как от всякой лишней, бесцельной ломки, тянулась нить к чему-то худшему – простому хулиганству, ради того чтобы показать свою независимость, и далее – к политическому авантюризму, насыщенному желанием командовать другими людьми, дорваться до личного произвола. За всем этим стояла опасность ещё большего масштаба – растущие во всём мире новые формы буржуазного самовластия, окрашенного социальной демагогией. Ибо, по словам Ленина, «из каждого мелкого хозяйчика, из каждого алчного хапателя растёт новый Корнилов»[32].
В психологии этого микроскопического претендента на личное возвышение была заложена и возможность насилия, якобы революционного, над массой трудящихся, насилия, обращённого против своих. «Надо избегать всего, – говорил Ленин, – что могло бы поощрить на практике отдельные злоупотребления. К нам присосались кое-где карьеристы, авантюристы, которые назывались коммунистами и надувают нас, которые полезли к нам потому, что коммунисты теперь у власти, потому, что более честные «служилые» элементы не пошли к нам работать вследствие своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, нет никакой честности. Эти люди, которые стремятся только выслужиться, пускают на местах в ход принуждение и думают, что это хорошо. А на деле это приводит иногда к тому, что крестьяне говорят: «Да здравствует Советская власть, но долой коммунию!» (т. е. коммунизм). Такие случаи не выдуманы, а взяты из живой жизни, из сообщения товарищей с мест. Мы не должны забывать того, какой гигантский вред приносит всякая неумеренность, всякая скоропалительность и торопливость»[33].
Эта неумеренность, излишнее усердие за чужой счёт, чтобы выдвинуться и показать себя, преувеличение государственной целесообразности и пользы, ведущее к обратному результату, вера в приказ вместо органической работы над товарищеским сплочением масс в труде и управлении государством, – всё это связано, в глазах Ленина, с бюрократическим извращением Советской власти. Но откуда растёт бюрократизм в революционной обстановке? Это Gegenstuck крестьянства пишет Ленин в плане брошюры о продовольственном налоге[34], то есть подобие мелкого хозяина и вместе с тем дополняющая его противоположная крайность. Это надстройка над множеством мелких и одинаковых центробежных сил, попытка создать объединение самым лёгким, административно-казённым путём вместо действительно единства воли трудящегося большинства. Бюрократизм – лестница для подъёма тех социальных сил, которым нет и не может быть нормального выхода на почве советской демократии.
Анализ этой опасности в речах и произведениях Ленина останется навсегда образцом глубокой марксистской диалектики. Мы только в начале понимания тех философских и социальных оттенков мысли, которые вкладывал Ленин в свои выступления, вызванные всегда острой практической необходимостью. Эта практическая оболочка часто пугает своей простотой слабую мысль, умеющую ценить только дешёвые побрякушки профессорской науки. Между тем после Герцена и Достоевского именно Ленин, и притом в явлениях громадного масштаба, раскрыл удивительные изломы психологии взбесившегося обывателя, больного манией величия ничтожного Фомы Опискина и вообще маленького чумазого, имя ему миллион.
Но указав на то, что Октябрьская революция имеет своего опаснейшего врага, очень похожего на дьявола in persona, Ленин должен был также указать верный путь к победе над этим злом.
Любое богатство, любые успехи науки и техники и всё, что может отсюда произойти – телевизоры, холодильники, автомобили, сияние рекламы и лучшая организация обслуживания, ничто не спасёт человечество от страшных бедствий, от неожиданных падений в море крови и грязи, если люди не сумеют устроить свои внутренние, общественные дела, то есть заменить казённую дисциплину старого мира товарищеским сплочением масс трудящихся, открыть дорогу скрытой энергии миллионных масс. На вершине личного благополучия, среди временного сытого счастья каждое избранное меньшинство подстерегает жестокий вопрос – прочно ли это благополучие, и покоится ли оно на справедливой основе? Не имея желания впасть в библейский тон, мы всё же можем сказать о тех, кто слепо гордится своим копеечным раем, словами одного из героев Достоевского: «О, им суждены страшные муки, прежде чем достигнут царствия божия».
Ленин был сторонником материалистической философии и в царство божие не верил. Его анализ нашей эпохи исходит из реальных экономических отношений. Но он хорошо понимал, что общественная драма совершается не по ту сторону добра и зла, как думал Ницше. Нет, нравственный узел, связывающий между собой исторические явления, существует – за всё нужно платить. Последнее относится, конечно, не только к старому миру. Во время революции тоже делаются глупости – эти слова Фридриха Энгельса Ленин любил повторять. Делают и преступления. Но там, где зло совершается во имя революционных целей, – это неизбежный след их содержания. Там же где струя радикально-злого примешена историей к потоку революционного творчества, как это бывало и прежде во всех больших общественных движениях, ход вещей не остановится, пока не произведёт своего неизбежного размежевания.
«Восходящей силе всё помогает, – писал Герцен, – преступления и добродетели; она одна может пройти по крови, не замаравшись, и сказать свирепым бойцам: «Я вас не знаю, – вы мне работали, но ведь вы работали не для меня»[35].
7
Противники Октябрьской революции отказывают ей в «метафизической глубине». Они сводят её духовное содержание к идеалам пользы, техники и силы. Но это может быть справедливо только по отношению к мнимым друзьям революции и людям, лишённым школы революционной теории, способным заблуждаться и понимать её более по-ницшеански, чем по-марксистски. Будущий историк общественного сознания покажет, какую отрицательную роль играло после Октября наметившееся ещё в эпоху первой русской революции смешение большевизма с «боевизмом». Все известные нам формы преувеличения целесообразности и насилия по своему историческому месту относятся больше к современному типу буржуазной идеологии с её культом дьявола, чем к нравственному миру Октябрьской революции. Это голос «маленького чумазого», которому никогда не бывает тепло, пока другому не холодно.
В период взятия власти Советами Октябрьская революция была наименее кровавой из всех, но вооружённое сопротивление реакционных сил, выстрелы террористов вызвали взаимное ожесточение и красный террор. Народное правительство России сделало попытку осуществить переход к новым общественным отношениям постепенно, без особой ломки. Однако противная сторона пустила в ход всё, чтобы, по словам Ленина, «толкнуть нас на самое крайнее проявление отчаянной борьбы»[36]. Возможно, сбылось то, что предсказывал Герцен, Чернышевский, Лавров ещё в XIX веке, предупреждая, что время не терпит и лучше имущим классам уплатить свой вековой социальный долг без задержки. Большую роль сыграли также последствия затянувшейся войны. В таком глубоком кризисе, который переживала страна, варварские методы борьбы были неизбежны – или белый террор, или красный.
Спор о насилии – одна из обычных тем современной общественной мысли. В открытом насилии не нуждаются классовые силы, господство которых достаточно прочно и без него, ибо это господство опирается на экономическую власть, разобщение нации, привычку к подчинению традиционному порядку вещей и другие подобные факторы. Но спокойствие силы не даёт сильному никакого морального права гордиться своим миролюбием, тем более что при первой необходимости он показывает зубы. Поэтому пропаганда буржуазного либерализма есть лицемерие, в лучшем случае – это наивность. Насилие само по себе отвратительно, однако решимость применить оружие в правом деле – признак мужества.
«Есть ли разница между убийством с целью грабежа и убийством насильника?» – спрашивал Ленин. И действительно, чем можно ответить на этот вопрос, требующий прямого выбора? Идеей мирного непротивления злу? Но даже сторонники этой теории завели у себя танки и самолёты, как только создали своё государство. Идеалом чистой науки? Но за последние десятилетия наука так запуталась в делах мира сего, что ею злоупотребляют не меньше, чем любой революционной идеей. Стоять же воплощённой укоризной над своей эпохой, придумывая для неё устрашающие определения, вроде «эпохи дезагрегации», «эпохи отчуждения», «эпохи страха», – это вообще не выход для серьёзной мысли, это нравственная поза, не более.
При известных обстоятельствах насилие есть неизбежная, хотя и тяжкая необходимость. Но только с обывательской точки зрения суть революции заключается в насилии. На деле это лишь одна из её сторон, и далеко не главная. Вот мысль, которую Ленин настойчиво стремился утвердить в сознании коммунистов, своих сторонников, ещё в те времена, когда вокруг бушевало пламя гражданской войны.
Можно ли обойтись без насилия? Такой путь есть. Он состоит в осуществлении на деле товарищеской дисциплины трудящихся масс вместо казённого подавления их самодеятельности, присущего старому обществу и вызывающего ответную реакцию безразличия, злобы взаимного ожесточения. Исторически рабочий класс, по выражению Ленина, является классом-объединителем. Такова его общественная роль по отношению к громадному большинству населения, состоящему из различных социальных типов мелкого самостоятельного хозяина или зависимого от других «маленького человека» вообще.
Что нужно делать для того, чтобы такое объединение, поднятое на громадную высоту великим порывом Октябрьской революции, превратило общество в сплочённую силу, а не распалось на отдельные части, знающие только своё и озлобленные против других частей и против самого общества? К этому сводится главное содержание известного выступления Ленина на съезде союзов молодёжи. «Воспитание коммунистической молодёжи должно состоять не в том, что ей подносят всякие усладительные речи и правила нравственности. Не в этом состоит воспитание». Воспитывать может только живое участие в общем деле, активной самоорганизации всех трудящихся против паразитов, эгоистов и мелких собственников.
Ленин не устаёт повторять эти простые слова широкой массовой политики, отражающие великий поворот неистраченной общественной энергии в сторону коммунистического товарищества и действительно всеобщего просвещения. Коммунист – слово латинское, оно происходит от слова «общий». Быть коммунистом – значит поднимать активные силы народа, объединять их, создавать сплочение, единодушие, добровольную организацию. Старая абстрактная мораль не оправдала себя – «для коммуниста нравственность вся в этой сплочённой солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против «эксплуататоров»[37].
Перед нами громадный исторический факт. Неприкосновенный запас прочности, созданный Октябрьским переворотом вопреки всем усилиям врагов и мнимых друзей, оправдал себя на протяжении полувека и сохраняет своё значение до сих пор. Между тем испытания неслыханные, зигзаги великой сложности. Чего только не придумала старушка история за эти пятьдесят лет! Целые поколения сошли со сцены, и среди них люди, сохранившие превосходные душевные качества, и люди утратившие их, и люди просто случайные. Но исторический исход решают массы, даже когда на поверхности это не так. И самое главное – они продолжают его решать. Что бы ни было впереди, они решат его до конца.
The free excerpt has ended.