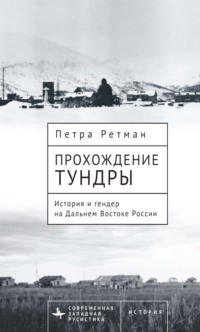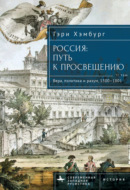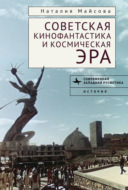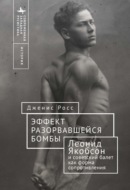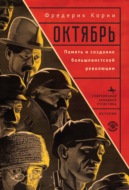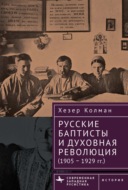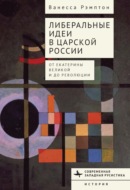Read the book: «Прохождение тундры. История и гендер на Дальнем Востоке России»
Предисловие
Ориентиры
В январе 1992 года я приехала на северо-восточное побережье полуострова Камчатка на Дальнем Востоке России с намерением исследовать процесс советизации в той форме, в какой он протекал вплоть до середины 1980-х годов в среде оленеводов-коряков – коренного народа, населяющего северную часть полуострова. Особенно меня интересовало, каким образом советская система государственной власти и управления сумела утвердиться на полуострове и установить здесь авторитарный режим. Какими средствами государство проводило в жизнь свои идеи? Как внедряло политические изменения? Как повлияли эти процессы на жизненный уклад коряков? И как оленеводы приспосабливались к историческим сдвигам, которые радикальным образом изменили их существование в тундре? Эти вопросы казались актуальными по нескольким причинам. Ко времени горбачевской перестройки западный мир имел смутное представление о жизни коренных народов Севера России. Каково им приходилось при советском режиме? Как они переносили советскую власть и господство, как справлялись с этими факторами в повседневной жизни? Принесут ли им горбачевские нововведения автономию и экономический прогресс? По мере того как контуры Советского Союза растворялись в воздухе, на первый план все явственнее выдвигался национальный вопрос. При этом уже не оставалось сомнений, что эпический путь преобразований в России – от царизма к советской власти и далее, к зарождению демократии – был не таким прямым и безоблачным, как могли бы предположить общественные деятели, ученые и политики. На самом деле он был омрачен социальными потрясениями, удивившими многих наблюдателей.

Карта 1. Россия и бывший СССР
В начале 1990-х годов внимание средств массовой информации было в основном приковано к взрывоопасным территориям между Черным и Каспийским морями, а также к странам Балтии и Средней Азии: именно здесь выдвигались самые категоричные требования национальной автономии, шло самое активное культурное самоутверждение и раздавались самые настойчивые призывы к международному сообществу о политической поддержке. И хотя борьба за автономию, характерная для жизни в постколонии [Freidin 1994], привлекала к этим регионам повышенное (и заслуженное) внимание, на северные окраины бывшей империи оно не распространялось. На фоне хаоса, царившего в то время в постсоветском обществе, коренные народы, казалось, замкнулись в собственном внеисторическом мире, где ничего не происходило. Конечно, в начале 1990-х годов зазвучали отдельные голоса в защиту тундры, уничтожаемой государственным перевыпасом скота (в рамках коммунистической плановой экономики) и нефтяными заводами, и против истощения других природных ресурсов (см., например, [Мурашко и др. 1993; Клоков 1996], а также ряд публикаций в журнале «Живая Арктика»). Но этих протестов было недостаточно, чтобы обеспечить коренным народам Севера место на телеэкранах. Такое безразличие имеет давнюю традицию и, по-видимому, служит продуктом городского воображения, представляющего незападные «примитивные» культуры как «холодные» [Леви-Стросс 1994], то есть заведомо пассивные и однообразные. В применении к коренным народам Севера России эта метафора приобретает оттенок особенно горькой иронии: жизнь в холодных широтах не заслуживает даже нескольких строчек в газете.
Что касается научных исследований, посвященных России и постсоветским обществам, то здесь недостаток внимания к проблеме коренных народов, по-видимому, объясняется тем, что исторические и политические интересы ученых были в основном сосредоточены на урбанизированных центрах и обходили периферию. При этом иностранные исследователи имели весьма ограниченную возможность проводить этнографические полевые работы, в частности, на российском Дальнем Востоке – ситуация изменилась лишь в конце 1980-х годов, когда перестройка уже набрала обороты. Так что, с одной стороны, игнорирование политической и географической периферии лишь отчасти объясняется равнодушием исследователей к «захолустным», расположенным вдали от больших городов регионам, с другой же стороны, североамериканская и европейская наука долгое время интересовалась в первую очередь различиями между демократическими и государственно-социалистическими представлениями о власти, а вопросы национализма и идентичности чаще всего рассматривала в свете социалистических представлений об общественном развитии и государственном строительстве – то есть упор делался на политические структуры и государственную политику, практически без учета борьбы за власть и авторитет на местах. Так что возможность понять советский мир сильно ограничивалась рамками этой понятийной дихотомии. В результате до недавнего времени исторические и социальные проблемы коренных народов, живущих в неурбанизированных, периферийных регионах, оставались практически неизученными. Но политические процессы и изменения, которые принесла в Россию перестройка, а также новые подходы как в постсоветских исследованиях, так и в социальных науках в целом, сделали возможными альтернативные точки зрения, позволяющие по-новому взглянуть на вопросы власти, идентичности и культурных различий [Rethmann 1997]. Так, например, рушится западное представление о России и, соответственно, ее народе как о политическом Другом или «чуждой цивилизации». Вместо жестких политических разграничений появились аргументы в пользу диалога и признания проблем друг друга1. Мы надеемся, что настоящая книга внесет посильный вклад в реализацию возможностей и интеллектуальных перспектив, открытых этими новыми подходами.
Написанная в момент исторического разлома, эта книга служит одновременно отражением исторических условий, способствовавших изменению жизни коряков в постсоветский период, и хроникой современной повседневной жизни на северо-восточном побережье Камчатки. С начала 1990-х годов как в трудах социологов, так и в прессе (например, «Нью-Йорк таймс» и «Торонто глоуб энд мейл») все больше внимания стало уделяться социально-экономическим трудностям, с которыми сталкиваются коренные народы России. Публиковались сообщения о беспросветной нищете в поселениях коренных народов, о тяготах безработицы, нехватке денежных средств, голоде, распространении болезней, таких как туберкулез, рак и цинга, а также о губительных последствиях пьянства. В контексте обсуждения всех этих социальных зол важно отметить, что социальные бедствия и экономическая разруха во многом способствовали состоянию общего неблагополучия и запустения, в котором пребывают сегодня коренные народы России2. Однако, наверное, не менее важно то, что, подчеркивая социальное неблагополучие коренных народов, мы помещаем их в рамки дискурса угрожаемости, а это, в свою очередь, оставляет мало места для признания их созидательных усилий в формировании нового будущего.
Главный принцип, лежащий в основе этой книги, – отказ воспринимать и описывать корякских женщин и мужчин как культурно «вымирающего Другого»: подобную характеристику коренных жителей российского Дальнего Востока можно встретить во многих СМИ. Такой взгляд не принимает во внимание творческую изобретательность, с которой корякские женщины и мужчины, например, ищут социальные выходы и возможности утверждать свои формы достоинства и уважения. Да, их попытки смягчить суровые жизненные обстоятельства порождаются неблагополучием, но также демонстрируют нежелание с этим неблагополучием мириться. Одна из целей этой книги – исследовать творческий потенциал местных жителей, позволявший и позволяющий им противостоять и бросать вызов исторически сложившемуся неравенству. Вторая цель состоит в том, чтобы привнести в социологический дискурс, посвященный сложностям и проблемам постсоветской жизни, гендерную составляющую, в частности рассмотреть основные трудности, с которыми сталкиваются как женщины, так и мужчины корякского народа. И третья цель – внести свой вклад в понимание более широких социально-политических проблем, встающих перед коренными народами российского Севера.
Исследовательские связи
Эта книга основана на результатах полевых исследований в ходе двух поездок на север Камчатки. Моя первая поездка длилась десять месяцев, с января по октябрь 1992 года, а вторая – пять, с июня по ноябрь 1994 года. В обоих случаях я жила в поселках Тымлат и Оссора, преимущественно в домах двух корякских семей, которые меня принимали и заботились обо мне с необычайной щедростью и теплотой. Жизнь бок о бок с этими людьми стала для меня постоянным напоминанием о важности социальных возможностей и о лишениях, которые терпят те, кто живет жизнью, отличной от моей. В те годы крайняя нищета и всевозможные формы социального насилия стали настоящим бичом корякских семей. Поистине невозможно измерить глубину бедствий, которые приходится терпеть жителям северо-восточного побережья Камчатки. Пьянство, безработица, отсутствие у коряков культурной автономии и самоуправления, программы переселения, «бартерные сделки», при которых универсальной валютой служит бутылка водки или самогона, плюс катастрофическое истощение иностранными корпорациями природных ресурсов, в частности земель и популяций морских животных, – все это усугубляло у коряков чувство социальной депрессии и заброшенности. Не раз поутру, прогуливаясь по берегу, мы с друзьями-коряками натыкались на галечную отмель, усеянную дохлой рыбой со вспоротыми брюшками, из которых извлекли икру. В то время как алчные браконьеры выгодно сбывали добытый продукт – черную икру, трупы так и оставались гнить на суше. Вечная нехватка продовольствия, пьянство и растущая безработица делали жизнь совершенно беспросветной. Летом 1994 года население находилось на грани голода. Жители поселка каждый день ходили в тундру за грибами и ягодами, многие проводили целые недели на берегу, собирая моллюсков и ловя рыбу, чтобы прокормить семью. Пошатнувшаяся экономика и политическая непредсказуемость, от которых страдала вся страна, сказалась – и весьма разрушительным образом – и на жизни коряков, жителей северо-восточного побережья Камчатки.
Из-за условий, в которых я жила и работала, фокус моих исследований начал смещаться. Я поняла, что далеко не все проблемы, важные для меня, сколько-нибудь волнуют знакомых мне корякских женщин и мужчин. Да, они тоже задавались историческими вопросами; их тоже интересовали причины, по которым они дошли до такой жизни. Но больше всего им хотелось обсудить текущие социальные и политические катаклизмы, отравившие их существование. Так я начала задавать вопросы, которых ранее не планировала и, пожалуй, даже не могла себе представить. Почему жизнь коряков полна лишений и отчаяния? Как повлияли на жителей поселка глубокие изменения в российском политическом дискурсе и экономическом устройстве? Почему в региональных политических и общественных объединениях я так часто слышу жалобы женщин на гендерное неравенство? И, учитывая существующие в поселках этнические сложности, как люди справляются с напряженностью и многогранными межэтническими различиями?

Карта 2. Камчатский край
Когда мы преодолели первую неловкость в общении, меня начали все чаще расспрашивать о том, как живут люди у меня на родине. Тогда я стала понимать, что вопросы, задаваемые этими женщинами и мужчинами, напрямую связаны с проблемами и предметами, которые их по-настоящему заботят и о которых они постоянно думают. В то время как вопросы мужчин (на которые я редко могла дать удовлетворительный ответ) касались в основном жизни диких животных в Германии и Северной Америке, женщин больше интересовали отношения между женщинами и мужчинами в странах, в которых я жила. Хотят ли североамериканские женщины тоже иметь много детей, спрашивали они. Почему у меня нет детей? Всегда ли мужчины были такой тягостной обузой, как те, которых они знают? В результате я начала интересоваться темами, достойными обсуждения по мнению самих коряков. И то, что в этой книге я уделяю особое внимание историческим и гендерным вопросам, служит моим собственным ответом на многочисленные дискуссии о местных изменениях, государственной власти и гендерной дифференциации.
В этих наших беседах я старалась отвечать на каждый вопрос так честно, как только могла, и не боялась открыто говорить о трудностях. Я беседовала со старыми и молодыми, в квартирах, в палатках, на снегу, в поездках или на рыбалке, и постоянно делала заметки. Записи я вела не скрываясь, и это часто вызывало вопросы: мои собеседники хотели знать, что я записываю. При этом они редко прерывали разговор, а иногда диктовали мне, что именно я должна записать. В ходе общения возникали все новые поводы для обсуждения разных проблем, и это позволяло мне задавать вопросы по темам, которые при иных обстоятельствах я затронула бы в лучшем случае мимоходом. Подобные диалоги открыли мне пространство, в котором я могла учиться у корякских женщин и мужчин; эти беседы сделали такую этнографию возможной.
Мы общались с коряками по-русски. Русский – единственный язык, на котором говорили почти все знакомые мне жители северо-восточного побережья. Однако многие корякские старики русского не знали; как бы то ни было, между собой они общались на своих корякских диалектах. Поздней весной 1992 года я прожила два месяца в оленеводческом лагере и там приобрела элементарные познания в рекинниковском диалекте: их было достаточно для того, чтобы называть некоторые предметы обихода и инструменты, но не для общения. Многие коряки среднего и молодого возраста уже не владели языком своих родителей, бабушек и дедушек. Тех, кто им владел и кого я хорошо знала, я часто просила стать для меня переводчиками. Например, рассказ Нины Ивановны, приведенный в главе 4, прозвучал на корякском диалекте села Анапка3 и был записан и переведен на русский ее старшей дочерью.
Мое решение называть имена и упоминать личные обстоятельства отдельных людей было сопряжено с определенной дилеммой и некоторым риском. Однако я изменила имена всех людей, о жизни которых рассказываю в этой книге, за исключением тех, о ком идет речь в главе 4. В этой главе представлены рассказы трех пожилых корякских женщин, каждая из которых недвусмысленно выразила желание, чтобы ее имя было названо. Подразумевалось, что эти истории – их творение, себя они считали авторами. Я старалась также уважать желания и требования других людей, фигурирующих в этой книге. Хотя я стремлюсь к точному изображению, в некоторых случаях пришлось несколько изменить детали и личные обстоятельства, чтобы сделать людей неузнаваемыми и защитить от неприятностей, которые могли бы им принести их рассказы. В деревнях на северо-восточном побережье люди часто называют друг друга терминами родства, а также прозвищами и уменьшительными именами в знак привязанности и тепла. Тем не менее я предпочла использовать в основном полные русские имена, пусть даже с риском, что не сумею передать те отношения близости, которые наблюдала на северо-восточном побережье. Надеюсь, это сделает моих героев еще менее узнаваемыми.
В конце концов, использование географических названий и личных имен – это мой выбор и, следовательно, моя ответственность.
При написании этой книги я столкнулась еще с одной проблемой. В каком времени писать этнографическое исследование? Думаю, для коряков это имеет огромное политическое значение; для области науки, в которой я работаю, ответ на этот вопрос также имеет политический (равно как и интеллектуальный) смысл. С одной стороны, подчеркивание постоянного «этнографического присутствия» может навести на мысль, что культуры существуют как однородные, спаянные традициями единства, не меняющиеся с течением времени. Использование этнографического настоящего опасно тем, что изымает из истории категорию времени, тем самым превращая культурного Другого во вневременные примитивы, анахроничные марионетки традиций [Fabian 1983]. С другой стороны, использование прошедшего времени также сопряжено с проблемой: в отличие от этнографического настоящего, оно как будто подразумевает, что «примитивы» – это пережиток прошлого. Слишком уж легко городским читателям в этом случае заподозрить, что между примитивным и современным мирами пролегает (непреодолимая?) пропасть. Таким образом, использование прошедшего времени говорит не о том, что у коренных народов есть история, а скорее о том, что они и есть история. В этой книге я использую как этнографическое настоящее, так и этнографическое прошедшее, причем использую их непоследовательно. Например, ведя хронику повествований корякских женщин об истории региона, я использую этнографическое настоящее, таким образом демонстрируя, что то, что можно легко отнести к области истории, все еще живо и актуально. Но о стараниях одной молодой корякской женщины создать для себя социальные возможности я рассказываю в прошедшем времени, чтобы показать, что условия жизни на севере Камчатки быстро меняются.
К кому бы я ни приходила на северо-восточном побережье, меня встречали одновременно с любопытством и уважением. Люди стремились что-то узнать о мире, который я, по идее, знала лучше всего; я пользовалась авторитетом чужеземки, у которой есть чему поучиться. Однако мое непростое положение иностранки то и дело сказывалось. В целом мне разрешалось достаточно много передвигаться, однако поездки в другие места, кроме поселков, в которых я жила, стали проблемой. Местные чиновники, имевшие некоторую власть над моими перемещениями, часто отказывали мне в разрешении путешествовать по северо-восточному побережью. Формы надзора иногда были комбинированными: например, однажды я узнала, что к моим друзьям-корякам заявились местные военные и стали расспрашивать, какие я задавала вопросы. Впав в панику, я уже подумывала о том, чтобы и вовсе отказаться от проекта. Но друзья посоветовали мне успокоиться: в конце концов, они всю свою жизнь сталкивались с подобными проблемами и знали, как отвечать на такие вопросы. Мне остается только сказать им спасибо за великодушие и находчивость.
В этих условиях притеснения, а иногда и открытых угроз, мое присутствие на северо-восточном побережье часто требовало от меня определенной позиции, так что во многих случаях я не могла сохранять нейтралитет. Поскольку я жила в двух семьях, меня часто втягивали в местные споры и просили занять чью-то сторону. Таким образом, эта книга предполагает некоторую пристрастность с моей стороны. Но чем осуждать эту пристрастность как неспособность соответствовать требованиям профессиональной объективности и непредубежденного нейтралитета, лучше, как мне кажется, спросить о конкретных формах моей пристрастности. Свои аргументы я изложу в форме рассказа-иллюстрации, чтобы разъяснить свою позицию и показать истоки некоторых моих подходов к решению ряда исследовательских проблем.
Кирилл привел к Галине в гости русского предпринимателя. Никто его не знал, но ходили слухи, что он из Петропавловска и хочет создать в Тымлате туристический бизнес. Он приехал, чтобы заручиться моей помощью. Идея состояла в том, чтобы открыть в поселке центр охоты и рыболовства, в первую очередь для состоятельных охотников и иностранцев. Эти люди, по его словам, были готовы платить огромные деньги за охоту на дикого барана, волка и медведя. Когда он начал говорить, Галина предложила ему один из трех имеющихся в доме стульев, чтобы гость мог сесть за стол. Но тот резким тоном объявил Галине, что предпочитает поговорить со мной наедине. Дружелюбием в его словах и не пахло.
Галина пригласила его на кухню, где он с недовольным видом уселся на шаткий стул. Равнодушным взглядом он окинул детей Галины и бабушку, которая впоследствии дала ему прозвище Рыбий Глаз. Его попытка изобразить на лице любезную, но неискреннюю улыбку осталась без ответа. Галина выставила из кухни двоих детей и продолжала заниматься своими делами, вместе с Кириллом, бабушкой и мной слушая его предложения. Он в ярких красках обрисовал свой проект бизнеса, в котором будут задействованы иностранцы. Это, говорил он, сулит поселку огромный экономический подъем: никому не придется бояться безработицы, так как будет полно и работы и денег; времена финансовых трудностей наконец закончатся. По меньшей мере половина поселка будет занята в его фирме, а если я его поддержу, то эти планы легко воплотятся в жизнь. Моя помощь ему требовалась, чтобы рекламировать его туристическую фирму в зарубежных газетах и журналах для охотников. Однако когда Галина начала придирчиво выспрашивать у него подробности, он «раскололся».
Он рассказал, что намеревается построить недалеко от поселка небольшой охотничий домик, куда мужчины-коряки будут доставлять еду, снаряжение и другие необходимые охотникам припасы. При этом, пояснил он, коряки не должны показываться гостям на глаза: слишком уж они грязные и вонючие, и их вид может отпугнуть любого охотника из-за рубежа. Я была поражена таким откровенным проявлением расизма и человеконенавистничества. Помогать ему я наотрез отказалась, и он разозлился. Он объявил, что в ближайшие дни вернется и сделает мне еще одно предложение. Если я не передумаю, пригрозил он, то больше ни в чем и никогда не получу помощи ни от одного жителя поселка: уж он об этом позаботится.
Конечно, Рыбий Глаз не мог причинить мне никакого вреда, но его запугивания не были пустыми угрозами. Несколько раз он возвращался, все более откровенно угрожая мне, а потом и Галине. Похожие ситуации возникали в ходе обеих моих полевых экспедиций. Некоторые проблемы, с которыми я столкнулась в ходе своего исследования, не рассматриваются в этой книге подробно, но я не обхожу их стороной. Просто вместо того, чтобы анализировать их в духе саморефлексивного письма, я упоминаю о них тогда, когда считаю это полезным или необходимым.