История пиратства. От викингов до наших дней
Text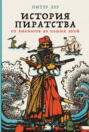


Go to audiobook
- Size: 390 pp. 43 illustrations
- Genre: Nonfiction, Foreign journalism, popular history
Найти корабль в море
Для того чтобы стать пиратом, в первую очередь необходимо судно, на котором можно заниматься грабежом и мародерством. Средневековый пиратский «стартап» обычно решал эту проблему, либо устроив мятеж на борту купеческого или военного корабля, либо похитив подходящее и неохраняемое судно, стоящее на якоре. Многие пираты начинали свое дело одним из этих способов. К сожалению, источники, освещающие Средние века, не содержат детальных описаний зарождения пиратских банд – доступная информация, как правило, касается пиратов, уже сделавших себе имя, вроде Клауса Штёртебекера[8], Годеке Михеля из виталийских братьев и ликеделеров или каперов наподобие Монаха Юстаса или дона Перо Ниньо[9], которые получили свои суда от уважаемых сеньоров. В дальнейшем мы увидим примеры успешных пиратов, которые начинали карьеру либо с подстрекательства к мятежу, либо с кражи неохраняемого судна, но это, несомненно, происходило и в более ранний период.
Устоявшиеся пиратские банды выбирали определенный тип корабля в зависимости от излюбленных мест промысла. Если это были прибрежные воды недалеко от их собственных баз, использовались легкие и быстрые суда, идеально подходящие для засад; по этой причине ускоки – пираты, рыскавшие по Адриатическому морю в 1500-е годы, – предпочитали сравнительно небольшие галеры, известные как браццере (brazzere). Если же охота велась в открытом море, пираты склонялись в пользу мореходных судов – как правило, таких же, как у честных морских купцов. Например, виталийские братья плавали на тех же вездесущих коггах[10], что и весь Ганзейский союз, но с большей по численности командой и с боевыми надстройками на носу и корме. Так что эти пиратские корабли выглядели в точности как военные суда Ганзы, известные как Friedeschiffe, или «мирные корабли». Китайские и японские пираты Восточно-Китайского моря того периода тоже предпочитали использовать переделанные торговые корабли – чаще всего китайские джонки – в силу их распространенности и невинного внешнего вида{54}. Для стремительных прибрежных набегов подходили небольшие весельные суда, которые часто превращали в боевые корабли, установив на носу и корме пару боевых башен и увеличив численность команды.
Как только пираты приобретали подходящее судно и выходили в море, им нужно было найти свою цель. До изобретения радара определение местоположения корабля зависело от точки наблюдения. Согласно простой математической формуле, человек ростом 173 см, находящийся на уровне моря, обозревает горизонт примерно на 5 км; если он поднимется на 100-метровый утес, то горизонт расширится примерно до 40 км. В силу дефицита утесов в открытом море альтернативой становилось «воронье гнездо»[11] на главной мачте, которое искусственно увеличивало дальность обзора до 15–25 км в зависимости от высоты мачты. Это означало, что все-таки шанс упустить жертву оставался огорчительно высоким.
Конечно, пираты подтасовывали карты в свою пользу, выбирая удобные места, где можно встретить много кораблей. Они либо активно искали их вдоль основных морских путей, либо устраивали засаду в подходящем укромном месте, чтобы напасть на ничего не подозревающее судно. Иногда для засад использовались даже прежде безопасные порты и их стоянки. В своих путевых заметках знатный генуэзец XV века Ансельм Адорно рассказывает историю одной такой засады у хорошо известного и прежде считавшегося безопасным порта. В мае 1470 года Адорно направлялся в Святую землю на борту огромного 700-тонного генуэзского корабля, «надежно защищенного орудиями, арбалетами и дротиками… помимо ста десяти вооруженных людей для отражения атак пиратов или турков»{55}. По пути судно должно было пришвартоваться в сардинском порту Альгеро, но из-за своих размеров вынуждено было встать на якорь за его пределами; Адорно и его сотоварищи-пилигримы отправились в порт на корабельных баркасах. В самом порту ничего плохого не случилось. Но, когда паломники поплыли назад, внезапно налетели пираты, пытаясь маневрировать между генуэзскими баркасами и «плавучей крепостью». Капитан корабля генуэзцев спас положение решительными ответными мерами: он немедленно приказал команде открыть по пиратам огонь, чтобы не дать им приблизиться, и выслал две лодки с вооруженными людьми, дабы безопасно конвоировать паломников на борт{56}. В других случаях экипажу и пассажирам везло меньше: их нередко захватывали, грабили и держали в качестве пленников до тех пор, пока не будет уплачен выкуп{57}.
Некоторые пираты, более организованные, старались загодя получить информацию о том, когда корабль с дорогостоящим грузом окажется в определенном месте, – чтобы устроить засаду. К примеру, пираты-ускоки имели наводчиков и информаторов в портах Адриатики и даже в самой Венеции. Как-то раз в сентябре 1586 года венецианское правительство «узнало, что духовный служитель из Лезины, Франческо да Бруцца, шпионит: он не только сообщал ускокам об отплытии каждого корабля, но и подсказывал, где можно найти товары, принадлежащие турецким подданным»{58}.
Тем пиратам, которые орудовали в открытых водах, а их корабли находились вдали от берега и были вне зоны видимости, требовалась определенная степень сотрудничества друг с другом. В конце XIII века пираты Аравийского моря, омывающего западное побережье Индии, пытались обнаружить, перехватить и преодолеть оборону торговых судов, большинство из которых держались у берега из соображений безопасности. Известный путешественник Марко Поло вспоминал:
Из области Мелибар [Малабар], да еще из другой, что подле и зовется Гузуратом [Гуджаратом], каждый год более ста судов выходят другие суда захватывать да купцов грабить. ‹…› Иные из этих судов отделяются от других, плавают и там и сям, выжидают. ‹…› [Но иногда] соберутся словно отряд; один от другого станет милях в пяти… как завидят судно с товарами, зажигают огни и подают друг другу знаки; и оттого ни одному судну тут не пройти, всякое перехватят{59}.
Марко Поло описал также ответные меры со стороны этих ранних мореходов: «Купцы знают разбойнические обычаи… снаряжаются и изготовляются хорошо… защищаются храбро и разбойникам вред наносят»{60}. Тем не менее многие корабли все же становились жертвами пиратов{61}.
Для более инициативных пиратов и каперов или для тех, кому надоедали бесплодные ожидания какого-либо судна на горизонте, формула успеха могла заключаться в курсировании вдоль берегов, известных своим плотным движением и слабой защитой. Если пират или капер считал себя достаточно сильным либо в его распоряжении был небольшой флот, он мог также совершать набеги на прибрежные деревни и небольшие города – не без риска, но с тем преимуществом, что место известно ему заранее. Для христианских и мусульманских корсаров Средиземноморья набеги на побережья были обычной стратегией: захват местных жителей, которых затем продавали на невольничьих рынках, был частью их особой бизнес-модели.
Порой, если неудачливому пирату случалось нарваться на военный корабль, выполнявший антипиратскую операцию, тогда охотник превращался в добычу. Другим риском для блуждающего в поисках жертвы пирата было истощение запасов воды и провизии вдали от дружественных берегов. Особенно уязвимыми в силу многочисленности экипажей оказывались галеры, выходившие в море на долгое время: помимо значительного числа моряков и солдат на них обыкновенно находилось более сотни гребцов, которых надо было кормить и поить. Например, легкая галера с командой в двести человек, включающей гребцов, моряков, солдат и командиров, которые потребляли около 90 галлонов (340 л) воды в день, обычно везла от 800 до 1500 галлонов (от 3000 до 5600 л){62}. Это значит, что максимальная продолжительность плавания до истощения запасов воды составляла всего около двух недель. Так как капитаны корсарских судов постоянно зависели от погодных условий, они не всегда могли добраться до безопасных гаваней для того, чтобы пополнить запасы. Например, в 1404 году сильные штормы помешали флоту кастильского корсара дона Перо Ниньо, состоявшему из нескольких хорошо укомплектованных оружием и людьми галер, вернуться в Испанию: флот прибило к пустынному острову близ Варварийского берега. Сумев растянуть запасы воды на двадцать дней (что само по себе поразительно), Перо Ниньо убедил свою отчаявшуюся и изнывавшую от жажды команду попытаться пополнить припасы на враждебном Варварийском берегу, хотя там их могли подкараулить в засаде и уничтожить. Но в тот день удача сопутствовала Перо Ниньо: когда приблизилось ополчение мусульман, корсары уже успели наполнить бочки{63}. Галерам удалось отплыть, никто из экипажа не был схвачен или ранен, но они находились на волосок от гибели. Этот случай показывает, насколько опасной была жизнь пирата или корсара – даже до того, как им удавалось обнаружить добычу.
Завладеть добычей
Пираты из голливудских фильмов обычно запрыгивают на палубу атакуемого корабля, чтобы затеять отчаянную схватку на рапирах, саблях, кинжалах, пистолетах и мушкетах. Но реальные пираты по большей части надеялись избежать кровопролитной стычки и делали ставку на «шок и трепет», как сказали бы мы сегодня, стараясь подчинить жертву без единого выстрела. Как пишет историк Питер Эрл, «важна была ценность добычи, а не слава»{64}. При этом, конечно, не все пираты стремились уклониться от схватки. Викинги, например, считали себя воинами и мечтали погибнуть, сражаясь. Насколько можно судить по скудным источникам, то же самое можно сказать и об оранг-лаутах, и о пиратах вокоу. Описаны даже случаи, когда пираты решались на самоубийственную атаку, вызывая огонь неприятеля на себя{65}, что скорее отвечает представлениям о регулярных вооруженных силах. Но это были исключения: большинство «обычных» пиратов надеялись добиться своего, просто подняв пиратский флаг.
Часто они приближались к ничего не подозревающему судну под флагом законопослушного торгового корабля, а затем внезапно меняли его на печально известное черное знамя с черепом и скрещенными костями либо на какой-то местный эквивалент – это был самый надежный способ привлечь внимание другого корабля. Испуганная команда, как правило, сдавалась без боя, в надежде выжить после этой встречи, даже если она означала утрату их имущества и корабля. Простое сравнение численности экипажей показывает, что любая попытка противостоять пиратам была безнадежной. В то время как людей на торговое судно набирали экономно и обычно не больше пары дюжин рук, команда пиратского корабли почти всегда была намного больше и состояла из хорошо обученных и закаленных в боях моряков-воинов. Уже сам вид пиратов, теснящихся за фальшбортом и размахивающих смертоносным оружием, включая кортики и сабли, их крики и угрозы, должно быть, становились тяжелым испытанием для команды торгового судна. Чувство абсолютного ужаса и понимание, что разбойники проявят милосердие лишь в том случае, если им не будут препятствовать, приводили к тому, что экипажи отказывались вступать в бой, несмотря на приказ капитанов. Иными словами, пираты побеждали в психологической битве, не рискуя собственными жизнями, – именно на это они и рассчитывали. Долгий методичный грабеж, следовавший за захватом корабля, обычно был продолжением этого эффекта шока и трепета. Успешно взяв судно на абордаж, пираты, как правило, демонстрировали настоящую жестокость, подкрепляя своим поведением идею бесполезности сопротивления.
Однако избежать сражения удавалось не всегда. Если нападение на корабль встречало серьезное сопротивление, столкновение перерастало в кровавый ближний бой. Как раз такой бой между небольшим отрядом викингов и огромным мусульманским судном произошел в начале 1150-х годов в Средиземном море. Ярл[12] Рёгнвальд Кали Кольссон совершал паломничество в Рим и Святую землю в сопровождении епископа по имени Вильям. Несмотря на благочестивую цель путешествия, ярл не усматривал ничего плохого в том, чтобы ограбить встретившихся на пути «безбожных» мусульман – совесть свою он успокоил клятвой отдать половину добычи бедным. Мусульманское судно, встреченное его флотом из девяти ладей где-то у берегов Сардинии, выглядело устрашающе – викинги, приняв его поначалу за гряду облаков, идентифицировали затем как дромон[13] – крупную галеру. Грозный неприятель имел мощную оборону, и епископ предупредил ярла: «Думаю, сложно будет встать рядом с ним борт о борт. ‹…› В лучшем случае зацепишься за его планширь топором, и тогда они обольют тебя серой и кипящей смолой с ног до головы»{66}. Епископ, скорее всего, имел в виду разновидность знаменитого греческого огня – горючей жидкости наподобие современного напалма, которую метали во вражеское судно при помощи сифонов, работавших от нагнетательных насосов. Чтобы одолеть мощного врага, викинги воспользовались многочисленностью своего флота. Пока одни ладьи пускали ливни стрел по дромону, отвлекая его команду, другие быстро приближались к судну – важно было выиграть время, так как сифоны нельзя было наклонить настолько, чтобы поразить цель в непосредственной близости. Затем последовал жестокий ближний бой: «Люди на дромоне, сарацины… среди них изрядная доля чернокожих… оказали серьезное сопротивление» – настолько ожесточенное, что в итоге викинг Эрлинг заработал свое прозвище. «Запрыгивая на борт дромона, Эрлинг получил ужасную рану в шею ближе к плечу, и впоследствии она зажила так неудачно, что до конца жизни викинг ходил, склонив голову набок, отчего стал зваться Эрлинг Кривошеий». В конце концов викинги одержали победу, убив почти всех, кто был на борту дромона, за исключением одного высокого воина, которого посчитали предводителем сарацин, и нескольких других, взятых в плен. Ограбив дромон, викинги подожгли его, а ярл Рёгнвальд восславил успешную битву и храбрость Эрлинга поэмой, в которой похвалы удостоились и противники: «Доблестный Эрлинг, метатель копья, с жаром победным бросился он на корабль со стягом кровавым: воинов черных и храбрых мужей мы либо пленили, либо убили, наши клинки обагрив»{67}.
Даже отважному кастильскому корсару дону Перо Ниньо не всегда удавалось уклониться от сражения. В 1404 году его галеры провели несколько дней в засаде у одного острова близ Туниса в надежде подстеречь какое-нибудь мусульманское судно. Однако мимо так и не прошел ни один корабль. Потеряв терпение, Перо Ниньо решил, наконец, направиться прямиком к самому Тунису – поступок весьма дерзкий, если принять во внимание защитные сооружения порта. Тем не менее в Тунисе людям Перо Ниньо удалось застать врасплох одну галеру и убить или пленить всех, кого они на ней обнаружили. Затем корсар и его команда напали на огромное тунисское торговое судно. Здесь Перо Ниньо совершил оплошность: хотя тунисский корабль отступил в узкий пролив, он не прекратил преследование, а продолжил. Едва нос его галеры столкнулся с кормой торгового судна, Перо Ниньо немедленно запрыгнул на борт, вероятно решив, что он первый из большого абордажного отряда. Однако при столкновении с массивным галеасом[14] его собственное небольшое судно отбросило назад, так что команда корсара не сумела подняться на борт. Верный адъютант и биограф Перо Ниньо Гутьерре Диас де Гамес утверждает, что оказавшийся на палубе вражеского корабля корсар бился, как лев, пока его корабль не вернулся в прежнее положение и товарищи не поспешили ему на помощь. Впрочем, спасение храброго, но опрометчивого капитана, пострадавшего от собственной поспешности, было не единственной проблемой: из-за узости пролива вдоль бортов обоих судов со стороны берега образовалась толпа тунисских моряков и солдат. То, что обещало стать победоносным набегом, превратилось в отчаянную борьбу за выживание: «Столь велика была толпа, что стрела не могла упасть промеж них, не найдя жертву, как и каждый ружейный выстрел не мог миновать цель»{68}. В конце концов серьезно раненный Перо Ниньо сумел вскарабкаться на свое судно, которое взяла на буксир галера его кузена и вывела из пролива. Несмотря на некоторые художественные вольности, Диас де Гамес точно описывает особый характер абордажа хорошо подготовленного к самообороне вражеского судна: кровопролитие, хаос, бедлам, а в данном случае немалую роль сыграли жители порта.
В северных водах в этот период не было специализированных военных кораблей вроде галер. И купцы, и пираты плавали на неуклюжих коггах, снабженных боевыми платформами; экипажи их были вооружены кинжалами, мечами, топорами, пиками, луками и арбалетами, а в некоторых случаях и новинкой того времени – аркебузами, довольно тяжелыми, громоздкими и ненадежными (к тому же очень дорогими) фитильными ружьями, которые заряжались с дула{69}. В известном смысле такие огнестрельные орудия часто уравнивали шансы в обычном одностороннем столкновении между бдительным ганзейским торговым судном и пиратским кораблем: преступникам не всегда удавалось достичь своей цели. В 1391 году несколько кораблей виталийских братьев напали на огромный когг из Штральзунда, предполагая, вероятно, что самого их вида будет достаточно для того, чтобы заставить купцов покориться. Но, к удивлению пиратов, многочисленная и хорошо оснащенная команда штральзундского когга вступила в ожесточенную схватку. Штральзундцы не только храбро отразили попытки пиратов взять их на абордаж, но даже перенесли бой на палубы пиратских кораблей. Хотя масштабная рукопашная схватка должна была стать весьма кровопролитной, штральзундцы вышли из нее победителями и захватили более сотни пиратов{70}. Так как у них не было при себе достаточного количества цепей и кандалов, мстительные победители попросту засунули своих пленников в большие бочки, так что из сделанных в них отверстий только головы торчали. Дальше эти бочки с человеческим грузом везли, как обычные, – с полнейшим пренебрежением к сохранности того, что внутри{71}. Плененных виталийских братьев достали из бочек, когда корабль в целости вернулся в Штральзунд, – лишь затем, чтобы спустя несколько часов обезглавить их{72}.
Набеги на побережье
Пираты нападали не только в море – существовало также привилегированное пиратство в виде настоящих флотов, больших и малых, способных проводить широкомасштабные десантные операции и на суше. Во времена Аббасидского и Фатимидского халифатов (750–1258) сарацинские пираты регулярно устраивали организованные набеги на средиземноморские берега христианского мира – от греческих островов до Франции и Испании. В 838 году, например, флот пиратов-сарацин напал на Марсель, разграбил город и предал его огню. Также сарацины разорили церкви и монастыри, а священников, монахинь и мирян захватили в плен, чтобы получить за них выкуп или продать на невольничьих рынках{73}. Во время другого нападения, случившегося четыре года спустя, в октябре 842 года, сарацины проплыли 30 км вверх по устью реки Роны до Арля, сея разрушения и не встречая сколь-нибудь организованного сопротивления{74}. То был не первый и не последний набег на Арль: сарацины продолжали возвращаться сюда до 973 года, когда войска графа Арльского Вильгельма I вступили с ними в бой и разбили. Но сарацинам было недостаточно французских берегов: 27 августа 846 года крупный пиратский флот напал на Рим. И пусть пираты не смогли проникнуть за мощные стены самого города, для них нашлось достаточно добычи в богатых и незащищенных виллах на окраинах и в базилике Святого Петра{75}. Впрочем, захватчики не успели насладиться своим новоприобретенным богатством: по пути домой их суда предположительно затонули в «ужасном шторме», так как сарацины «поносили своими скверными устами Бога, Господа нашего Иисуса Христа и его апостолов», как благочестиво записано в Бертинских анналах{76}. Говорили даже, что часть сокровищ, похищенных из базилики, впоследствии вынесло волнами к берегам Тирренского моря, где их и обнаружили – вместе с трупами все еще цеплявшихся за них пиратов, – а впоследствии триумфально доставили в Рим. Но, вероятно, это все же скорее благочестивое принятие желаемого за действительное, чем изложение фактов.
Прошло не так уж много лет, когда сарацины и христиане вновь сошлись в схватке. В сентябре 869 года сарацинский флот, напавший на Камарг, сумел застать врасплох и пленить почтенного архиепископа – Роланда Арльского. По иронии судьбы священника схватили как раз в тот момент, когда он занимался проверкой антипиратских мер защиты побережья. Как обычно в случаях захвата знатных пленников, за него запросили и получили выкуп. К несчастью, престарелый Роланд умер прежде, чем его успели вызволить. Сарацины, верные своему слову, передали христианам труп архиепископа, усадив его в кресло в полном облачении.
Но не только средиземноморское побережье христианского мира страдало от крупномасштабных разрушительных рейдов. На севере тем же самым занимались викинги. Поначалу нападения происходили в ходе небольших экспедиций через Северное море к британским, ирландским и франкским берегам – в основном с целью разведки прибрежных зон и пригодных для прохода кораблей речных систем. Обычно в таких походах участвовало всего десять – двенадцать кораблей с командой общей численностью до пятисот человек{77}, по существу это были грабительские налеты{78}. Первый такой набег, как сообщается, произошел против Портленда на побережье Дорсета в 787 году:
Тогда король Беорхтрик взял в жены дочь короля Оффы. И в его дни впервые приплыли три корабля, и герефа [должностное лицо короля] поскакал к ним и хотел отвести корабельщиков в королевский город, поскольку он не знал, кто они такие; и его убили. Так впервые корабли данов приплыли в землю англов{79}.
Ошибку не заподозрившего опасности магистрата – королевского герефы Беадухерда, который принял пиратов за честных торговцев, можно понять, так как в ту эпоху «купцов не всегда можно было отличить от разбойников»: довольно часто это были одни и те же люди, которые решали, заниматься им торговлей или грабежом, в зависимости от обстоятельств{80}. Но ошибка оказалась смертельной. Первоначальное замешательство по поводу мотивов «гостей» уступило место настоящему потрясению, когда в 793 году викинги разграбили знаменитый монастырь Линдисфарн.

1. Драккар (ладья викингов). Корабли этого типа использовались в пиратских набегах, таких как нападение на Линдисфарн
То нападение было словно гром среди ясного неба: в тот день с утра ни у кого из монахов не было ни малейшего предчувствия беды. Так как никто не ждал опасности с моря, дозорных на посту не было, и некому было предупредить о грядущем. Вероятно, стремительно приближавшиеся ладьи вызвали любопытство, а потом страх – но к тому времени уже поздно было что-то делать, кроме как бежать. Английский хронист и монах Симеон Даремский сообщает:
…в церкви Линдисфарна, проникнутой духом тоски и запустения, царили кровь и разруха, не осталось камня на камне. [Они] попрали святыни своими нечистыми ногами, распотрошили жертвенники и похитили все сокровища церкви. Кого-то из братии они умертвили, кого-то забрали с собой в цепях, а большую часть раздели догола, надругались и изгнали из врат, иных же утопили в море{81}.
Ужасающее нападение на Линдисфарн стало переломным моментом истории, после которого мир, казалось, стал другим, – это было начало «эпохи викингов».
Неудивительно, что нападение на церковь воспринималось как проявление религиозной ненависти, «жажды христианской крови», по образному выражению исландского писателя Магнуса Магнуссона{82}. Но сами викинги рассматривали церкви и монастыри как места, где рассчитывали найти немало добра, которое можно унести, и это делало их набеги прибыльными и выгодными{83}. В религиозных центрах вроде Линдисфарна происходили не только церковные службы, там находились производственные мастерские и проживали высококлассные ремесленники, в том числе золотых и серебряных дел мастера. Они создавали изящные художественные произведения для украшения алтарей, реликвариев и молитвенников; на фоне средневекового ландшафта – с крестьянскими дворами, маленькими деревушками и относительно небольшими городами – монастыри были самым подходящим местом для хранения всего, что имело экономическое или культурное значение{84}. И наконец по иронии судьбы, поскольку монастыри строили на островах или вдоль береговой линии, чтобы обезопасить святые места от постоянных войн на суше, они оказывались не только богатой, но и легкой добычей для морских разбойников. Так что не вера (религия), а жадность (мародерство) заставляла викингов нападать на беззащитных монахов и священников.
Непрерывные династические распри и сопутствующие им гражданские войны во Франции и Германии были на руку викингам, создавая условия для все более дерзких нападений в самом центре континента без опасений встретить скоординированную оборону. Ученый монах Эрментарий Нуармутьеский в 860 году описывал ужасающую картину: «Число кораблей растет; бесконечный поток викингов не прекращается. Повсюду христиане становятся жертвами резни, пожаров и грабежей. Викинги покоряют все на своем пути, не встречая сопротивления»{85}. В 885 году крупные силы порядка 30 000 человек на 700 кораблях под предводительством Сигфреда, вождя данов, взяли в осаду сам Париж. Это был третий раз, когда викинги отважились на подобное предприятие, впрочем в данном случае не добившись привычного успеха. Немногочисленные, но решительные защитники под умелым руководством графа Эда Парижского – двести профессиональных бойцов и городское ополчение – смогли вопреки всем ожиданиям отбить нападение грозных воинов.
Пираты восточных морей тоже устраивали грабительские налеты в духе викингов, правда в более поздний период. Когда в XV веке японские разбойники высадились на китайском побережье, «Хроники империи Мин» свидетельствовали: «Японцы коварны от природы. Они часто перевозят на своих кораблях японские товары и оружие. Они снуют вдоль побережья, то появляясь, то исчезая. При первой возможности они достают оружие и предаются безудержному грабежу. В ином же случае они предлагают купить у них товары в знак уважения»{86}. Опять же отличить торговцев от разбойников было трудно, потому что часто это были одни и те же люди. Как и в случае с викингами, поначалу довольно спонтанные налеты вскоре переросли в крупномасштабные прибрежные рейды с участием десятков или даже сотен кораблей. Кроме того, пираты заходили в судоходные реки, чтобы грабить города, расположенные на удалении от морского берега и не предпринимавшие антипиратских мер. Если набеги не встречали решительного отпора, они быстро превращались в сухопутные войны, которые даже давали начало империям. К примеру, у буддийского монаха Сюй Хая было больше общего с вождем викингов, чем с обычным пиратским капитаном: весной 1556 года он отправил в порты и селения на обеих сторонах реки Янцзы два отряда вокоу численностью в несколько тысяч человек, которые безжалостно разоряли, насиловали и убивали местных жителей. Сопротивление им оказывалось слабое и сводилось оно к неэффективным действиям местных ополченцев. К несчастью для жертв, хорошо обученные регулярные войска правительства были заняты боевыми действиями с грозными монголами на севере Китайской империи{87}. После налетов, однако, пираты постоянно ссорились друг с другом из-за дележа добычи{88}. Это их и погубило. После года успехов пираты были истреблены вернувшимися регулярными правительственными силами под умелым командованием генералов Ху Цунсяня и Юань О. Чтобы сократить число пиратов прежде чем вступить с ними в бой, генералы прибегли к хитроумной тактике:
Ху, сочтя, что в данных обстоятельствах брать нужно хитростью, а не силой, заманил разбойников на лодку, груженную более чем сотней кувшинов с отравленным вином, на борту которой под видом поставщиков провианта находились два надежных солдата. Едва завидев неприятельский авангард, те бежали. Разбойники же, захватив отравленное вино, сделали привал и устроили попойку. Некоторые умерли{89}.
И все же, когда дело доходило до тактики сражения, викинги и вокоу имели перед оборонявшимися преимущество, поскольку могли выбирать, куда нанести удар. Они проводили прибрежные разведывательные операции, высаживали десант для защиты плацдарма, а затем продвигались вглубь территории и в ходе флангового маневра нейтрализовали обороняющиеся силы. Там, где это было возможно, налетчики использовали системы судоходных рек. Викинги часто плыли вверх по Рейну, Сене, Луаре и Гвадалквивиру, чтобы попасть в населенные пункты вроде Кёльна, Трира, Парижа, Шартра и Кордовы. Подобным образом и флот вокоу проникал вглубь Китая, используя крупные речные системы и сети каналов для нападения на внутренние районы. Очевидец тех событий Сю Цзе вспоминал, что поначалу «пираты только похищали людей и вынуждали их родственников платить за них выкуп. Затем они заняли наши внутренние районы и остались там, где были, убили наших военачальников, напали на наши города и лишили нас всякой надежды»{90}. Похождения викингов и вокоу, безусловно, разительно отличались от тех морских стычек, которые обычно ассоциируются с пиратством. Невольно задаешься вопросом: когда пираты перестают быть пиратами и становятся чем-то иным, строителями империй например? Тем не менее, если под пиратством понимать грабеж, похищения, насилие в море или с моря без законных на то оснований, очевидно, что викинги и вокоу в период Средних веков и раннего Нового времени были не кем иным, как пиратами.
