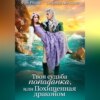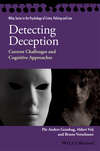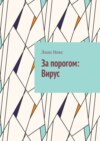Read the book: «Казань и Москва. Истоки казанских войн Ивана Грозного»
© Канаев П. Н., 2024
© ООО «Лира», 2025
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Предисловие
В истории любой страны есть «события-звезды», которые на протяжении столетий приковывают к себе внимание исследователей, деятелей искусства и простых обывателей. В случае с Россией это Ледовое побоище, Куликовская битва, опричнина, реформы Петра Великого – можно перечислять долго. Вехи и впрямь знаковые, но в их густой тени теряется масса всего не менее интересного и важного.
Сложилась подобная ситуация и в тематике русско-казанских отношений. Взятие Казани Иваном Грозным безжалостно перетягивает на себя одеяло общественного внимания. В конце концов, до 1552 года никакого завоевания не было, так о чем тут вообще говорить? В чем черпать фактуру великим творцам вроде режиссера Эйзенштейна, так ярко показавшего штурм ханской столицы? Но ведь не сразу все устроилось, Казань не сразу бралась. Этому предшествовали долгие и непростые исторические процессы. Без их хотя бы общего понимания нельзя полностью осознать смысл того, что произошло в 1552-м.
При этом в историографии русско-казанским контактам до Ивана Грозного уделяется немало внимания. Начиная с 30-х годов прошлого века и по сей день на эту тему выходят монографии, научные статьи, публицистические работы. Зато в массах немногие помнят даже о том, что первым взял Казань в 1487 году Иван III, дед грозного царя. Хорошо хоть данный эпизод нашел отражение в историческом романе «Басурман» Ивана Ивановича Лажечникова1 и других немногочисленных произведениях.
Отношения же между двумя государствами во времена Василия III для большинства вовсе окутаны туманом, как и в целом фигура этого исторического деятеля, затертая между своими великими отцом и сыном. А ведь Василий Иванович породнился с казанской правящей династией и основал первую опорную базу на восточном направлении, Васильгород (современный Васильсурск), открыто взяв курс на полноценное завоевание волжского ханства.
Впрочем, само по себе все это крайне интересно, но мало о чем говорит «в вакууме». Гораздо важнее иметь представление об экономических, военно-политических, культурных интересах Москвы и Казани, которыми объясняются их действия. Иначе частности легко вырываются из контекста, и мы получаем «кровавую колонизацию Поволжья», «геноцид татар» или же, напротив, казанских рейдеров-кочевников, которые только и жили грабежом русских земель. Удивительно, что даже в научном сообществе подобные заявления нередки. Ни к чему хорошему такие вбросы не приводят, даже когда речь идет о «делах давно минувших дней». Достаточно вспомнить межнациональные конфликты времен крушения СССР, чеченские войны и т. д. Единственное действенное оружие против всего этого – понимание объективного хода истории и истоков тех или иных событий. В частности, казанских войн Ивана Грозного.
Настоящая книга – попытка осветить в популярной манере предысторию вхождения волжского ханства в состав Московского государства. Русско-казанское взаимодействие во второй половине XV – первой трети XVI века рассматривается сразу в нескольких важных разрезах: военном, политическом, дипломатическом и экономическом. Отдельное внимание уделяется причинам усиления московской экспансии в Поволжье, начиная с правления Ивана III, а также с татарских набегов на российские пограничные территории.
Наряду с тематическими блоками в книге дается обзор основных событий в московско-казанских сношениях обозначенного периода. Рассказывается о внутреннем устройстве и особенностях поволжского ханства, сравнивается военный потенциал двух государств.
От данника до Третьего Рима, или Как Москва завоевала завоевателей
Взятие Казани Иваном Грозным – лишь один из эпизодов «завоевания завоевателей», которое начинает в XVI столетии Русское государство. Ближайшие к нему осколки Золотой Орды один за другим признают власть нового «белого царя», а некогда глухой деревянный Мушкаф2 превращается в столицу значительной части Евразии.
Как же именно «последние стали первыми»: порабощенная рыхлая конфедерация объединилась в могучую силу и сама развернула свою экспансию на Орду? Предпосылки этого процесса, и в том числе казанских войн Ивана Грозного, прослеживаются еще в татаро-монгольском нашествии. Используя модное современное выражение, Бату-хан изначально «заложил атомную бомбу» под татарским владычеством над Русью. Нашествие не только смело с лица земли множество городов и сел, но и подготовило почву для возвышения новых местных центров силы, освоения более передовых сельскохозяйственных технологий и экономических отношений. Все это позволило русским землям накопить достаточные ресурсы, чтобы в конечном счете переломить ситуацию в свою пользу. Тем более Орда слабела и дробилась, давая нарождавшемуся Русскому государству в руки все козыри.
Помимо объективных процессов, сыграла свою роль и историческая случайность: объединителем русских земель вместо Белокаменной вполне могла стать, скажем, Тверь или даже Вильна. Не забудем и о значимости личности в истории. Ведь Иван III «Россию поднял на дыбы и так стоять ее оставил»3 еще за несколько столетий до Петра Алексеевича, заложив базу будущей империи, а заодно и впервые взяв Казань. Постараемся кратко рассмотреть все эти факторы, пронесшись галопом от Батыевых времен до эпохи Ивана Великого.
Фактор 1. «Атомная бомба» Батыя
Многие древнерусские «мегаполисы» так и не оправились от Батыева погрома, навсегда превратившись в периферию. Им на замену стремительно развивались молодые города, такие как Тверь, Нижний Новгород и, конечно же, Москва, отданная в середине XIII столетия в удел младшему сыну Александра Невского Даниилу.
Пока был жив гроза шведов и немцев, его усилиями сохранялось призрачное подобие единства Северо-Восточной Руси. Как только Невского не стало, началось ее стремительное дробление на «сильные и независимые» княжества. Сыновья Даниила Александровича вдруг осознали свое величие и взяли себе соответствующую титулатуру. Не отстали от них правители Твери, Суздаля, Ростова, Ярославля, которые также записались в великие князья. Такое «самовозвеличивание» имело под собой определенную экономическую почву: оборотной стороной опустошительного татарского нашествия стало постепенное усиление и обогащение феодальной прослойки в новых княжеских центрах. Объяснялось это массовым бегством крестьян с насиженных речных террас, легкодоступных для татарской конницы, на «холмы». Там, на водоразделах, была масса нетронутой земли, которая раньше никак не использовалась в сельском хозяйстве. Да, для ее обработки требовались титанические усилия, а непроходимые леса и девственная целина оказались более грозными врагами Руси, чем монгольские орды.
Однако «Микула Селянинович»4 в итоге выиграл в этой войне, заслужив звание главного русского богатыря.
Кратное увеличение сельхозплощадей дало возможность развивать более продвинутую агрокультуру – трехполье. С середины XIII века в источниках все чаще начинают встречаться соответствующие обозначения – «озимь» и «ярь». Ранее отрезать от дефицитных прибрежных пашен существенный кусок под озимые культуры, которые требуют массу времени для вызревания и могут померзнуть суровой русской зимой, означало риск голодной смерти. Теперь же смелые аграрные эксперименты приводили к расширению кормовой базы и увеличению прибавочного продукта выросших на руинах домонгольской Руси новых княжеств. А значит, пропорционально росла их военная мощь, которая впоследствии будет обращена против татарских завоевателей.
Несколько иначе сложилась ситуация в Господине Великом Новгороде. Практически не затронутая татарским нашествием, обширная новгородская земля сохранила свою целостность. Разве что от нее откололся «младший брат» Псков, но это была совсем небольшая территория. Новгороду удалось избежать разорения и упадка, царившего в других русских землях.
Казалось бы, вот он – «пламенный мотор» освободительного движения и объединения всей Руси. Но нет, «Афины Северо-Запада» такую ответственность на себя не взяли. Во-первых, Новгороду и так неплохо жилось в сравнении с разгромленными в пух и прах соседями, и вызывать на себя татарский «бич божий» боярская республика вовсе не собиралась. Во-вторых, новгородская земля была крайне неплодородной и сильно зависела от поставок зерна, в первую очередь из Северо-Восточной Руси. Этой ахиллесовой пятой новгородцев умело пользовалась Москва. Так, знаменитый князь Иван Калита девять лет по совместительству княжил в Великом Новгороде, что позволяло ему снимать сливки с балтийской транзитной торговли и оказывать определенное влияние на «город вечевой вольницы».
Фактор 2. Историческая случайность, или По-настоящему эффективные менеджеры
Со времен Ивана Калиты московские князья планомерно шли к царскому венцу и единой независимой державе. Не сидели сложа руки и главы других княжеских центров: первенство Москвы в разное время оспаривали Тверь, Рязань, Нижний Новгород. Но все же не их имена, выражаясь языком Александра Сергеевича, напишут на обломках ордынского владычества.
Период правления Ивана Даниловича Калиты довольно красноречиво описывает Симеоновская летопись, созданная в конце XV века и дошедшая до нас в единственном полном списке XVI столетия:
«Нача Иван Данилович правити. И бысть оттоле тишина велика на сорок лет и пересташа погании воевати русскую землю и заклати христиан, и отдохнуша и починуша христиане от великиа истомы многыа тягости, от насилия татарского, и бысть оттоле тишина велика по всей земле»5.
Мирный тайм-аут обеспечил экономический подъем Северо-Восточной Руси, и в частности Москвы, куда стекалось население из разоренных татарами пограничных территорий. Дело было не только в покорности московского правителя и его принципе «не лезть на рожон». Иван Данилович первым начал грамотно использовать ордынский фактор для возвышения своего княжества, демонстрируя настоящее «политическое айкидо». Он сумел втереться в доверие к татарам и выступить посредником, который собирал ордынскую дань и с других русских земель, а затем отвозил ее в Сарай. Для татарских повелителей Калита стал надежным партнером, взявшим на себя непростую «коллекторскую» функцию. Надо ли говорить, что выколоченные (зачастую буквально) из соседей деньги отправлялись в Улус Джучи не все, а частично оседали в московской казне?
Полученные «проценты» тратились с пользой для Москвы и во вред ее политическим противникам. Иван Данилович начал активно инвестировать в самое дорогое с точки зрения феодала – земли. Были куплены ярлыки на Галич, Углич, Белоозеро; в 1331 году – присоединена часть Ростовского княжества.
Не менее выгодным вложением стал перенос митрополичьей кафедры из стольного Владимира, казалось бы, во второстепенную Москву. Фигура митрополита играла не только духовную роль: по совместительству он являлся своего рода общерусским министром пропаганды, ведь официальная идеология того времени была неразрывно связана с религией. «Карманный» высший иерарх РПЦ у себя под боком давал московскому князю возможность оказывать идеологическое влияние сразу на все русские земли.
Другая часть собранной «коллекторской комиссии» все равно попадала в Орду – только в виде взяток и подкупов для ханов и татарских вельмож. Главным соперником Москвы в этой «гонке откатов» выступила Тверь, которая также боролась за ярлык на великое княжение Владимирское. В итоге Калита уверенно вырвался вперед, а тверской князь Александр Михайлович был вызван в Орду и казнен ханом Узбеком.
После этого потомки Ивана Даниловича надолго сохранили за собой приоритет на Владимирский стол, хотя попытки братских княжеств перехватить его не прекращались. К примеру, сразу после смерти в Москве Ивана Ивановича Красного и вокняжения его девятилетнего сына Дмитрия (будущего Донского) заветный ярлык сумел получить нижегородский правитель. Но спустя всего два года при помощи митрополита Алексия и московских бояр Дмитрий Иванович вернул себе великокняжеский титул.
Помимо мастерства накапливать и инвестировать богатства, московские князья превосходили всех остальных способностью договариваться. По их инициативе были заключены три межкняжеских договора, последний из которых охватил всю Северо-Восточную Русь. Докончания (договоры) выстраивали своего рода систему коллективной безопасности.
Первое такое соглашение оформилось в 1341 году между тремя сыновьями только что почившего Ивана Калиты. Второе – в 1367 году6, между великим князем Дмитрием Ивановичем и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским. Наконец, в 1374 году состоялся Переяславский съезд с участием восемнадцати князей Северо-Восточной Руси. Формальным поводом для «дружеской встречи» стало крещение новорожденного сына Дмитрия Константиновича Суздальского. В ходе этого мероприятия Москва заключила мирные договоры с Великим Новгородом и Тверью. Вместе с тем сложилась общерусская коалиция, которая уже через год пойдет усмирять нарушившего мир Михаила Тверского, а в 1380 году в несколько усеченном составе схватится не на жизнь, а на смерть с Мамаем на Куликовом поле.
Вот основные пункты этих дополнявших друг друга «докончаний»:
• великий князь Московский признавался главным сюзереном над удельными правителями («первым среди равных»);
• главы уделов были обязаны вступать в войны на стороне великого князя;
• великий князь не мог заключать сепаратные договоры без участия своей «молодшей братии»;
• великий князь мог направить на войну вместо себя силы удельных правителей;
• к военным предприятиям в обязательном порядке привлекались не только княжеские дворы, но и городовые полки (ранее «город» мог отказаться воевать вместе со своим князем);
• все члены коалиции обязывались обмениваться между собой стратегической информацией;
• закреплялось право свободного феодального отъезда бояр внутри коалиции и устанавливался его порядок (компенсации за неоконченную службу при отъезде боярина от одного князя к другому и т. д.);
• упразднялась должность тысяцкого и вводилось главенство великокняжеского воеводы над всеми коалиционными войсками;
• в рамках коалиции назначалась выборная боярская комиссия для решения судебных и спорных вопросов.
«Докончания» не имели силу закона и исполнялись лишь в случае, если это было выгодно всем сторонам. Можно привести массу примеров, когда участники коалиции не приходили друг другу на выручку в борьбе с русскими соседями, литовцами, немцами (тевтонцами) или татарами. Взять хотя бы сожжение Москвы Тохтамышем в 1382 году: отчаянный зов Дмитрия Донского к братьям-князьям о помощи остался без ответа.
С другой стороны, договоры не раз соблюдались союзниками, что приносило им серьезные военные успехи. Это и упомянутый общерусский поход на Тверь, и, конечно же, знаменитое Мамаево побоище. Но главное – московские правители не «плели крамолу брат на брата» настолько увлеченно, как другие Рюриковичи. Злоупотребление многих князей таким кровавым «рукоделием» приводило к ослаблению и дроблению большинства русских земель, в то время как Москва, напротив, оставалась сильной и монолитной.
Фактор 3. Ослабление ордынской хватки
С определенного момента сами ордынцы открывали перед Москвой не простое, а прямо-таки панорамное окно возможностей для освободительной борьбы. Еще в XIII веке от одного упоминания Орды на Руси трепетали все – от князя до смерда. Татары не только подавляли Русь тотальным военным превосходством, но и вели грамотную политическую игру, всячески сталкивали лбами князей. В последующем же столетии засбоила как военная мощь ордынцев, так и их «макиавеллиевская» политика. Дело в том, что в Улусе Джучи началась так называемая великая замятня – золотоордынский вариант «гонки на катафалках». Буквально каждые два года там происходили перевороты и сменялся хан. Золотая Орда распалась на две части, разделенные Итилем (Волгой). Восточной половиной правил хан Араб-Шах (Арабша), западной – эмир-узурпатор Мамай. Не будучи Чингизидом, он не имел законных прав на власть, поэтому сажал на трон марионеточных ханов7.
Ослабление ордынской хватки сделало возможным сопротивление завоевателям. Русские войска даже начали брать верх в отдельных столкновениях. Помимо растиражированной вдоль и поперек Куликовской битвы, были и другие победы, например, в сражении на реке Воже, хотя в целом Орда еще долго оставалась грозной силой, превосходящей Русь. Уже в 1382 году «головокружение от успехов» Дмитрия Ивановича приведет к тому, что пришедший на смену Мамаю хан Тохтамыш сожжет Москву. Русская земля еще на целое столетие останется татарским данником. Тем не менее произошел качественный скачок в умах людей: стало ясно, что ордынцы – это не кара Божья за грехи, а вполне земной противник из плоти и крови, с которым можно бороться и даже бить его.
Если говорить о политической игре, то в XIV веке шаблонные схемы теряли свою эффективность, а зачастую приносили татарам обратный от ожидаемого эффект. Излюбленный татарский прием стравливания князей между собой, для чего ярлык на великое княжение был пожалован Мамаем в 1375 году Михаилу Тверскому, в этот раз не подействовал. Темник не учел репутацию тверских правителей, трижды приводивших литовцев с огнем и мечом на Русь. Проглядел он и наметившиеся здесь центростремительные тенденции.
В наказание за принятие такого подарка от Орды на тверяков обрушились полки из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова, Ярославля, Смоленска, Великого Новгорода, десятков удельных княжеств. Одновременно рязанский князь прикрывал южную границу русских земель. Разбитому союзниками Михаилу Тверскому пришлось подписать мирный договор, навсегда отказавшись от ярлыка на Великое княжение Владимирское и обязавшись воевать с Ордой на стороне Москвы. Вместе с тем был назначен межкняжеский третейский судья, которым стал Олег Рязанский. Независимых от кого-либо рязанских Рюриковичей удалось бескровно вовлечь в общерусскую орбиту.
Еще одним просчетом Мамая можно назвать обложение данью русских земель в составе Великого княжества Литовского, с которым Орда заключила союз в преддверии Куликовской битвы. Как результат, на сторону Москвы сразу же перешли Смоленск и Брянск. А требование темником удвоенной дани (как во «времена Джанибековы»8) от Дмитрия Донского в конце 70-х годов XIV века поставило Москву в безвыходное положение и только подстегнуло развитие антитатарской коалиции. Во-первых, столь гигантские средства было практически невозможно собрать. Во-вторых, такая выплата узурпатору Мамаю могла привести в недалеком будущем к конфликту с законным Чингизидом, Тохтамышем, который двигался из Самарканда на Волгу.
Фактор 4. Роль личности в истории, или Государь всея Руси
В процессе объединения русских земель вокруг Москвы доставалось как простым смердам с людинами, так и князьям. Вспомним хотя бы многострадального Василия II Темного, который угодил в плен к казанским татарам в битве под Суздалем 7 июля 1445 года, а потом и вовсе был ослеплен своим политическим оппонентом Дмитрием Шемякой. Недаром говорил известный персонаж, что царям (великих князей отнесем туда же) молоко за вредность давать надо.
Тем не менее по итогам его правления Москва приросла Волоколамском, Серпуховом, Можайском, Кубенским уездом. Была сильно ограничена удельная система внутри самой московской земли, резко возрос авторитет ее правителя. Победив в феодальной войне свою «молодшую братию», Юрьевичей, Василий II добился безоговорочного подчинения со стороны оставшихся держателей уделов. Теперь они были готовы запрыгнуть в седло по первому зову великого князя. И все же полноценным Государем всея Руси стал уже его сын.
Именно Иван Васильевич освободил Московскую Русь от позорной дани. С самого начала его правления ордынские выплаты становятся нерегулярными. В московских княжеских договорных грамотах начинает использоваться характерная формулировка: «А коли яз, князь великий, в Орду не дам, то и мне у тебя (удельного князя) не взяти»9. То есть отказ от уплаты дани уже трактуется исключительно как решение самого великого князя. Ранее такая дерзость допускалась только в случае, если «переменит Бог Орду».
Подобная перемена в докончаниях вполне могла отражать практическое положение дел. В Большой Орде разгорелась борьба за власть между ханом Махмудом и его братом Ахмадом, и финансовая поддержка любой из противоборствующих сторон стала для Москвы рискованной. Косвенно о прекращении выплат свидетельствует и подготовка масштабного похода самого Махмуда «со всей Ордой» на Русь в 1465 году. К счастью, нашествие сорвалось из-за столкновения сарайского правителя с крымским ханом Хаджи Гиреем. Но настолько крупное военное мероприятие не устраивалось и даже не планировалось ордынцами со времен Тохтамыша, так что причина наверняка была крайне веской. Например, недополученные выплаты. Окончательно же Москва прекратила платить дань татарам после 1472 года, когда войска хана Ахмата потерпели поражение в битве при Алексине.
Снятие «налогового бремени» сделало Москву еще богаче, а значит, сильнее. Крупные княжеские центры – Нижний Новгород, Суздаль, Ярославль, Ростов, Стародуб, Белоозеро – уже не могли противостоять этой силе и один за другим признали власть будущей Первопрестольной. В 1478 году пришел конец вековой новгородской вольнице. Огромный и богатый Господин Великий Новгород капитулировал и вошел в состав Московского государства, став главным земельным донором для масштабных поместных верстаний в пользу служилых дворян и детей боярских. А в 1485 году был покорен еще один извечный антагонист московских князей – Тверь. Расширение Великого княжества Московского и планомерная военная централизация отзывались успехами на международной арене. Так, после великого стояния на реке Угре Русское государство уже окончательно и бесповоротно избавилось от политической зависимости от татар – точнее говоря, Большой Орды. Так что 11 ноября (дата завершения «стояния») Россия вполне могла бы отмечать свой День независимости.
Шли в гору и дела казанские. В 1487 году Иван III послал в ханство большую рать вместе с царевичем Мухаммед-Эмином, буквально взращенным в Москве, чтобы однажды стать ее ставленником на казанском троне. «Того же лета, июля в 20, — сказано в Воскресенской летописи, – город Казань взяли воеводы его, а царя поимали… И князь великий Иван Васильевич царя Махмед Аминя из своей руки посадил на царство в Казани»10. До полного завоевания волжского ханства было еще далеко, но установление в нем первого русского протектората стало гигантским шагом в эту сторону.
Не менее благоприятно все складывалось на западном внешнеполитическом направлении. Сперва у Литвы удалось отвоевать Вязьму и мезецкую землю. А по итогам очередной порубежной войны 1500–1503 годов Москве и вовсе отошла без малого треть Великого княжества Литовского – брянские, новгород-северские земли, Чернигов и Гомель. Благоволила удача русским войскам и в короткой Московско-ливонской войне 1480–1481 годов, в результате которой был заключен выгодный для Ивана III мирный договор. Одновременно московские «конкистадоры» вели успешную экспансию на северо-восточном направлении, активно проникая в Пермь и на Северный Урал.
Наряду с ослаблением Орды и освобождением Москвы от дани, достижения времен Ивана III объясняются созданием поместного войска. При всей многочисленности оно в значительной степени обеспечивало себя самостоятельно и минимально нагружало государственную казну. Не менее важным фактором возвышения Русского государства стало формирование бюрократической машины нового типа. Вокруг думных дьяков – предтечи министров – расползались молодой порослью аппараты подьячих и помощников, которые постепенно складывались в отраслевые приказы. Это позволило Москве эффективно курировать вопросы логистики, снабжения, связи, без чего о перечисленных военных успехах и территориальных приращениях оставалось только мечтать. В итоге политический престиж Московской Руси возрос настолько, что западная дипломатия попыталась втянуть ее в борьбу против главной грозы христианского мира – Османской империи. Для этого Папский Престол даже устроил свадьбу овдовевшего Ивана III c Зоей (Софьей) Палеолог, племянницей убитого турками последнего византийского императора. По мнению выдающегося исследователя русского Средневековья Руслана Скрынникова, тогда же и зародилась максима «Москва – Третий Рим», навеянная именно Западом.
В этом контексте интересно письмо 1473 года от венецианского сената московскому правителю с просьбой освободить взятого под стражу посла Тревизано, который направлялся к хану Большой Орды с целью заключить с ним антитурецкое соглашение. В послании разъясняется, что венецианец и не думал натравливать татар на Москву. Напротив, он должен был склонить хана послать войска на Дунай, в Валахию, «в целях подавления общего врага всех христиан, захватчика Восточной империи, которая – в случае, если не будет наследников мужского пола, – по праву принадлежала бы его высочеству (Ивану III) через его светлейший брак»11. Своей приторностью тон письма напоминает хвалебную оду вороне из басни Крылова: «Голубушка, как хороша».
Достижения времен Ивана III нельзя поставить в заслугу одному человеку, пусть даже и самому выдающемуся. Гигантское количество усилий нескольких поколений князей, храбрых воинов, дотошных дьяков и, конечно же, «богатыря-пахаря Микулы» перешли наконец в новое качество при первом русском Государе. Но именно он стал скрепой новой Руси, которой было суждено вовлечь в свою орбиту практически все татарские юрты.