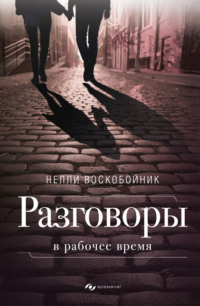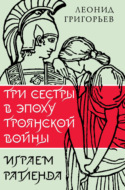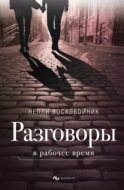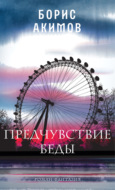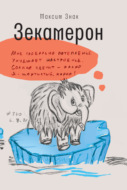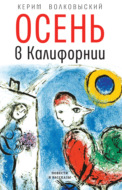Read the book: «Разговоры в рабочее время»
© Н. Б. Воскобойник, 2025
© «Время», 2025
Предисловие
Первую половину своей жизни я провела за письменным столом в кабинете на четверых. Формулы, расчеты, программы, кандидатские минимумы, заседания Ученого совета – вот что наполняло нашу жизнь. Тот, кто защитил диссертацию, переходил в кабинет на двоих, а его место за столом занимал новичок, недавно окончивший университет. Все мы были молоды, образованны, бедны и, в сущности, вполне благополучны. Что могло случиться? Можно было поссориться с мужем, получить выговор от начальника. У ребенка могла быть ангина или резались зубки. Однажды сорвалась защита, потому что один из членов Ученого совета уехал в деревню на похороны тетки. Диссертант ужасно переживал, и мы все сочувствовали ему, примеряя такое несчастье на себя.
До моей защиты дело не дошло. Мы жили нашими частными делами, не подозревая, что у Истории на нас свои виды. Мою семью подхватила высокая и неожиданная (как всегда) волна нового переселения народов, и мы на гребне этой волны перенеслись в маленькую жаркую страну, где чиновники были нерадивы, добродушны и смешливы, люди говорили на незнакомом языке, все пили воду с малиновым сиропом и горожане охотно раздавали новоприбывшим отслужившую мебель и домашнюю утварь.
Первую ветхую тахту мы привезли к себе домой на повозке, запряженной старенькой унылой лошадкой. Извозчик был тоже очень стар и говорил на каком-то дореволюционном русском языке. Рассказал нам, что его младший сын живет в Роттердаме и владеет фирмой по торговле бриллиантами.
Тогда мы почувствовали, что жизнь интереснее, сложнее и многообразнее, чем нам представлялось, пока мы сидели в своих научно-исследовательских институтах. И куда опаснее.
Потом я тридцать лет проработала в больнице и узнала много интересного про жизнь, смерть, страх, долг, предательство и преданность, про страдание, любовь, надежду и самопожертвование. Таким опытом тянуло поделиться. И я стала писать книжки.
Записки медицинского физика
На гребне
Мы с мужем и детьми приехали в Израиль из Тбилиси на самом гребешке самой высокой волны Великого переселения евреев. В день приезжала тысяча человек, и так год подряд. Организация приема была безупречной. Но после того, как мы прошли все инстанции, сняли квартиру в Нетании – чудесном приморском городе, определились в ульпан и получили свое пособие, настал момент присмотреться к возможности устроиться на работу. Мне казалось, что я лишена всяких иллюзий и заранее готова работать не по специальности. В моем воображении это была работа водителя троллейбуса.
У Левы была любимая история о том, как в первом классе учительница опрашивала детей, кто может выступить на концерте самодеятельности. Лева сказал, что он будет играть на аккордеоне. В большом возбуждении он вернулся домой и попросил маму взять аккордеон у двоюродного брата, чтобы сыграть на нем на концерте. «Но, Левочка, – сказала мама, – ты же не умеешь играть на аккордеоне!» И Лева заплакал: он забыл, что не умеет. То же было и со мной. Я забыла, что не умею водить машину, и вовсе не знала, что в Израиле нет троллейбусов.
Работы для двух физиков не было никакой. Даже надежда устроиться официантами за одни чаевые оказалась слишком радужной. В счастливый день русская газета принесла нам объявление, что в Иерусалиме производится набор физиков и врачей на курсы переквалификации по специальности «техник радиотерапии». До Иерусалима нам было четыре часа езды, но мы помчались на собеседование и, пользуясь всеми своими ораторскими способностями, опиравшимися на семьдесят пять скверно выученных ивритских слов, это собеседование успешно прошли.
Примечательной была короткая беседа между председателем комиссии и моим мужем, соискателем завидного места учащегося. Наш будущий шеф спросил, понимает ли Лева, что работа связана с тяжелыми психологическими нагрузками. А Лева спросил, тяжелее ли это, чем сбор апельсинов на плантации в полдень. Зелиг внимательно обдумал ответ, прикинул, вздохнул и сказал, что в полдень на плантации, пожалуй, хуже.
Мы живо перебрались в Иерусалим, перевели детей в местные школы, перевезли наши измученные переездами книжные шкафы и зажили припеваючи, наслаждаясь близостью Старого города, забытой прелестью серьезной учебы и стипендией, которая позволяла покрыть только абсолютно необходимые расходы на поддержание наших четырех жизней.
Квартира, которую мы сняли, располагалась в пятнадцати минутах пешего хода до колледжа, где мы учились. Мы жили на втором этаже. Первого не было. Вместо него была площадка с колоннами, на которые опирался дом. Площадка эта в те времена представляла собой биржу дешевейших проституток Израиля. Там они стояли, поджидая клиентов, там торговались с подъезжающими на машинах и там же выясняли отношения со своими работодателями. Прямо под нашими окнами.
На вид они были ужасны. Наш четырнадцатилетний сын, просто наблюдая ежедневно эту картинку у дома, получил пожизненное отвращение к продажной любви. Зато приобретенный им лексикон вызывал неподдельное уважение во всех мужских коллективах, в которых он с тех пор учился, а это были две школы, религиозный колледж, армейское подразделение и офицерские курсы.
А мы тем временем изучали иврит и анатомию, физику и физиологию, онкологию и электронику, записывая все лекции ивритскими словами, но русскими буквами. Потом настало время стажировки, и мы столкнулись с необходимостью прикоснуться к чужому телу – например, взять человека за руку и переложить ее за голову. Или согнуть ногу пациента в колене. Для меня это оказалось тяжелым испытанием. Моя стыдливость корчилась в муках неописуемых. Для Левы это было вообще невыносимо. Он не мог совладать со своей брезгливостью. Но выбора не оставалось. И мы привыкли.
Анатомия по Ави Каспи
В девяностых годах был такой затасканный анекдот: в Тель-Авивском аэропорту садится очередной самолет с репатриантами из России. Один грузчик спрашивает другого: «Слушай, а что это за странные типы, что спускаются по трапу без скрипок?» Более опытный бросает беглый взгляд и отвечает: «А, эти… Это пианисты!»
Шутка, конечно. На самом деле приезжали и простые люди, не одни профессора. Всякие доктора, геодезисты, инженеры, программисты, учителя, фармацевты, химики и прочий практически-служивый люд. Ну и конечно же сотрудники множества кафедр марксизма-ленинизма, чуть ли не полным составом.
Все мы наслушались отеческих поучений «Голоса Израиля», который категорически не обещал нам райских кущ, а обещал трудности и понижение статуса. Все знали, что примы-балерины будут танцевать в кордебалете, первые скрипки перейдут в группу вторых, врачи станут медсестрами, а инженеры устроятся техниками.
Соврали, как всегда! Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем врачу стать медбратом…
Поначалу абсолютно все, без различия пола и ученой степени, мыли лестничные клетки, а через десять лет профессора уже заведовали кафедрами, врачи лечили больных, мостостроители проектировали тоннели, химики помыкали лаборантами, а специалисты по марксизму-ленинизму процветали в Cохнуте.
И даже дети, бросившие в Тбилиси физматшколу, оказались единственными из своего класса, кто работает сейчас по специальностям, связанным с их склонностями. Все одноклассники моего сына в Израиле – программисты, электронщики, учителя математики. А все оставшиеся занимаются чем угодно – спорт, религия, бизнес, журналистика, но ничего физико-математического…
Однако это преамбула. Амбула будет про то, как мы с Левой учились на курсах переквалификации, чтобы, согласно своим надеждам, получить дипломы, а потом квалифицированную, достойную и постоянную работу.
Первые месяцы все предметы – а это были анатомия, рентген и иврит – нам преподавал молодой худющий смешливый парень, который, родись он в Одессе, звался бы Абрашей Зильбером. А родившись в Иерусалиме третьим поколением от приехавших из Одессы, он стал Ави Каспи. Мы все были старше его, и он относился к нам с почтительной симпатией. Наш убогий иврит вынуждал его иллюстрировать почти каждую фразу картинками, рисунками на доске или хотя бы жестами. Например, поясняя один анатомический термин, он встал, расставив ноги, спиной к классу, согнулся так, что смотрел на нас снизу-вверх между ног, указкой очертил пространство, на котором соединялись его левая и правая брючины, и сказал раздельно: «Запомните – это перине́ум!»
Однажды он принес в аудиторию задачу повышенного уровня сложности, которую задали его сыну – ученику четвертого класса. То, что мы решили ее без всяких затруднений, привело Ави в восторг. Мы казались ему людьми необычайно образованными и интеллектуальными, носителями драгоценной и уникальной культуры и неописуемых математических способностей. Он рассказал, что когда сам учился в школе, к ним пришел новый учитель математики, дал детям контрольную, а потом вызвал его к своему столу и сказал: «Смотрите, дети, на Ави – он единственный из всех получил пятерку». Рассказывая это, наш педагог слегка затуманился и пояснил: «Остальные получили не меньше семидесяти».
Он учил немолодых репатриантов анатомии, рассказывал старые анекдоты, объяснял главные события в стране, подписывал ведомости на наши стипендии, подбирал учителей по предметам, которые не мог преподавать сам, и отвечал на все вопросы, какие нам удавалось задать на своем корявом иврите.
Кассовый сбор
Однажды случилось чудо – неожиданно и невероятно повезло! Мне предложили на послеобеденное время место кассирши в небольшом продуктовом магазине. До двух тридцати я занималась на курсах, а с трех меня поджидал стул за кассой в густо религиозном районе Маалот Дафна. До меня это место занимала моя подруга, которая утром училась на курсах подготовки к экзаменам по медицине. Она успешно сдала эти экзамены, получила лицензию врача и работу в больнице и подарила лакомое местечко мне. В свою очередь и я, сдав свои экзамены и получив место в больнице, не оставила кассу на произвол судьбы, а передала ее другой подруге, которая шла этим же, не совсем тернистым, но и не усыпанным розами путем.
После окончания занятий у меня было полчаса, чтобы самым быстрым шагом дойти до места работы. Иногда по дороге мне встречался почтенный бородатый еврей среднего возраста с короткими пейсами, одетый в аккуратно перепоясанный черный лапсердак. Обыкновенно он приглашал зайти к нему домой выпить стакан кофе. То был общеизвестный пароль – мне предлагался короткий и недорогой перепихон. Я вежливо отказывалась. Он не настаивал. К трем я успевала подойти к дверям и присутствовала при том, как управляющий открывал магазин после перерыва.
Эта работа запомнилась мне как место, где я добилась самого большого в своей жизни успеха. За две или три недели, нисколько не напрягаясь, я запомнила цены на подавляющую часть товаров, которыми торговал магазин. А ведь память моя устроена таким образом, что я не запоминаю ничего, кроме стихов. Я никогда в жизни не помнила постоянную Планка или число Авогадро, и даже логарифм двойки оставался для меня пленительной загадкой. Но цена мягкого сыра девятипроцентной жирности производства компании «Тнува» была мне таинственным образом известна в любое время дня и ночи. А там продавались сотни продуктов и еще всякие средства для уборки, мыло, мочалки, зубные щетки всех размеров и конструкций.
– Здравствуйте, госпожа Зонненблик. Курица, яблочный джем, картошка, абрикосы и обувная щетка. Сколько булочек? А субботних свечей? Записываю на ваш счет. Передавайте привет супругу. Какой милый у вас Хаимке – он вчера приходил по вашему поручению и вел себя очень хорошо, совсем как взрослый.
– Добрый день, госпожа Розенфельд! Три пачки муки, сахар, молоко, дрожжи, изюм – печете что-нибудь особенное? – мясной фарш, апельсиновый сок и зубная паста. Сто восемьдесят три шекеля. Записываю на вашу карточку.
За это на исходе пятницы (по пятницам я работала с утра до двух) управляющий награждал меня кексом и бутылкой виноградного сока. И то и другое с удовольствием принимали мои дети, почти не видевшие тогда никаких лакомств и сладостей. Кроме того, я получала зарплату, которая составляла пятьсот шекелей в месяц. Как раз сумма, необходимая, чтобы заместить горькую нищету благородной бедностью.
Ну и самое интересное: я видела там жизнь ортодоксов изнутри. И главной учительницей моей была вторая кассирша – Хая. Она меня очень жалела за то, что я была не религиозна и мой муж даже не дал мне ктубы1, которая защитила бы меня в случае развода. Самой ей муж дал не только ктубу, но и гет2. Она жила с детьми у своей мамы, порядочной мегеры, и не получала даже алиментов. Но этого она не замечала. Ее рассказы потом годами составляли фонд моих лучших историй за семейным столом и в гостях. Вот один из них.
Однажды она поведала мне, что первый раз в жизни была на театральном представлении. Приехала труппа из Бней-Брака, вполне одобренная иерусалимскими раввинами. Хая, волнуясь и захлебываясь, рассказывала ужасно трогательную историю, которая произошла во время войны. Маленькая еврейская девочка осталась без родителей и выросла, не зная, что она еврейка. А потом – медальон на шее? письмо в пожелтевшем конверте? свидетельство маразматической соседки? – она узнала, что ее семья живет в Израиле. И приехала, чтобы увидеть родных. Она успела встретиться с матерью, лежавшей на смертном одре, и поцеловать ее, прежде чем старушка испустила дух.
Тут Хая критически посмотрела на меня и сказала уже другим голосом: «Ты понимаешь, это трудно объяснить – на самом деле она не умерла! Это только как будто… Когда мы хлопали, она вышла и поклонилась. Ее играла актриса. А умерла мама той девочки – это большая разница! Но нам всем очень понравилось!»
Культура
Потом мы с мужем сдали экзамены и нас обоих, ко всеобщему удивлению и восторгу, приняли в Институт онкологии огромной иерусалимской больницы Хадасса, что было для его руководства совсем не просто, поскольку муж с женой по закону не должны работать вместе.
На самом нижнем, подвальном, этаже просторного здания института располагалось отделение радиотерапии – легендарное место, вызывающее у многих мистический ужас, в котором соединяются и усиливают друг друга два пугала двадцатого века – онкология и облучение.
Как мы потом узнали, в радиотерапии до нас сложилась напряженная ситуация. Опытные техники, почувствовав свою важность и незаменимость, выдвинули заведующему отделением неприемлемые требования.
Не знаю уж, чего именно они добивались, но завотделением Зелиг был не такой человек, чтоб поддаться шантажу. Он был действующим армейским полковником и своей решительностью не уступал Моше Даяну. Почувствовав зависимость от шести работавших у него техников, он не стал с ними и дальше препираться, а пробил через самые высокие инстанции – министерство здравоохранения и министерство абсорбции – разрешение на открытие курсов по подготовке техников для пяти отделений радиотерапии, разбросанных на просторах Израиля. В считаные недели он утряс все вопросы, связанные с лицензией на право обучения, учебной программой, помещением, штатом преподавателей, зарплатой для них и стипендией студентам.
И для него открылась возможность отобрать из «понаехавших» лучшие кадры – мы готовы были работать где угодно, и он призвал под свои знамена врачей и физиков, не надеющихся сохранить свой статус в жуткой толчее новоприбывших.
Первого августа тысяча девятьсот девяносто первого года мы начали учиться. Зелиг сам преподавал нам онкологию и изменил мое представление о жизни, рассказав на первой же лекции, что больше сорока процентов заболевших раком в наше время излечиваются сразу. Половина оставшихся становятся хроническими пациентами и живут еще пятнадцать – восемнадцать лет. И только очень небольшая часть раковых больных (в основном запущенные случаи из-за несвоевременной диагностики) имеют зловещий прогноз. После этой лекции мы другими глазами посмотрели на болезнь и на нашу будущую работу.
Ровно через полтора года Зелиг отобрал для работы в своем отделении семь человек из пятнадцати закончивших курс. Трое из них были по образованию врачи, двое – физики, одна женщина – биолог, другая – инженер-электронщик.
Старожилы приняли нас довольно дружелюбно. Учитывая наш жалкий иврит и нашу роль козырных карт в игре, которую Зелиг выигрывал у них нокаутом, можно сказать, что приняли идеально.
Зелиг сам распределял нас по рабочим местам. Сначала он спросил каждого, где и с кем человек хотел бы работать, а потом распределил по своему усмотрению, абсолютно не сообразуясь с нашими пожеланиями. Меня и мою подругу Любу, как наиболее хилых и низкорослых, но с неутраченным интеллектом, он направил в симулятор – мозговой центр радиотерапевтического отделения. И мы проработали там несколько лет, пока Люба не сдала экзамен на медицинскую лицензию. После этого ее взяли с Зелигиного благословения на итмахут3 в онкологическое отделение, она прошла все адские муки суточных дежурств с последующим рабочим днем, все унижения новичка, все приступы отчаяния и бессилия, прекрасно сдала оба главных экзамена и стала специалистом-онкологом. И проработала в этом качестве двадцать пять лет.
Инженер-электронщик, не будучи связана ни генетически, ни духовно с жизнью еврейского народа, решила, что нет никаких причин отдавать своих детей израильской армии, и уехала в Канаду.
Мы с Левой – сначала он, а потом и я – понадобились в группе физиков и перешли туда с большим удовольствием.
Другой врач – наша общая любимица, русская по крови, но безоговорочно влившаяся в израильскую жизнь, большая, веселая, умелая, живой праздник, – вынуждена была уехать в Москву за своим еврейским мужем-авантюристом. Там он стал израильским бизнесменом и, кажется, на одном из ухабов новейшей российской истории взлетел до нешуточного экономического процветания. Их сын приезжал в Израиль, чтобы отслужить в армии, а потом вернулся к родителям в Москву.
Третий врач при первой же освободившейся вакансии стала старшим техником и взяла на себя ответственность за множество молодых ребят и девочек, выпускников университета по специальности «рентген», которые были приняты на работу к тому времени.
Биолог стала техником высочайшей квалификации, и не по служебной обязанности, а просто в силу своего характера, всегда и везде требующего безупречности, контролирует и исправляет неполадки, возникающие при воплощении идеальных планов в реальном мире пациентов.
Оглядываясь назад, я с нежностью вспоминаю добрую, толстую, безалаберную и простодушную старшую сестру отделения Ханну, которая в один из первых дней обняла меня за плечи и, ведя по коридору, нашептывала успокаивающе мне на ухо: «Не переживай, пройдет время, все устроится, вы даже сможете пойти в театр – будет и у вас культура!»
О мистических тайнах
Завидная работа в симуляторе досталась нам с Любой только потому, что были мы небольшого роста и слабосильны, по этой причине другая работа в отделении была нам не по плечу. Властвовал в симуляторе Элиша. Кроме него, симуляцию – первоначальное планирование лечения – умела делать только одна его ученица, которая через несколько месяцев работы с ним категорически отказалась от такого рода деятельности и ушла из легкотрудниц в рядовые техники. Где чувствовала себя прекрасно.
Нас Элиша бросился обучать с жаром. Он рассказывал нам массу важнейших полезных вещей, касающихся симуляции. Делился своим громадным опытом. Вспоминал редкие случаи из своей практики. Подчеркивал важность глубокого понимания природы заболевания. Погружал нас в тонкости этики. Пересказывал все новинки из свежей медицинской литературы, услышанные им от врачей, – и все это на высочайшем иврите, из которого мы понимали поначалу треть, а позднее – даже половину.
Через месяц Зелиг осведомился, можем ли мы самостоятельно сделать простейшую симуляцию. Мы только усмехнулись: не такое, мол, это дело, которому можно обучиться за месяц. В отсутствие Элиши мы пытались, подражая ему, делать все манипуляции, имитирующие настоящую симуляцию, но заключительный этап – снимок – нам не удавался. Видимо, как в восточных единоборствах: не постигнув во всей полноте философскую систему, невозможно стать настоящим борцом.
Но вот случилось так, что Элишу скрутил радикулит. Он остался дома, а мы, сироты, в симуляторе. Тут к нам заглянула бывшая ученица Элиши – женщина, предпочитавшая простые речи и конкретные действия и питавшая глубокое отвращение к словесам. «Смотрите, – сказала она, – на эту кнопку нужно нажать до середины. Когда загорится зеленая лампочка – до конца. И всё!»
В этот день мы сделали все четыре запланированные симуляции. Было немножко жаль испарившегося таинства. И опыта, конечно, не хватало. Но последний редут был взят, и Зелиг мог теперь опереться на свой крохотный легион. Ну, скажем, не легион, а когорту, но преданную ему безмерно.