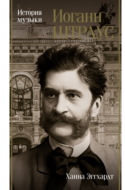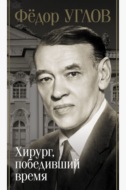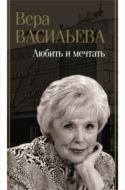Read the book: «Chanel No.5. История создателя легенды»
© Nathalie Beaux, текст, 2024
© Д.С. Кондрашов, перевод, 2024
© MACHA PUBLISHING, 2024
© Издательство АСТ, 2024
Часть I
Дуэт
Глава 1
Письмо Нести к Иде
Париж, 25 января 1932
Дорогая подруга,
Получил твое письмо от 22 января. Это правда: прошло двадцать лет, мы были погребены под снегом, и поезд пришел очень поздно…
Храм Воскресения в Сокольниках был набит битком, всем было крайне любопытно на тебя посмотреть, а ты, моя принцесса, несмотря на твою элегантную отстраненность оставалась такой простой. Все они, так же как и я, были во власти твоих глаз, легкий блеск синего в них наводил на мысли о снеге и зимним небе утром на рассвете где-то далеко-далеко на ледяном озере Крайнего Севера. Во всяком случае, такими я, никогда не знавший эти земли за полярным кругом, представлял их, и уж тем более совершенно не подозревал, что однажды мне придется жить там, в окружении войны и ненависти.
В тот день я был безмерно счастлив. Все улыбалось мне тогда, на заре 1912 года. Мне хотелось укусить твои щеки, попробовать на вкус этот рот, такой утонченный, подчеркнутый вот тут, с правого края, совсем легкой улыбкой. Хотелось трогать, ласкать твои маленькие кудрявые локоны, что вырывались из-под вуали. Они были такими свободными, естественными, бежали навстречу свету. Совсем такой же бывала и ты каждый раз, когда нам доводилось гулять вдвоем по лесу, где мы ходили, бегали, затаив дыхание, опьяненные этим небом, простиравшимся перед нами на опушке леса, этой жизнью, что пустилась галопом и бросила нас навстречу друг другу, столь недвусмысленно.
Умирая от нетерпения и вопреки традиции, которая требует, чтобы будущий муж благоразумно ждал в церкви, я решил прийти и забрать тебя. Мне хотелось похитить, унести тебя прямо на руках! И вот мы оказались в поезде, вдвоем. А у машиниста этого поезда была восхитительная манера притормаживать, останавливаться, снова трогаться, это было похоже на недоверчивые всхлипы перед приближением нашего счастья. И я смаковал эти мгновения, что предназначались мне, мне одному (твоя мама, конечно, была рядом с тобой, но я ее не замечал). В свете, мерцавшем при движениях вагона, я упивался твоим лицом, этими отражениями, что играли на твоей коже, изяществом твоей шеи, когда ты, расхохотавшись, откидывала голову немного назад, твоим озорным взглядом, что завораживал и овладевал мной, приковывал к тебе и душу, и сердце. Снег шел все сильнее и сильнее, и, помнишь, мы смеялись, не зная, приедем ли мы когда-нибудь, наконец, на эту свадьбу, а ведь это была наша свадьба.
Я протянул тебе руку, и тут вдруг вся моя страсть странным образом обернулась сладким покоем, таким, которого я никогда до тех пор не знал. Что, неужели одна только эта милая девушка могла утолить мою ярость к жизни и залечить мои раны? Этот взгляд, твой длинный силуэт и твои пышные белокурые волосы, бежавшие словно ручей, чем-то делали тебя похожей на Василису Премудрую, что пригласила меня, городского человека, француза, которым она так восторгалась, в свою сказку…
Ты была всем тем, чем не были другие. Я полюбил тебя с того самого первого дня, как увидел. Ты, словно лебедь, скользила по катку… Придя в себя от восторга, я бросился к тебе, чтобы мягко кружить вокруг тебя, пока ты резвилась, едва осознавая мое присутствие. Но вдруг, по ходу движения, не глядя, не касаясь друг друга, мы соединились и закружились почти в полной гармонии. Я проводил тебя и немного натянуто поклонился. И тут вдруг, сам не знаю почему, я запел, а ты подхватила мою песню звонким, как летний дождь, голосом. Это был дуэтLa ci darem la mano, и ты его тоже знала, как и я.
Твою любовь к музыке я обнаружил позже. Твои пальцы скользили по роялю, так же легко, как твои ноги по льду. Ты понимала и чувствовала музыку, жила ею. Мне довелось аккомпанировать нашему великому певцу Собинову на рояле у Евсеевых, в их гостиной, что я делал с волнением и счастьем. Но когда мне довелось познакомиться с интимной стороной своего музыкального вдохновения, когда ты позволила мне сесть за твое пианино, чтобы я подобрал аккомпанемент к той вокальной партии, которая будто рождалась где-то в глубине тебя, я был ошеломлен. То, что содержала в себе партитура, вдруг исчезло, а я унесся далеко за пределы пейзажей и меланхолических намеков, в самое сердце, которое билось, отдавало себя и описывало своими совершенными интонациями тот мир, глубины которого я еще не осознавал, но где я двигался все дальше, вдыхая вместе с тобой музыкальный аромат, который наполнял мою душу, и где твои каденции клубами устилали землю, перемешивали ее с небом, заливали ее роскошью небесных гармоний. Именно там, рядом с тобой, когда я вернулся из одного из тех величественных путешествий, в которые ты завлекала меня своим голосом, это желание единения отпечаталось в моем сердце.
В тот день, когда мы наконец вошли в православный храм в Сокольниках, ты пробудила во мне католике, которым я был, другого меня, часть России, ждущую своего часа, знакомую с детства, но ей, однако, ещё не доводилось проявиться. Ты была немкой, я был французом, и оба мы были русскими. Русской ты была по матери, а твой отец, балтийский немецкий барон, дал тебе вместе со своим титулом и языком это красивое имя, Шоенайх. Ты была единственной дочкой, а я – десятым ребенком в семье. Моя прусская мать была второй женой моего отца-француза. От неё, вместе с ее родным языком, мне передались устойчивый темперамент и надежный характер. Однако я был погружен во французскую культуру, сначала учась во французской школе в Москве, а затем в лицее Сен-Филипп-Нери. Но Россия ждала меня за порогом квартиры, в которой мы жили в Москве. Ее язык, ее способ чувствовать и видеть стали моими. Как и я, ты чувствовала себя глубоко русской, хотя, конечно, это было совсем не так.
Тебе было восемнадцать, мне тридцать… Как улыбался нам 1912 год!
Когда священник вел нас обоих за руку, я не мог удержаться от того, чтобы взглянуть на тебя: твою безмятежную сладость, твое чистое лицо, окруженное ореолом короны на голове.
Да, в тот год я чувствовал себя непобедимым! Окрыленный твоей любовью и нашим союзом, в то время я также создавал то, что впоследствии стало моим первым большим успехом: «Букет Наполеона». С каким терпением ты слушала своего Нестю – так ты ласково называла меня – с воодушевлением вещавшего про Императора и его сражения! Мы были тогда на пороге столетия Бородинской битвы, и было уместно отметить юбилей творением, достойным этого события: пряным, слегка древесным и шипровым одеколоном с оригинальной нотой, которую добавлял бальзам египетского происхождения. Он был воплощен в очень сдержанной бутылке, увенчанной изысканной пробкой, украшенной имперским орлом. Под горлышком бутылки черным по золотому фону шла надпись: 1812 N 1912. Этикетка изображала задумчивое лицо Императора с глубоким и решительным взглядом на фоне цвета сепии, надпись гласила:Bouquet Napoléon, Sté Rallet, Moscou («Букет Наполеона», Товарищество А. Ралле, Москва). Небольшой буклет, оформленный в память о битве, был напечатан и распространен товариществом. На его обложке можно было увидеть всадника, скачущего верхом на коне с поднятой саблей, – дань уважения моему деду, раненному в Смоленске. Вся Москва расхватала одеколон, и «Букет Наполеона» вскоре отправился покорять Российскую империю и даже ее отдаленные провинции, сочетая мощь, простоту и изысканность настолько успешно, что его хотели носить женщины всех слоев общества. И это уж был не тот Император, что запускал своих доблестных солдат наполеоновской гвардии в бескрайние русские леса и степи, а влюбленный человек, что галантно преподносил цветы своей супруге. И каждый русский, даря своей возлюбленной этот драгоценный флакон, вкладывал ей в руки частичку того огромного букета, который, как говорили, однажды сам Наполеон собрал для своей нежной Жозефины.
В тот год я был скован, как кандалами, днями работы техническим директором на заводе, выставками, концертами, операми, балетами, но не забывал и о прогулках с тобой, моя Идочка. В октябре наш сын свернулся клубочком, укрывшись у твоей талии, некогда такой тонкой, и принялся очерчивать на протяжении месяцев округлости, которые переполняли меня счастьем. А 21 июня 1913 года он появился на свет. Я дал ему имя Эдуард, это имя носили мой дед, наполеоновский герой, мой отец и мой старший брат. Казалось, все сулило нам светлое будущее…
The free sample has ended.