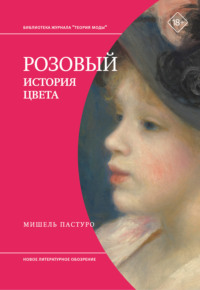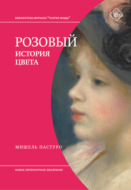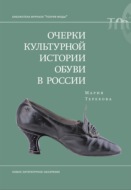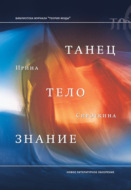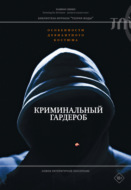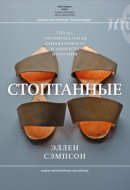Read the book: «Розовый. История цвета»
© Éditions du Seuil, 2023
© Н. Кулиш, перевод с французского, 2025
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Предисловие. Почему появилась и как написана эта книга
Является ли розовый цветом в полном смысле слова? Позволительно усомниться в этом, или, во всяком случае, поставить это под вопрос. Современная наука отказывает ему в полноценном хроматическом статусе: она не рассматривает розовый ни как цвет-вещество, ни как цвет – разновидность света, а лишь как один из оттенков красного, который отсутствует в солнечном спектре. Когда в 1666 году Исаак Ньютон смог разложить белый солнечный свет на разноцветные лучи, он не обнаружил среди них розового, хотя наряду с красным, желтым, зеленым и синим там наличествовали фиолетовый и оранжевый. С тех пор физика и все смежные с ней науки неизменно отказывались признавать в розовом подлинный цвет – не только как самостоятельный, но даже как полноправную «полуцветовую» категорию; лишь как оттенок.
Для историка дело обстоит сложнее. С одной стороны, не подлежит сомнению, что розовую краску, как для живописи, так и в красильном деле, люди научились изготавливать сравнительно поздно; с другой стороны, человеческий глаз сравнительно рано стал различать этот цвет в природе, и возникла необходимость подобрать ему название и попытаться определить его место среди прочих цветов. Так как же определить этот цвет, который часто можно увидеть у растений и минералов, на шерсти и оперении животных и птиц и даже на небе, в момент, когда солнце встает и когда оно садится? Долгое время лексика была неспособна это сделать: ни в древнегреческом, ни в латинском языке не было общеупотребительного слова для обозначения розового.
Проблема не была решена и позднее, в местных европейских языках Средневековья и раннего Нового времени: базовый термин появился только в XVIII веке, когда цвет получил свое название от цветка: во французском, немецком и итальянском это была роза, в английском – гвоздика. Но какое место должен занимать этот цвет в ordo colorum, цветовом порядке ученых, или на любой хроматической шкале?
Долгие столетия для него не находилось места, потому что у него не было имени, а классификация – это прежде всего вопрос лексики. В самом деле, розового нет ни в одном перечне цветов, какие оставили нам Античность и Средние века; отсутствует он также в поэмах и хрониках, в трактатах или энциклопедиях, повсюду, где речь идет о цветах.
Однако с середины XV века положение меняется: в эту эпоху в хроматических каталогах для определения красок начинают применяться не только их словесные описания, но и наглядные образцы; и розовый наконец обретает свое место, не очень заметное, разумеется, но все же неоспоримое. Помимо прочего, нам приходится отметить один факт, который нас удивляет: оказывается, до того, как розовый был встроен в гамму красных тонов, он считался одним из оттенков желтого – бледно-желтым, в большей или меньшей степени близким к оранжевому, поскольку ни красильщики, ни живописцы тогда еще не умели передавать яркие, насыщенные розовые тона. Они добьются этого только в XVIII веке, и с этого времени за розовым закрепится новое определение: цвет, получаемый путем смешения красного и белого. И соответственно, отныне он обладает статусом «смешанного» цвета, наряду с фиолетовым, серым, коричневым и оранжевым.
Как мы видим, история розового полна неясностей, крутых поворотов, и пересказать ее нелегко – потому что этот цвет долгое время казался неуловимым, нестойким, эфемерным, не поддающимся ни анализу, ни синтезу. Наверное, именно поэтому так мало исследований, посвященных этому цвету, по крайней мере в историческом плане. Большинство известных нам работ охватывают только несколько последних десятилетий. И зачастую они разочаровывают, так как проблемы цвета рассматриваются в них преимущественно в гендерном аспекте: розовый – женский цвет, синий – мужской. Не следует забывать, что такое разграничение по половому признаку характерно лишь для сравнительно краткого периода, к тому же оно представляет только одну грань богатой символики розового. Начиная с XVIII века этот цвет наконец завоевывает себе место в повседневной жизни и обзаводится собственной символикой, независимой от символики красного, желтого и белого. Он заслуживает, чтобы на него обратили внимание. Тем более что в дальнейшем у розового обнаруживаются различные нюансы, которые постепенно становятся еще многочисленнее, проявляясь даже в соседстве с другими оттенками, а его название обрастает различными переносными смыслами и порождает различные образные выражения и устойчивые словосочетания, порой положительные («видеть жизнь в розовом свете»), порой отрицательные («розовая водица»). И если наука не признает розовый цветом, в материальной культуре, вестиментарных традициях и социальных кодах, которые их сопровождают, это, безусловно, цвет, самостоятельный и выразительный.
На основании всего этого розовый может служить примером для того, чтобы проиллюстрировать и подчеркнуть расхождение между научными теориями и социальными практиками, которое мы наблюдаем, когда дело касается цветов. Слишком часто в различных областях жизни физика и химия навязывают свои постулаты обществу. Приходится признать, однако: с цветами дело обстоит иначе. И это не огорчает историка, а, напротив, только радует: что бы ни гласил суровый вердикт науки, розовый, так же, впрочем, как белый или черный, – это цвет с полноценным хроматическим статусом.
* * *
Книга «Розовый. История цвета» – седьмая по счету в серии, которая была начата двадцать пять лет назад. Ей предшествовали «Синий. История цвета» (2000), «Черный. История цвета» (2008), «Зеленый. История цвета» (2013), «Красный. История цвета» (2016), «Желтый. История цвета» (2019), «Белый. История цвета» (2022); все они опубликованы в издательстве Seuil1. Как и предыдущие, она выстроена в хронологическом порядке: это история розового, а не энциклопедия розового, и не исследование его судьбы только в современную эпоху, как в немногих посвященных ему работах. Моей целью было проследить судьбу этого цвета за длительный период и во всех аспектах, от лексики до символики, включая повседневную жизнь, социальные практики, научное знание, применение в технике, религиозную мораль, художественное творчество, мир эмблем и знаков. Слишком часто в работах, претендующих на то, чтобы рассказать историю цвета, все сводится к единственной области – области изобразительного искусства. Такое сужение круга тем неправомерно. История живописи – это одно, история цвета – другое, нечто гораздо более масштабное, и нет никаких оснований ограничивать ее рамками наиболее близких нам эпох.
Следует также добавить, что эта книга, как и шесть предыдущих, только на первый взгляд представляет собой монографию. Цвет никогда не существует сам по себе. Он обретает свой смысл, он «работает» в полную силу с социальной, лексической, художественной или символической точки зрения, только в ассоциации или в противопоставлении с каким-либо другим или несколькими другими цветами. По этой же причине цвета невозможно рассматривать по отдельности. Если вы решили говорить о розовом, вам неизбежно придется говорить о красном, белом, синем, даже о зеленом или желтом. Сейчас эти семь книг составляют здание, над строительством которого я работаю более полувека: история различных цветов в обществах Западной Европы, от Древнего Рима до конца XVIII века. Даже если, как вы увидите на последующих страницах или можете увидеть в других шести книгах, случается, что я и в одну, и в другую сторону выхожу далеко за рамки этого – впрочем, и так весьма длительного – периода, именно он является основной целью моих исследований. Кроме того, я сознательно ограничиваю исследуемый материал западноевропейскими обществами, поскольку для меня проблемы цвета – это прежде всего проблемы общества. А я как историк не обладаю достаточной компетенцией, чтобы говорить обо всей планете в целом, и не имею желания воспроизводить по второму или третьему разу труды исследователей, занимающихся неевропейскими обществами. Чтобы не писать глупости, чтобы не списывать или воровать из чужих книг, я ограничиваю себя тем, что я знаю и что с 1983 года является темой моих семинаров в Практической школе высших исследований. Приношу всем моим студентам, аспирантам, ассистентам и слушателям горячую благодарность за наш плодотворный обмен мнениями, который, надеюсь, будет продолжен в различных местах и научных учреждениях. Ведь цвет вообще – явление, затрагивающее каждого, связанное со всеми проблемами в жизни общества, как материальными, так и культурными. И розовый цвет – не исключение.
Глава 1. Незаметный цвет (от начала времен до XIV века)
Красный цвет, появившийся еще на стенах пещер эпохи палеолита, был первым цветом, который художники научились воспроизводить в различных оттенках. Однако до гаммы розовых тонов дело дошло сравнительно недавно, во всяком случае в Европе: это произошло в IV веке до нашей эры. Следы розовой краски на стенах жилищ или на предметах обстановки, относящиеся к более ранним периодам, – это не работа художников, а работа времени: порой оно превращало в различные нюансы розового тона, которые изначально были красными, коричневыми или оранжевыми2. Столь позднее появление розового в западноевропейской живописи не может не вызывать удивления, ведь в Природе встречаются разнообразные оттенки этого цвета, не только у многочисленных растений, минералов или на раковинах моллюсков, шерсти животных и оперении птиц: случается, мы видим розовый и на небе, правда, совсем ненадолго – это результат световых эффектов, возникающих при определенном положении Солнца над горизонтом либо при определенных фазах Луны или же при необычных явлениях, таких как гроза или извержение вулкана. Художники и ремесленники Античности очень редко ставили задачу воспроизвести такие оттенки розового, а западноевропейские общества, со своей стороны, слишком поздно задались целью классифицировать их и дать им названия.
Первые розовые пигменты
Если обратиться к Древней Греции, то совсем недавно в царских гробницах Македонии были открыты настенные росписи, датируемые IV – началом III века до нашей эры, которые дали нам первые неопровержимые свидетельства применения розового художниками Античности. И на сей раз речь идет именно о розовых тонах, а не о более или менее осветленных красных или о красновато-оранжевых, какие мы видим на греческих вазах, где после обжига фигуры принимали оттенки, близкие к цвету кирпича или черепицы. Возьмем, например, знаменитый аттический килик 500–480-х годов до нашей эры, приписываемый художнику Онезиму: на дне сосуда лежит обнаженная женщина – сюжет, редко встречающийся на античных вазах – с телом красивого розового оттенка, необычного даже для изображения женского тела (которое всегда изображали светлее мужского). Но это керамика, а не настенная живопись.
Находки последних десятилетий в Македонии – это настоящие полихромные росписи. Они ставят под сомнение идею Плиния (подхваченную его последователями и его современными комментаторами) – идею, от которой пора окончательно отказаться: что палитра живописцев Древней Греции сводилась к четырем цветам: красному, белому, черному и желтому. Росписи были найдены в развалинах дворцов, в погребальных храмах, но главным образом – в царских гробницах конца классической эпохи, датируемых приблизительно 330–280-ми годами до нашей эры. В ходе раскопок, проводившихся с 1977 по 2014 год, был собран богатейший археологический материал (украшения, оружие, изделия из драгоценных камней и металлов). Также нам стали доступны сцены повседневной жизни и декоративные элементы, запечатленные в росписях, которые вносят неоценимый вклад в наши познания о живописи IV–III веков до нашей эры. Комнаты, ложа, стелы, троны, царская мебель, перегородки и фасады: здесь все – мрамор и слоновая кость, металл и простая штукатурка – окрашено в яркие, разнообразные цвета. Самые впечатляющие росписи находятся в четырех гробницах в поселке Вергина, недалеко от Эги, первой столицы македонских царей. (Одно время считалось доказанным, что это гробницы Филиппа II, отца Александра Великого, умершего в 336 году, его матери Эвридики, умершей на поколение раньше, а также двух более молодых мужчин или женщин из царского рода; но в настоящий момент существуют разные версии.) Найдены и другие, менее значительные захоронения, в Вергине и ее окрестностях, а также более или менее ценные фрагменты отделки стен и мебели3.
Исследование этих захоронений существенно изменило наши познания об искусстве живописи в Древней Греции4. И дело не только в том, что цветовая гамма здесь не сводилась к трем-четырем основным цветам, а включала в себя одиннадцать – красный, черный, желтый, белый, синий, зеленый, серый, фиолетовый, оранжевый, коричневый и розовый: каждый из этих цветов еще дробился на несколько оттенков благодаря смешиванию красок или наложению одних красочных слоев на другие так, что получалось нечто вроде лессировки. Следует также отметить, что древнегреческим живописцам уже была известна техника, которую позднее применяли художники Древнего Рима, – «оптическое смешивание» красок. Например, чтобы получить розовый цвет, существует несколько способов: можно, конечно же, просто смешать красную и белую краски либо наложить одну поверх другой, а можно и легкими мазками расположить их рядом на окрашиваемой поверхности: тогда глаз смотрящего сам произведет смешение и вместо красного и белого увидит розовый. На практике художники освоили этот прием еще во времена Античности, но теоретическую основу под него подвели лишь в 1839 году: это сделал Мишель Эжен Шеврёль в своем знаменитом трактате «О законе симультанного контраста цветов». Книга Шеврёля, объемная и нелегкая для чтения, все же оказала большое влияние на импрессионистов: этому поспособствовал Шарль Блан, который в 1867 году опубликовал ее сокращенную версию в своей «Грамматике графических искусств»5.
Исследования македонских росписей показали, что древние художники пользовались разнообразными пигментами, более многочисленными, чем те, которые, насколько нам было известно, применялись в древнегреческой живописи в более ранние периоды. Назовем здесь только краски, служившие для создания розовых тонов путем смешивания, напластования или расположения по соседству. Белые изготавливались на основе мела или близких ему по составу веществ, из каолина (белой глины), а иногда и из прокаленных костей – трех красителей естественного происхождения, применявшихся еще в эпоху палеолита. Но ученые отмечают также и широкое применение краски, которую ждало большое будущее: свинцовых белил, искусственного пигмента, получаемого путем окисляющего воздействия кислоты на тонкие пластины свинца (это самый простой способ). Реакция происходит в плотно закрытом сосуде, где содержатся также органические вещества, которые приходят в состояние брожения и выделяют углекислый газ. Полученные таким образом белила промывают, измельчают, высушивают и хранят в виде порошка. Несмотря на токсичность этой краски, художники еще очень долго, даже и в Новое время, будут очень ценить ее за укрывистость, светостойкость, за дешевизну, за многообразие и удобство применения и за качество оттенков, которые она дает в смеси с другими пигментами. В частности, превосходные розовые тона получаются, если к свинцовым белилам просто добавить небольшое количество красной охры или порошка гематита (минерала, богатого оксидом железа) либо марену в порошке или красные лаки растительного (марена) либо животного (пурпур6) происхождения. Однако художники Древней Греции и Древнего Рима никогда не смешивали их с киноварью (природным сульфидом ртути), весьма дорогостоящим пигментом, который они при других обстоятельствах использовали очень – чтобы не сказать: слишком – широко (например, в Помпеях), потому что свинцовые белила, как любой продукт на основе свинца, нельзя смешивать или держать в соседстве с веществами, содержащими серу.
Новаторство мастеров, работавших в Македонии, если сравнивать их с художниками классической эпохи, заключается не только в количестве и разнообразии применяемых пигментов, но также и в самой манере их использования, которая помогает получать разные эффекты. Краски наносятся легкими мазками, а не ровными слоями, что позволяет нюансировать оттенки и изобретать новые градации тонов, иногда достигая эффекта прозрачности и используя его в весьма затейливых сочетаниях – позднее, в живописи Древнего Рима, этот прием станет гораздо более распространенным.
Благодаря умению варьировать толщину красочного слоя (эмпасте) мастера македонских гробниц также достигают большого успеха в работе со светотенью, создавая иллюзию объема и пластической выразительности формы, вплоть до того, что фигура на фоне начинала восприниматься почти скульптурно. Особенно это проявляется в изображении человеческого тела. Большинство художников Македонского некрополя уделяют особое внимание изображению человеческой плоти, тщательно работают над смесями и напластованиями пигментов, чтобы показать человеческие тела, различающиеся по оттенку кожи – обычно в зависимости от пола (у женщин она светлее, у мужчин темнее), а по возможности еще и в зависимости от социального статуса или этнического происхождения7. Вдобавок тщательный подбор оттенков придает нарисованным лицам и телам живость – не для того, чтобы сделать их реалистичнее, а, наоборот, чтобы их идеализировать. Если художник взялся изображать человеческую плоть, ему в первую очередь понадобятся розовые тона, причем во множестве тончайших нюансов большей или меньшей насыщенности и с легкой примесью какого-либо другого цвета – это могут быть розово-оранжевый, розово-бежевый, коричневато-розовый, зеленовато-розовый или голубовато-розовый. Здесь речь идет о бесспорном новаторстве, по крайней мере в рамках определенного сюжета. С этого времени в западноевропейской живописи розовый цвет всегда будет тесно связан с кожей, плотью и обнаженным телом.