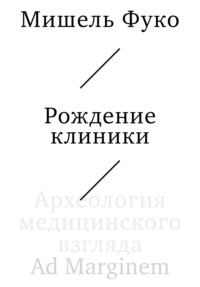Read the book: «Рождение клиники. Археология медицинского взгляда»
Naissance de la clinique
© Presses Universitaires de France/Humensis, 1963
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Предисловие
В этой книге идет речь о пространстве, о языке и о смерти; речь идет о взгляде.
В середине XVIII века Помм врачевал и успешно излечил одну истеричку, заставляя ее принимать «ванны от 10 до 12 часов в день на протяжении полных десяти месяцев». К концу этого лечения, направленного против иссушения нервной системы и способствующего ему жара, Помм увидел «мембранные участки, похожие на куски мокрого пергамента… отделявшиеся немного болезненно и ежедневно выходившие с мочой, тогда как поверхность уретры справа отслаивалась и выходила тем же путем». То же самое происходило «с кишечником, внутреннюю оболочку которого мы наблюдали выходящей через прямую кишку в другое время. Поверхность пищевода, трахеи, артерии и языка также отслаивались; и недуг выходил по частям либо с рвотой, либо с отхаркиванием» 1.
А вот как менее столетия спустя врач воспринимает анатомическое повреждение мозга и его оболочек; речь идет о «ложных мембранах», которые часто обнаруживаются у людей, страдающих «хроническим менингитом»: «Их внешняя поверхность, прилегающая к паутинному листку твердой мозговой оболочки, прикрепляется к этому листку то очень неплотно, так что их легко отделить, то прочно и плотно, и тогда бывает весьма трудно их развести. Они соприкасаются с паутинной оболочкой только своей внутренней поверхностью, и никак иначе они с ней не соединены… Ложные мембраны часто бывают прозрачными, особенно когда они весьма тонки; но обычно они беловатого, сероватого, красноватого и, реже, желтоватого, коричневатого и черноватого цвета. Это вещество нередко имеет различные оттенки в разных частях одной и той же мембраны. Толщина этих случайных образований весьма различна; порой они настолько тонки, что их можно сравнить с паутиной. Строение ложных мембран также весьма различно: тонкие мембраны имеют кожицу, напоминающую белковую пленку яиц, и не обладают сколько-нибудь различимой структурой. Другие часто обнаруживают на одной из поверхностей сетку кровеносных сосудов, перекрещивающихся в различных направлениях и наполненных кровью. Нередко они превращаются в наслаивающиеся одна на другую пластинки, между которыми довольно часто попадаются более или менее обесцвеченные сгустки крови» 2.
Между текстом Помма, в котором обрели свою окончательную форму старые мифы о нервной патологии, и текстом Байля, который уже в то время, из которого мы все еще не вышли, описал повреждения головного мозга при общем параличе, – различие и незначительное, и абсолютное. Абсолютное для нас, поскольку каждое слово Байля, с присущей ему точностью в деталях, направляет наш взгляд на мир, где всё зримо, тогда как первый текст говорит нам о фантазмах языком, лишенным чувственного подкрепления. Но что за фундаментальный опыт мог породить столь очевидное различие, если не наши восприятия, и где они зарождаются и находят себе основания? Кто может заверить нас в том, что врач XVIII века не видел того, что он видел, и что понадобилось несколько десятилетий, чтобы фантастические фигуры развеялись и очистившееся пространство позволило узреть истинную суть вещей?
Не было ни «психоанализа» медицинского знания, ни более или менее спонтанного отказа от воображаемых нагрузок; «позитивная» медицина – это не та медицина, что делает «объектный» выбор, который в конце концов приведет к подлинной объективности. Всё, что имело силу в том визионерском пространстве, где взаимодействовали врачи и больные, физиологи и терапевты (растянутые и скрученные нервы, сухой жар, затвердевшие или спекшиеся органы, возрождение тела под благотворным действием освежения и увлажнения), никуда не исчезло; скорее, оно было вытеснено и ограничено исключительностью больного, той областью «субъективных симптомов», которые теперь определяют для врача уже не способ познания, но мир объектов познания. Фантастическая связь между знанием и недугом, которая вовсе не была разорвана, устанавливается более сложным способом, нежели простое притяжение между воображениями; присутствие болезни в теле, его напряжение, его жар, потаенный мир внутренних органов, всё темное нутро тела, о которых долго грезили, не видя их, теперь разом оказались оспорены в своей объективности редукционистским дискурсом врача и стали рассматриваться как объекты его позитивного взгляда. Образы недуга не подверглись заклятию нейтрализующим знанием; они перераспределились в пространстве, в котором встречаются тела и взгляды. Что изменилось, так это скрытая конфигурация, в которой язык обретает свою опору, соотносится с ситуацией и занимает положение между тем, кто говорит, и тем, о чем говорят.
Что же до языка, то с какого момента, в силу какой семантической или синтаксической модификации можно признать, что он превратился в рациональный дискурс? Что за разделительная линия проходит между описанием, изображающим мембраны как мокрый пергамент, и другим, столь же внимательным к деталям, столь же метафорическим, которое видит, как они покрывают мозговую оболочку подобно белковой пленке яйца? Имеют ли «беловатые» и «красноватые» листки Байля большую ценность, надежность и объективность для научного дискурса, нежели сморщенные пластинки, описанные врачом XVIII века? Взгляд несколько более педантичный, словесный поток более неспешный и более внимательный к вещам, нюансированные выражения тоньше, порой не столь расплывчаты, – не есть ли это попросту, говоря медицинским языком, распространение стиля, который со времен Галеновой медицины из-за неразличимости вещей и их форм изощрялся в описании качеств?
Чтобы понять, когда произошла мутация дискурса, нужно, конечно же, заняться чем-то иным, нежели его тематическое содержание или логические модальности, обратившись к той области, где вещи и слова еще не разделены, где способ видеть и способ говорить еще сохраняют единство на языковом уровне. Нужно пересмотреть изначальное разделение на видимое и невидимое в том, как оно связано с разделением на то, что выражает себя, и тем, что безмолвствует: тогда артикуляция медицинского языка и его объекта предстанет как единая фигура. Но не в смысле первенства, вопрос о котором ставится лишь ретроспективно; лишь речевая структура воспринимаемого – то гулкое пространство, в котором язык обретает громкость и объемность, – может быть вынесена на равнодушный свет дня. Нужно раз и навсегда закрепиться и удерживаться на фундаментальном уровне пространственного распределения и вербализации патологического, где рождается и сосредоточивается многоречивый взгляд, который врач устремляет в тлетворную сердцевину вещей.
Современная медицина считает датой своего рождения последние годы XVIII столетия. Принимаясь размышлять о себе, она определяет исток своей позитивности как возврат от какой бы то ни было теории к непритязательному, но действенному уровню восприятия. В действительности этот мнимый эмпиризм основывается не на повторном открытии абсолютной значимости видимого, не на решительном отказе от систем с их химерами, но на реорганизации того явного и тайного пространства, которое было открыто, когда взгляд в тысячный раз остановился на человеческих страданиях. Тем не менее освежение медицинского восприятия, яркое озарение оттенков и вещей под взглядом первых клиницистов – это не миф; в начале XIX века врачи описали то, что на протяжении столетий оставалось за гранью видимого и выразимого; однако дело не в том, что они вернулись к восприятию после затянувшихся спекуляций или стали больше прислушиваться к разуму, чем к воображению; дело в том, что отношение видимого к невидимому, в котором нуждается всякое конкретное знание, изменило свою структуру и представило взгляду и языку то, что пребывало вне и за пределами их области. Между словами и вещами сложилась новая связь, побуждающая видеть и говорить, и порой дискурс действительно был столь «наивным», что казалось, будто он располагается на более архаичном уровне рациональности, словно бы это было возвращение к самому началу.
В 1764 году Ж. Ф. Меккель взялся изучать повреждения головного мозга при ряде заболеваний (апоплексия, мания, туберкулез); он использовал рациональный метод взвешивания равных объемов и их сравнения, чтобы определить, какие участки мозга иссохли, какие были переувлажнены и при каких болезнях. Современная медицина почти ничего не извлекла из этих исследований. Патология головного мозга в своей «позитивной» форме началась для нас, когда Биша, но прежде всего Рекамье и Лаллеман стали использовать свой знаменитый «молоточек с широким и тонким концом. Легкие удары по наполненному черепу не могут привести к сотрясениям, которые вызвали бы разрушения. Лучше начинать с задней части, потому что, когда остается сломать только затылочную часть, она бывает настолько подвижна, что можно промахнуться… У самых маленьких детей кости слишком мягкие, чтобы их можно было разбить, и слишком тонкие, чтобы можно было их распилить; их нужно разрезать крепкими ножницами…» 3. И вот плод трудов: из-под аккуратно расколотой скорлупы показывается какая-то мягкая сероватая масса, покрытая слизистой оболочкой с прожилками крови, жалкая бренная мякоть, в которой сияет наконец-то освобожденный, вынесенный на свет дня объект познания. Артистическая ловкость крушителя черепов потеснила научную точность взвешивания, однако именно в этом и состоит наша наука со времен Биша; точный, но не подлежащий измерению жест, открывающий взгляду всю полноту конкретных вещей, с четкой сеткой их качеств, утверждает объективность более научную, чем инструментальное опосредование количества. Медицинская рациональность погружается в чудесные глубины восприятия, предлагая, как первый лик истины, крупицы вещей, их цвет, их пятна, их твердость, их связь. Пространство опыта отождествляется теперь со сферой внимательного взгляда, с той эмпирической бдительностью, что открыта лишь очевидности зримого содержания. Глаз становится хранилищем и источником ясности; он способен вывести на свет истину, которую он обретает в той мере, в какой он высвечивает ее; раскрываясь сам, он впервые открывает истину: перелом, знаменующий переход от мира классической ясности, от «Просвещения» к XIX столетию.
Для Декарта и Мальбранша видеть значило воспринимать (даже в самых конкретных формах опыта: занятия анатомией у Декарта, микроскопические наблюдения у Мальбранша); однако речь шла о том, чтобы, не отнимая у восприятия его чувственного содержания, сделать его прозрачным для работы ума: свет, необходимое условие всякого взгляда, был элементом идеальным, тем не поддающимся описанию местом рождения, где сущность вещей совпадала с их формой, от которой вещи получали свою телесную геометрию; доведенный до совершенства акт видения вновь растворился в простой и неизменной фигуре света. В конце же XVIII века видеть означало позволить опыту обрести прежде всего телесную непрозрачность; твердость, сокрытость, плотность вещей, замкнутых в самих себе, обладающих силой истины, которую они получают не от света, но от неспешности взгляда, который их видит, обтекает и мало-помалу проницает их, который только и может их осветить. Нахождение истины в темной сердцевине вещей парадоксальным образом связано с той присущей эмпирическому взгляду силой, что обращает их ночь в день. Весь свет исходит от тонкого лучика глаза, который теперь обращается вокруг плотных предметов и заодно говорит нам об их месте и форме. Рациональный дискурс зиждется не столько на геометрии света, сколько на неподатливой, непроницаемой плотности предмета; прежде всякого познания, источник, область и границы опыта задаются его темным присутствием. Взгляд пассивно связан с этой изначальной пассивностью, которая ставит перед ним бесконечную задачу пройти через этот опыт до конца и овладеть им.
Он принадлежит языку вещей, и, быть может, только он делает доступным человеку такое знание, которое не было бы лишь историческим или эстетическим. То, что исследовательская деятельность человека превращается в бесконечный труд, более не помеха для опыта, который, признавая свою ограниченность, расширяет свои задачи до бесконечности. Особое качество, неосязаемый цвет, уникальная и непостоянная форма, приобретая статус объекта, обретают вес и устойчивость. Никакой свет теперь не может растворить их в идеальных истинах, зато устремленный на них взгляд пробуждает их и придает им ценность на почве объективности. Отныне взгляд не умаляет, но утверждает человека в его неотъемлемом качестве. И теперь вокруг него может сложиться рациональный язык. Объект дискурса может быть также субъектом, а фигуры субъективности при этом не меняются. Именно эта формальная и глубинная реорганизация, а вовсе не отказ от старых теорий и систем сделала возможным клинический опыт; она сняла старый аристотелевский запрет: теперь, наконец, можно было распространить научно структурированный дискурс на индивида.
Это обращение к индивиду наши современники рассматривают как «частное суждение» и как концентрированную формулировку старого медицинского гуманизма, столь же древнего, как человеческая жалость. Безмозглые феноменологи понимания смешивают эту полусырую идею с песком своей концептуальной пустыни; несколько эротизированный словарь «свидания» и «пары врач-больной» изнуряется в своем стремлении сообщить бледную немочь супружеских фантазий этой необходимости взаимодействовать. Клинический опыт – это первое в западной истории открытие конкретного индивида на языке рациональности, это важнейшее событие в отношении человека к самому себе и языка к вещам – вскоре стал восприниматься как простое, неконцептуализированное соприкосновение взгляда и лика, взора и безмолвного тела, своего рода контакт, предшествующий всякому дискурсу и не встречающий никаких трудностей с языком, в результате которого два живых индивида оказываются «заключены» в общей, но не обоюдной ситуации. В своих последних конвульсиях так называемая либеральная медицина, взывая к открытому рынку, ссылается на старые права клиники, понимаемые как частный контракт и негласное соглашение, заключаемые между людьми. При таком взгляде пациенту приписывается способность в разумных пределах – не слишком много и не слишком мало – стать причастным к общей форме научного исследования: «Чтобы иметь возможность предложить каждому нашему больному наиболее подходящее для его болезни и для него самого лечение, мы собираем объективное и полное представление о его случае, мы собираем его личное досье (его «наблюдение»), все сведения, которыми мы о нем располагаем. Мы наблюдаем его так же, как наблюдаем звезды или проводим лабораторный опыт» 4.
С чудесами всё не так просто: мутация, которая позволила и которая по сей день позволяет «постели» больного превращаться в поле научных исследований и дискурса, – это не гремучая смесь из старых привычек с еще более древней логикой или знания с причудливым чувственным сочетанием «такта», «взгляда» и «чутья». Медицина как клиническая наука возникла в условиях, определяющих наряду с ее исторической возможностью сферу ее опыта и структуру ее рациональности. Они формируют то a priori, которое теперь можно воплотить в жизнь, быть может, потому, что рождается новый опыт болезни, предлагающий возможность исторического и критического осмысления старого опыта.
Однако для обоснования дискурса о рождении клиники необходим обходной маневр. Дискурса странного, не спорю, ибо он не может опираться ни на сегодняшнее мышление клиницистов, ни даже на повторение того, что они могли сказать в прошлом.
Весьма вероятно, что сами мы принадлежим к веку критики, ведь отсутствие первой философии ежеминутно напоминает нам о ее господстве и неизбежности: к веку разума, который навсегда оторвал нас от первоначального языка. По Канту, возможность критики и ее необходимость были связаны через определенное научное содержание с тем фактом, что познание существует. В наши дни они связаны – и филолог Ницше тому свидетель – с тем фактом, что существует язык и что в бесчисленных словах, произносимых людьми, – будь они разумны или бессмысленны, демонстративны или поэтичны, – обрел свою форму смысл, который довлеет над нами, ведет нас в нашей слепоте, но вместе с тем поджидает впотьмах, когда мы достигнем осознания, чтобы выйти на свет дня и заговорить. Мы исторически обречены на историю, на терпеливое конструирование дискурса о дискурсах, имея перед собой задачу слушать то, что было сказано.
Фатально ли то, что мы не знаем иной формы речи, нежели комментарий? Этот последний, по правде говоря, подвергает дискурс допросу о том, что он говорит и что он хочет сказать; он стремится выявить это двойное дно речи, где она обретает тождественность с самой собой, что, как предполагается, приближает нас к ее истине; речь о том, чтобы, излагая сказанное, пересказать то, что никогда не говорилось. В этой комментаторской деятельности, которая стремится превратить сжатый, старый и словно бы замкнувшийся в своем молчании дискурс в другой, более разговорчивый, одновременно более архаичный и более современный, скрывается совершенно особенное отношение к языку: комментировать – значит по определению признавать избыток означаемых по отношению к означающим, неизбежно несформулированный остаток мысли, который язык оставил в тени, остаток, который составляет самую его суть, извлеченную из его потаенных глубин; однако комментирование предполагает также, что это невысказанное дремлет в речи и что из-за присущей означающему избыточности можно, допросив его, заставить его выговорить то содержание, которое не было явно обозначено. Эта двойная избыточность, открывая возможности комментария, ставит перед нами бесконечную задачу, которую ничто не может ограничить: всегда есть некоторый остаток означаемого, которому тоже нужно дать слово; что же касается означающего, оно всегда предлагается в избытке, который независимо от нашего желания требует задаться вопросом о том, что оно «хочет сказать». Означающее и означаемое, таким образом, обретают существенную автономию, которая обеспечивает каждому из них в отдельности хранилище виртуального значения; в пределе одно смогло бы существовать без другого и заговорить само за себя: комментарий располагается в этом предположительном пространстве. Но в то же время он изобретает между ними сложную связь, целую запутанную сеть, которая ставит на кон поэтическую выразительность: означающее не должно «переводить», ничего не скрывая, не оставляя означаемому неисчерпаемого резерва; означаемое раскрывается лишь в видимом мире и несет на себе груз означающего, наполненного значением, которое ему не принадлежит. Комментарий основывается на постулате о том, что речь есть акт «перевода», что у нее есть опасная привилегия показывать образы, скрывая их, и что она может бесконечно подменять саму себя в открытой серии дискурсивных повторений, короче говоря, он основывается на интерпретации языка, несущей на себе печать своего исторического происхождения: экзегеза, которая, продираясь через запреты, символы, чувственные образы, через весь аппарат Откровения вслушивается в Слово Божье, всегда тайное, всегда лежащее за собственными пределами. Мы годами комментируем язык своей культуры как раз с той точки, в которой мы веками напрасно ждали разрешения Слова.
Говорить о мыслях других, пытаться сказать то, что сказали они, традиционно означает заниматься анализом означаемого. Но так ли уж необходимо, чтобы сказанное в другом месте и другими людьми рассматривалось исключительно в свете игры означающего и означаемого? Разве нельзя заниматься таким анализом дискурса, который избежал бы фатальности комментария, не выдумывая никакого остатка, ничего лишнего в сказанном, кроме одного лишь факта его исторического появления? В таком случае данности дискурса следовало бы рассматривать не как автономные ядра множественных значений, но как события и функциональные сегменты, последовательно образующие систему. Смысл высказывания определялся бы не хранилищем содержащихся в нем интенций, одновременно раскрывающихся и скрываемых, а тем различием, которое артикулирует его по отношению к другим реальным и возможным высказываниям, которые ему современны или которым он противостоит в линейном ряду времени. Вот тогда и появилась бы систематическая история дискурса.
До сих пор история идей знала лишь два метода. Первым, эстетическим, был метод аналогии – аналогии, чьи пути пролегают во времени (генезис, происхождение, родство, влияния) или в плоскости исторически определенного пространства (дух времени, его Weltanschauung, его фундаментальные категории, организация его социокультурного мира). Другой, психологический, заключался в отказе от содержания (тот или иной век был не настолько рационалистическим или иррационалистическим, как об этом говорили или как в это верили), из которого стал развиваться своего рода психоанализ мыслей, результаты которого с полным правом можно повернуть в обратную сторону, – ядро ядра всегда есть его противоположность.
Здесь я хочу попытаться проанализировать определенный тип дискурса – дискурса медицинского опыта – в тот век, когда, в преддверии великих открытий XIX столетия, он изменил не столько свой материал, сколько свою систематическую форму. Клиника – это одновременно и новый разрез вещей, и принцип их артикуляции в языке, который мы привыкли называть языком «позитивной науки».
Тому, кто захотел бы составить ее тематическую опись, идея клиники, несомненно, представилась бы перегруженной весьма расплывчатыми значениями; он, вероятно, обнаружил бы такие бесцветные фигуры, как особенное действие болезни на больного, разнообразие человеческих темпераментов, вероятность патологического развития, потребность в обостренном восприятии, чувствительном к малейшим видимым модальностям, эмпирическая форма медицинского знания, кумулятивная и принципиально открытая, – все эти старые понятия, которыми пользовались издавна и которые, несомненно, были на вооружении уже у греческой медицины. Ничто в этом древнем арсенале не может ясно указать на тот произошедший в XVIII столетии поворот, когда возвращение старой клинической темы «вызвало», если верить поспешным суждениям, существенную мутацию в медицинском знании. Однако, если рассматривать ее в ее целостности, клиника предстает перед опытом врача как новая фигура воспринимаемого и высказываемого: новое распределение дискретных элементов телесного пространства (например, выделение ткани – функциональной двухмерной плоскости, которая, в отличие от функционирующей массы органа, представляет собой парадокс внутренней поверхности), реорганизация элементов, составляющих патологическое явление (грамматика знаков пришла на смену ботанике симптомов), определение линейного ряда болезненных проявлений (в отличие от путаницы нозологических видов), привязка болезни к организму (исчезновение общих болезнетворных сущностей, которые сводили симптомы в единую логическую фигуру, и их замена локальным статусом, который помещает сущее болезни с ее причинами и следствиями в единое трехмерное пространство). Появление клиники как исторический факт следует связывать с этой системой реорганизаций. Эта новая структура обозначается, но, конечно же, не исчерпывается тем с виду незначительным, но решающим изменением, которое привело к замене вопроса «Что с вами?», с которого в XVIII веке начинался диалог врача и больного, с присущими ему грамматикой и стилем, другим вопросом, в котором мы узнаем работу клиники и самый принцип ее дискурса: «Где у вас болит?». С этого момента отношение между означающим и означаемым перераспределяется, и происходит это на всех уровнях медицинского опыта: между симптомами, которые означают, и болезнью, которая означается, между описанием и тем, что оно описывает, между происходящим и тем, что оно предсказывает, между повреждением и болью, которая о нем сигнализирует, и т. д. Клиника, которую неизменно превозносят за ее эмпиризм, хладнокровное внимание и молчаливую заботу о том, чтобы вещи представали перед ее взором, не отягощенные никаким дискурсом, в действительности обязана своим значением тому факту, что она представляет собой глубинную реорганизацию не только медицинских знаний, но и самой возможности дискурса о болезни. Ограниченность клинического дискурса (провозглашаемые врачами уход от теории, отказ от систем, от философствования) отсылает к невербальным условиям, при которых он может звучать: общая структура, которая разделяет и сочленяет то, что видится, и то, что говорится.
Итак, предпринимаемое здесь исследование по своему замыслу должно быть одновременно историческим и критическим, поскольку оно, независимо от возлагаемых на него ожиданий, направлено на определение условий возможности медицинского опыта, каким его знает современная эпоха.
Скажу раз и навсегда, эта книга написана не за одну медицину против другой или против медицины и за ее отсутствие. Здесь, как и в других моих работах, речь идет об исследовании, которое пытается выявить в толще дискурса условия его истории.
В том, что говорят люди, важно не столько то, что они могли думать, или то, насколько это отражает их мысли, сколько то, что изначально организует их, делая их в дальнейшем легкодоступными для новых дискурсов и готовыми взяться за их преобразование.
The free sample has ended.