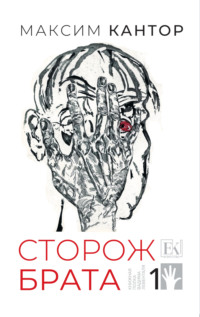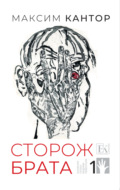Read the book: «Сторож брата. Том 1»
© М. Кантор, 2025
© ООО «Евразийское книжное агентство», 2025
© П. Лосев, оформление, 2025
⁂


Посвящается жене Дарье
Том 1
Главы 1–25
Пролог
Помимо прочего, феномен войны состоит в том, что один получает право на жизни многих, ему неизвестных, но приговоренных к смерти. Война – так считают во время войны – необходима обществу, как необходимо горькое лекарство: война утвердит самосознание народа. Народу нужно самосознание для единства. Единство нужно обществу, чтобы обществом было легче управлять. Во время войны команды выполняются беспрекословно, война делает приказ сильнее закона мирного времени. Началась война, явление противоестественное, однако регулярное в истории, управляющее миром в большей степени, нежели любовь. Солнца и светила движет любовь, утверждает Данте, но землей и народами движет война. Война есть регулятор общественного организма. Война привела в движение механизмы, которые в скрытой форме работали и до войны, но во время войны заработали с исключительной силой – и открыто. Война медлила, и многие поверили в то, что войны не будет никогда.
И вот человек с холодными глазами, лидер огромной страны, выпустил войну на поля сражений – и планета завертелась быстрее.
Люди с глазами более теплыми, но с челюстями не менее твердыми, те, которые командовали противоположным лагерем, встретили удар хладнокровно. Огромные массы народа повсеместно пришли в движение, подчиняясь командам и собственному энтузиазму. Война заставляет человека верить в то, что убивать – это его долг, и что насилие связано со справедливостью. Ведь суд и наказание преступника – необходимы. Те лидеры, которые посылали миллионы плебеев на смерть, поставляли оружие и боеприпасы, оставаясь при этом неуязвимыми, эти лидеры верили в то, что выбора нет – только война. Война, считали они, искалечит мир, но война вылечит мир.
Смерть во имя блага и мира – это общий лозунг войны.
Это книга о том, как война стала править человечеством. Сильные люди рассуждали от имени истины, а слабые люди узнавали эту истину через боль. Это книга о том, как жадные люди произносили слово «право», но думали только о своем собственном праве повелевать бесправными. Это книга о том, как расчет и корысть выдавали за принципы справедливости. Это книга о злодеях, которые думали, что исполняют свой «долг». Их «долг» состоял в том, чтобы властвовать.
Это книга о том, как человек, маленький человек, захотел стать сверхчеловеком.
Но книга и о другом. Прежде всего, книга о любви.
Любви приходится очень тяжело, потому что любовь хрупкая, а зло сильное и хитрое.
Рассказать надо все по порядку. Поэтому начнем рассказ из колледжа в Оксфорде.
Глава 1
Обратно
Трудно уехать. Тридцать лет назад трудно было отказаться от Москвы. Сейчас вышло хуже.
– Из-за Брекзита, да? – спросил капеллан колледжа Роберт Слей.
Священника прозвали Бобслей: неся людям свет, он мчался вперед, точно тяжелые сани.
К лацкану пиджака Бобслея был прикреплен значок: хоровод звезд на синем фоне – символ единства европейских народов. Так сотрудники Оксфордского университета выражали несогласие с тем, что Британия вышла из Европейского союза; непримиримые противники Брекзита носили значки открыто, приколов к мантиям, разжигая инакомыслие в студентах. А студенты известно какой народ – бурлят! Не до такой, конечно, степени бурлят, как студенты Сорбонны в 1968-м, но подчас позволяют себе острые реплики. И профессора попадаются отчаянные. Например, профессор социологии, итальянец Бруно Пировалли, высказался предельно резко: «Если так будет продолжаться, то, поверь, настанет день, и я выйду на улицу в числе демонстрантов, открыто заявлю, что демократия в опасности!» Итальянец по происхождению, Бруно уже давно стал совершенным англичанином, поутру ел камберлендские сосиски с бобами, но гарибальдийский дух давал о себе знать.
– Я присоединюсь к манифестациям! Наши политики однажды вынудят меня возвысить голос, – сказал Бруно в доверительной беседе.
Далеко не все были смельчаками, как Бруно Пировалли и Бобслей; и, даже если многие в университете и были несогласны с политикой правительства, а иные (это в особенности касалось экономистов) предвидели финансовые осложнения после выхода из Евросоюза, в целом профессура приняла известие хладнокровно. Для ученых мужей, знающих историю отечества, удивительного здесь не было.
Вся Британия проголосовала: идем обратно – прочь из семьи народов Европы, и поворотила вспять от так называемых общих европейских ценностей. Тут самое время задать вопрос: а что за ценности такие тщились объединить Европу? Неужели послевоенная демагогия, возведенная в статус законов бюрократией Брюсселя, перевесит традиции веков? Для того ли Генрих Восьмой рубил голову Томасу Мору, чтобы сегодня британские парламентарии поддакивали юноше Макрону и старушке Меркель? Где Европа – и где Британия? Положим, в интеллектуальном пабе «Ягненок и флаг» завсегдатаи не одобряли конфликт англиканства и католицизма, но у прочих жителей городка континентальная Европа вызывала тревогу. И рядовые граждане рука об руку с парламентариями вышли прочь из Евросоюза в привычное пиратское одиночное плавание.
Кому и почему грезилось, что союз Британии и Европы возможен, ответить сложно. Народы грызли друг другу кадыки в Столетней войне, терзали друг друга в тридцатилетних войнах (что в семнадцатом, что в двадцатом веке), рвали пирог земного шара на части во время наполеоновских войн – и что ж теперь, британцам подпасть под крыло наполеоновской конституции? Ну, не вполне наполеоновской, конечно; но будем откровенны – это он, узурпатор, заложил мину под здоровый феодализм. До равенства почтальона и менеджера среднего звена и то договориться невозможно, а нынче возмечтали о равенстве британца с греком? Послевоенная Европа казалась идеальной: дивный мир французских кинокомедий, немецкого раскаяния и австрийского прагматизма Хайека – казалось, что можно одновременно любить деньги и человечность. И вдруг разом отказались от братских лобзаний: обнаружилась привычка более древняя, нежели привычка к равенству.
Народная воля (да не смутят аллюзии с русской террористической партией) или политический демарш консерваторов – теперь уже неважно; нация сделала выбор! Даже если лидера нации определяют голосованием внутри небольшой компании тори, это все равно: торжествует демократия, она такова – и простой человек этой демократией гордится. Свершилось: Британия вырвалась из объятий Европы и оставила Европу с ее глупейшими проблемами. Кому же охота заменить простые радости sunday roast в пабе на капризы брюссельских демагогов? Есть свои домашние заботы, они важнее. В жизни университета отказ от Европы менял ничтожно мало: учеба для иностранцев стала дороже, но раджи и нефтяники, что посылали деточек в Оксфорд, могли раскошелиться. Поднимут налоги в своих варварских угодьях, и чадо освоит азы гуманистических наук.
– Страдают наемные рабочие, – ринулся в дискуссию Бобслей, – поляки и румыны уезжают. Визы не продляют, семьям въезд закрыт.
Большие глаза Бобслея вобрали в себя боль мира – эмигрантов, жителей нищих кварталов.
– С транспортом проблемы, водители почти все иностранцы.
И впрямь, случались перебои с поставкой продуктов, хозяйки сетовали на отсутствие греческого оливкового масла на прилавках; в колледжах волновались из-за своевременной доставки рождественских гусей.
– Обойдемся без румын, – раздался голос, шедший из цветочной клумбы.
Бобслей перевел взгляд на садовника Томаса, стоявшего к ним спиной, точнее – задом. Зад Томаса, обтянутый полинявшими штанами, воздвигся над клумбой, которую садовник возделывал, и этому демократически потрепанному заду адресовал сочувственный взгляд капеллан.
– Томас остался без помощника, румын уехал. А зарплату Тому не повысили, – горько пояснил причины реплики Бобслей.
– Денег у начальства не допросишься. А что дармоед уехал, это правильно, – сказали из клумбы.
– Как можно, Том!
– А что, я не прав? – зад дернулся в негодовании.
Капеллан Бобслей, считая Англию лучшим местом в мире, искренне желал бы поделиться Англией со всеми страждущими, но размеры острова не позволяли. Пощадите хотя бы садовников и водителей грузовиков, что развозят гусей!
– Сам видишь, что творится, – сказал капеллан. – Ты тоже из-за Брекзита уезжаешь?
– Да нет. Совпало.
Они стояли во внутреннем дворе Камберленд-колледжа, в так называемом quod: в каждом колледже имеется такой двор, центр общественной жизни. Подстриженная лужайка окружена готическими зданиями, опоясана дорожкой – по дорожке кружат профессора, сталкиваются, наспех раскланиваются. Another wonderful day, Stephen! Enjoy it, Andrew! See you at the high table tonight?
О high table, величественный обед, как можно пропустить тебя? В Камберленд-колледже кормят отнюдь не камберлендскими сосисками, хотя граф Камберленд, основавший колледж в 1517 году, по слухам, изобрел также и одноименные сосиски. Рассказывают, что на пограничной между Шотландией и Англией земле (это и есть Камберленд) в таможнях скапливалось гигантское количество конфискованных продуктов, которые начинали гнить. Предприимчивый граф однажды распорядился крошить тухлятину и набивать крошевом колбаски; простой народ закуску полюбил, а вскорости и колледж был воздвигнут. И не вздумайте сравнивать: отнюдь не огрызками и объедками набит Камберленд-колледж, но сливками общества.
Продукты преподавателям доставляют особенные, отнюдь не те, что прислуге и студентам, уж будьте благонадежны: камберлендскими сосисками не пахнет. В советской России для номенклатуры был введен специальный распределитель продовольственных заказов: старым секретарям райкомов выделяли сосиски из настоящего мяса – снабжение профессуры Оксфорда обставлено точно так же. На ланч оксфордской номенклатуре не подают вина, в остальном же французский повар расточителен; что же до возлияний – исключительное вино будет подано вечером, и тогда уж самый придирчивый сомелье лишь разведет руками: бывает же такое! В семь тридцать начинается церемония high table, достойное завершение дня. Начинают с шампанского и сухого хереса, завершают портвейном и виски, в промежутке – дары виноградников Бургундии и Бордо. Так было, так всегда и будет; потому что это Оксфорд, лучший из университетов подлунного мира, блюдущий традиции. Сюда очень трудно попасть. Расставаться с раем невыносимо.
Теряешь не только дорогое вино – теряешь круг друзей, круг интимно надежный, нечто наподобие родины. Богатство здесь не главное. Главное – братство. Богаты профессора знаниями и бытовыми привилегиями, но прежде всего – узами, связавшими братство колледжа. Зарплаты оксфордских донов невелики, снятые ими дома – убоги. Крутая лестница – едва ли не самое просторное помещение; две-три тесных комнатки с низкими потолками, картонные стены, разболтанные оконные рамы, гнилой коврик в ванной и два крана – для холодной и горячей воды. Одеваются скромно, в поношенные пиджаки и мятые брюки, в рубашки с обтрепанными рукавами и стоптанные ботинки; в Британии солдатская простота является признаком воспитанности, в Оксфорде доведена до крайности. Явись в обеденном зале колледжа расфуфыренный богач, в нем мгновенно опознают варвара из азиатской страны: не одеждой отличается оксфордский дон от своего слуги. Заплаты на локтях и застиранная рубашка оттеняют сервировку стола. К чему жить в хоромах, если твой дом – это готическая крепость колледжа? Колледж – это прежде всего союз fellows, вольный отряд, этакая бриганда, объединившаяся в общих интересах, и называется такой вольный отряд – fellowship. Братство приглашает на управление колледжем кондотьера – прославленного в битвах седовласого лорда, сложившего полномочия судьи в Королевском трибунале или бывшего губернатора колоний. Лорд прибывает в колледж и становится формальным главой, за его поведением неусыпно следит братство. В Камберленде в настоящий момент обязанности мастера исполнял сэр Джошуа Черч, отставной адмирал; вольный отряд был доволен адмиралом: властный, упрямый, вышколен на службе Ее Величеству.
Выйти из братства колледжа – столь же безумно, как в Средние века ландскнехту отказаться от участия в вольном отряде: одному на войне не выжить. А что такое научная деятельность, как не ежедневная битва за место под солнцем?
Ученый-расстрига смотрел на окна колледжа тем взглядом, каким смотрят на родные места, собираясь их покинуть; всякая деталь отзывается в сердце. За каждым окном – кабинет, обитатель коего прекрасно известен; вот окно с веткой остролиста – Гортензия Кеннеди празднует Рождество; вот окно с трещиной – Стивен Блекфилд равнодушен к холоду.
Бывший член вольного отряда смотрел на коллег, снующих по дорожке; глядел на зад садовника Томаса, застывшего над тюльпанами; на профессора политологии Стивена Блекфилда, спешащего в свой кабинет (вот Стивен исполнил обычный приветственный жест – большой палец кверху, мол, жизнь-то идет!); он смотрел в горестные глаза капеллана Бобслея – и сердце расстриги дрогнуло, он любил их всех – Бруно Пировалли, веселого и добродушного, честного Бобслея, сдержанного и строгого Стивена. Решение уехать могло отступить перед многолетней привязанностью. Но не сейчас.
После того, как потерял семью, стало все равно. А когда появилась причина вовсе уехать из Оксфорда, отказался от братства.
Месяц назад он провел долгий вечер с верным другом, профессором гебраистики Теодором Дирксом. Задушевных друзей в Оксфорде немного: каждый возделывает свою делянку. Все верны братству, но доверительных бесед мало; порой это называют британской сдержанностью. Они сидели в маленькой комнате Теодора, окна в чахлый английский сад.
– И что она сказала?
– Ничего особенного. Знаешь, она молчалива. Сказала, что детей вырастит одна.
– А ты?
– Сказал, что она права. Грязь не смоешь. Грязь и на детях будет.
– Может быть, ты зря ей рассказал?
– Как иначе? Должна знать.
– Уверен?
– Да.
– Ты сделал больно.
– Когда лжешь, хуже.
Бывшая любовница кричала ему: «Расскажи ей все! Пусть ей будет так же больно, как мне! Почему я должна одна страдать? Я в одиночестве, а у нее есть ты».
Рассказал жене не сразу; но все рассказал. Когда узнал, что у его любовницы, помимо него, имеется и другой партнер, которому говорится все то же самое и свидания с которым столь же пылки, – его собственная ложь стала нелепой. Секрет адюльтера объясним, пока это секрет двух. Когда количество участников увеличивается – какие тут секреты.
Мысль о том, что из-за любовницы, женщины с толстыми грудями, веселыми глазами и мокрой промежностью, он больше не увидит детей, была дикой. Еще более диким было то, что это именно так и есть, и что это непоправимо, и привязанность к телу порочного существа лишила его семьи. Он больше не услышит смеха сыновей, не увидит детской одежды, развешанной на стульях, не услышит мирного сонного дыхания. И это потому так случилось, что ему казалось неизмеримо важным ложиться в потную постель с женщиной, раздвигающей для него толстые бедра, слушать слова, которые эта женщина говорила всем своим партнерам.
Унижение тем сильнее, что женщина ощущала полную правоту: ведь он не женился на ней, а ей надобно жить полной жизнью. Она и жила. Приезжала по приглашениям в Британию: билеты ей покупал то он, то второй ее любовник, акварелист Клапан; с одним любовником жила в одном отеле, с другим – в другом. Поразительно, что они ни разу не столкнулись, когда любовница летала не к нему: городок же маленький. Впрочем, она, скорее всего, не выходила днем из отеля. Теперь подробности мучили его – как правило, люди анализируют то, что бессмысленно анализировать. Еврея-эмигранта Феликса Клапана, иллюстратора-акварелиста, он встречал в их маленьком городке часто. Клапан был бойкий лысый невысокий человек со взглядами: ненавидел Россию, боролся в меру сил за независимость Украины, из которой уехал по еврейской квоте. Многие евреи Советского Союза сперва ехали в Германию, мучимую комплексом вины, там собирали дань немецкого раскаяния и деньги еврейской общины, потом продвигались дальше на Запад. Теперь Клапан мстил прошлому: выходил на митинги с плакатом «Долой тиранию Путина»; был мужчиной прогрессивным, осуждал тоталитаризм.
– Ты не смеешь меня судить! – кричала она.
Кого он мог судить? Разве что самого себя. Заслужил быть в той же постели, что и акварелист Клапан. Ездил со своей тайной подругой в Брюссель, жил с ней в отелях и смеялся за завтраком; до него и сразу же после него все то же самое делал акварелист Клапан, так же смеялся, ел те же круассаны, что и он, а в постели совершал те же телодвижения. Он подумал, что Путин, которого называют тираном, в сущности, не сделал ему ничего плохого, что он понятия не имеет, что на самом деле произошло на Украине, реальное зло ему принесла постыдная страсть, лысый акварелист и пылкая женщина с толстыми грудями.
Он рассказал обо всем жене – которая и так примерно знала всю историю. Он лгал жене, любовница лгала ему, все сплелось в тяжелый ком вранья и похоти, катить тяжелый ком в гору – невозможно. А жизнь с любовницей – это когда катишь в гору ком вранья.
– Почему ты не забрал меня к себе? – кричала любовница. – Одна помираю в России!
Он подумал, что было бы, если бы забрал, как бы тогда они устроились с Клапаном.
Из дома ушел тут же. Их дом был небольшой, в два этажа, с кухней и крохотной гостиной на ground floor и тремя спаленками наверху. Комнаты узкие, с низкими потолками, обыкновенные британские тесные комнаты, плохо пригодные для жилья. Но жилось им уютно, и, когда жена ранним утром спускалась готовить завтрак, он входил в тесную детскую и смотрел, как мальчики просыпаются, ищут свои носки и майки. Эти утренние минуты он вспоминал чаще всего; хотя порой вспоминал и отели Брюсселя и заливистый смех любовницы. Вещей взял с собой немного; жена помогла собраться. Колледж выделил на месяц одну из тех комнат, что держат для гостей. Заказывать такую комнату надо заранее. Ему, как члену братства, сделали исключение: передвинули чьи-то визиты.
Суета в здании колледжа отвлекала от тоски – уборщики гремели ведрами, драя полы по утрам, бранились со студентами, наступавшими на мокрый пол, – и, хоть это было не похоже на утренний шум его дома, но все же это были приятные звуки. Он спускался к завтраку в студенческую столовую и старался не думать о том, что сейчас мог бы сидеть за завтраком с женой и сыновьями. Потом шел на занятия, рассказывал о средневековой Бургундии, потом на общий ланч, где старался сесть рядом с Теодором Дирксом. Добрый Теодор клал ему руку на плечо и молчал, это помогало. Один лишь раз они вернулись к теме его разрыва с семьей.
– Думаю, я должен жениться на Джудит, – сказал Теодор.
Джудит была студенткой гебраистики, с ней Теодор сожительствовал три года. Жили вместе открыто, но о браке речи не было.
– Ты прав, – ответил он Теодору. – Жениться всегда лучше.
И больше про семью не говорили.
Вечером он регулярно отправлялся на общий пышный обед, за которым не принято говорить о личном. Обсуждают марки вин и колко говорят о политиках, которых фамильярно именуют студенческими прозвищами: половина кабинета министров училась в Оксфорде. Действующего премьера, Бориса Джонсона, называли БоДжо, смеялись над его крашенными в цвет мочи диабетика волосами, но смеялись лениво и добродушно – все же мы члены одной семьи. Знаете ли, как он вел себя в Итоне? БоДжо мастер дебатов, непревзойденный оратор: он дважды в день мог защищать противоположные точки зрения – и всегда блистательно. О, феноменальный талант! Все смеялись. И он смеялся вместе со всеми над занятным характером БоДжо.
Он всякий вечер напивался за обедом, падал на казенную кровать и тут же засыпал. Обнаружил, что надо выпить полторы бутылки вина, чтобы спать без сновидений.
Потом пришло известие, которое заставило уехать из Оксфорда насовсем. Он даже обрадовался, что подведена черта. Не хватало, как выяснилось, еще одной прорехи в жизни, и без того уже порванной. Он потребовался в Москве – по скверному поводу.
Больнее, чем есть, быть не может; что значит отъезд из чужой страны, если ушел из семьи? Что значат политика и границы по сравнению с детьми и их смехом?
Оказалось – он это выяснил опытным путем, подписывая бумаги, составляя заявления, сдавая служебный компьютер, – что мелочи повседневной жизни были защитой от пустоты; когда ушли и эти мелочи, сделалось совсем пусто.
Сама жизнь как таковая защитить от смерти не может, но вот привычка к жизни помогает оттягивать неприятный момент. Привыкаешь к заполненности пространства вокруг себя, и это спасает. Конечно, толчея знакомых возле смертного одра – защита сомнительная, но пока умирающий еще не простерт на одре, круговорот привычных лиц и дел отвлекает от неизбежного, тормозит, если можно так выразиться, ход событий. Привычка воплощается в разных вещах, но прежде всего в коллективе. Порой привычку обозначают словом «родина», иногда говорят про «семью», часто поминают пресловутую «работу», то есть занятость на службе. И даже если дело это незначительное, например работа почтальоном, оно, тем не менее, отвлекает человека от его собственной бренной субстанции. Так солдат в атаке, увлеченный стихией общего бега, не замечает собственной смерти, и встреча с небытием происходит как бы невзначай, исподволь.
Все вышеперечисленное – от сакрального служения Отечеству до прозаической службы на почтамте – способствует погружению в густую среду, которая прячет от бренности. Что уж и говорить о братстве колледжа. Стоит отказаться от милых привычек, как обнажится пустой горизонт. Если разобраться, то суть любой деятельности человека в умножении привычек, в укреплении обороны от собственной бренности – а в Оксфорде такие, в сущности, приятные привычки.
Когда с привычкой порываешь в молодые годы, то дело поправимо: расставшись с почтовой конторой, можно стать футболистом. Но каково пожилому гражданину, у которого времени обрести новую привычку нет?
Перемена страны и потеря колледжа – ерунда, говорил он себе; ведь уехал же я однажды из Москвы. Тогда, много лет назад, уехать из Москвы было просто: все прежние привычки враз отменили – перестройка общества! Вдруг не стало страны, где прежде жил. Конец коммунистической диктатуре, все – заново! Долг борца с тоталитаризмом звал принять участие в изничтожении призрака коммунизма – в пепел втоптать! Но он рассудил иначе: менять – так все сразу. Да и борцом он, по сути дела, стать не успел: так, поучаствовал в вольнолюбивых застольях. Было ему едва за тридцать, подле него возвышались величественные фигуры подлинных участников сопротивления – они, закаленные в борьбе с делом Ленина, заслужили лавры, пришло их время!
Уезжал он из России в тот момент, когда в стране вечного произвола появилась надежда на обновление. Эмигранты, некогда бежавшие (а то даже изгнанные) из Советского Cоюза, в ту пору возвращались в Москву – их голоса ждали на трибунах. В институтах, на вокзалах, на площадях – в лучших традициях революционных эпох – закручивались водовороты толп, над головами алчущих правды воздвигалась фигура очередного витии. Вот в это-то время он и уехал – в противоположную от исторических путей сторону.
Оттепель, перестройка! Как можно отказаться от участия в ликовании свободной мысли? Таких протуберанцев истории русские люди ждут десятилетиями: от оттепели до оттепели, как правило, проходит сорок лет; подморозит, а потом оттает, и уж так развезет, что и ступить некуда, везде лужи; и вот, «когда разгуляется», пользуясь выражением одного поэта, тут-то и начинается самая интересная, захватывающая страда в России. Длится такое душевное ликование, как правило, лет семь: вековые скрепы слегка слабеют, и в образовавшиеся щели проникают европейские веяния. В такие минуты фрондеры Российской империи мнят себя европейцами или, по выражению одного прогрессивного автора, «русскими европейцами», и эти избранные, усвоившие культурный код цивилизации, намечают перспективные пути развития страны. Почему «африканские европейцы» или «индийские европейцы» так и не сумели сделать Индию и Африку Европой – такие соображения в голову реформаторам не приходили; русские европейцы взялись за дело бодро. Чего только в эти мокрые, слякотные годы не мерещилось, каких метаморфоз не возжелали либеральные мечтатели! Мнили Россию объявить Европой и даже Турцию прочили в Евросоюз наперекор опыту Крестовых походов, и Британию зачислили в Европу с упоительной наивностью. Задумываться было некогда: историю ковали заново, второпях и из дрянных материалов.
Раз уж свобода во всем, рассудил он, так пусть будет и свобода передвижения. И уехал. А есть ли в мире более притягательное место для молодого ученого, нежели Оксфорд? Нет такого места. Британию русские интеллигенты традиционно чтят: консерватизм в почете. В Британии не то, что здесь, в России, – так говорили люди умственные, – у нас произвол, а там закон! В Британии королева – воплощение традиции и права (отчего традиция непременно связана с правом и чье это право – не уточняли), да к тому же еще имеется Черчилль! «Remember Churchill» выбито в камне на пороге Вестминстерского аббатства, но крепче и глубже, чем в граните, выдолблено это славное имя в сознании русского интеллигента. Когда сегодняшнего расстригу, молодого тогда еще человека, друзья спрашивали: «За что ты так любишь англичан?», – он со смехом отвечал: «А кого же любить? Молдован, что ли? Цыган, может быть?» Британия манит русского человека, даром что более последовательного противника у России сроду не было.
Факт принадлежности к обновленной России на первых порах способствовал укоренению в Оксфорде.
– Теперь все по-новому? – спрашивали у новоприбывшего. Интересовались, желая заглянуть в бездны русского бесправия.
– О да, – отвечал гость просвещенной части света. – Во мгле брезжит надежда.
– А раньше было плохо?
– Чудовищно. – И собеседники прикрывали глаза, воображая сталинские застенки и психиатрические больницы, где Брежнев, по слухам, гноил диссидентов.
Интерес к сталинским репрессиям угас быстро, как только завершился процесс приватизации. Пока делили недра и расписывали собственность на нефтяные скважины – еще обсуждали кровавого тирана и его гнет. Связь между сталинским произволом и приватизацией народной собственности была самая прямая: фигура злодея пригождалась всякий раз, как заходил спор о воровстве природных ресурсов – тут же вспоминали слова поэта: «Ворюга мне милей, чем кровопийца», и собеседник соглашался, что воровать хорошо, а строить лагеря плохо.
Нувориши (ловкие люди, ставшие в одночасье миллиардерами и собственниками угольных бассейнов и нефтяных скважин) покровительствовали свободной печати. Выходили отчаянные по смелости газеты «Сегодня», «Независимая» и еще что-то столь же непримиримое к преступлениям семидесятилетней давности – основали эти издания олигархи, разворовавшие бюджет страны. Сколь важно было узнать жителям Череповца и Архангельска о произволе тридцатых годов прошлого века! Их собственное бесправие рисовалось беднякам в розовом свете: если выбирать между собственностью карьеров, где добывали сырье для алюминия, и правдой – необходимо выбрать правду. Эту истину внушили населению, и большинство выбрало правду; единицы, впрочем, предпочли карьеры, где мужички добывали глинозем, обогащенный магнием и кремнием. Но, согласимся, парящий в поисках свободы дух редко бросает взгляд на глинозем.
Едва с приватизацией месторождений было покончено, тут же и критика подлой советской власти перестала быть актуальной; о сталинских лагерях говорили реже; пенсионеры-правозащитники еще норовили выступить перед иностранцами с воспоминаниями о вологодском конвое – но пыльных говорунов приглашали лишь политологи, что сочиняли книги о кремлевских интригах. А когда политологи написали каждый по три книги, и книжные магазины уже отказались брать разоблачения лагерной системы Крайнего Севера, тут нужда в правозащитниках испарилась.
Но к тому времени он уже защитил диссертацию, стал жителем Оксфорда, привык к скверному климату и простудам, а пуще того привык к уюту Камберленд-колледжа и каминам. Россия отодвинулась далеко, тамошние волнения и гражданские протесты против новых феодалов долетали в стены колледжа, но уже не волновали воображение; где-то там далеко построили, как они выражаются, «суверенную демократию»; смешно, конечно, но какая разница? Рассказывали, что в России реформы свернули; но находились также и свидетели того, что реформ в России хоть отбавляй: решительно все приватизировано, с социалистической собственностью покончено навсегда. А если кто-то не вписался в рынок, так на то и рыночная экономика, is not it?
Сейчас приеду и сам все увижу, говорил он себе. Хотя не ждал ничего и никакого интереса к разворованной стране не испытывал. Ведь и раньше что-то звало домой – но, пока жил в Оксфорде в своей семье, голос Родины звучал глухо и тихо. Обратного пути в Россию не существует в принципе. Всякий интеллигент знает про это.
Мандельштам в статье о Чаадаеве высказался на этот счет определенно. Осип Эмильевич описал историю Петра Чаадаева, вернувшегося из долгого путешествия по Европе домой, в Басманный переулок. Вот удивительно: уезжал российский говорун в Германию, к философу Шеллингу, ума набраться, а вернулся домой и стал общепризнанным идиотом, царь Чаадаева сумасшедшим объявил. Мандельштам заключил: «Нет обратно пути от бытия к небытию». Сам Осип Эмильевич успел поучиться в Гейдельберге, вдохнул, так сказать, воздух Просвещения непосредственно в месте изготовления такового. Вдохнул, вернулся, выдохнул и как раз угодил в Воронеж. А потом на пересыльный пункт во Владивостоке попал, там и сгинул. Оказалось, что имеется путь от бытия к небытию – мы сами себе не хотим признаться в наличии такового. А путь этот имеется, если вдуматься, по нему идет все человечество.
Вспоминал эти строчки Мандельштама он всякий раз, когда в первые годы эмиграции подумывал, не вернуться ли. Тогда не вернулся, а вот сейчас пришла пора.
Едва сказал себе: «Еду обратно», как оказалось, что желтые стены колледжа, серый твидовый пиджак, прогулки вдоль холодного канала, обеды с профессорами закрывали зияющую черноту.
Садовник Томас высказался положительно насчет отъезда из Оксфорда.
– Валить отсюда надо, ты прав. Хорошо тебе, есть куда податься. Была бы квартира в Москве, дня бы здесь не пробыл. Тьфу, – Томас харкнул на тюльпаны.