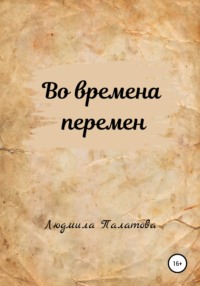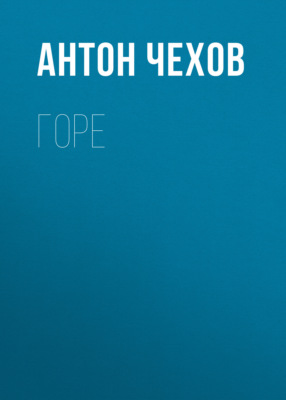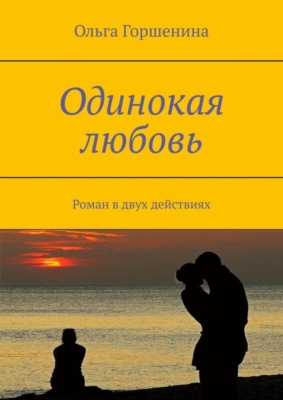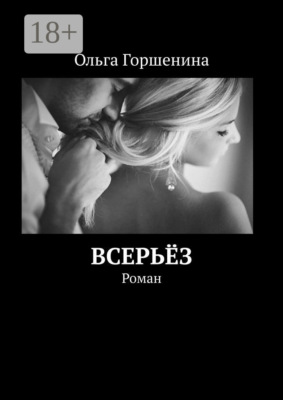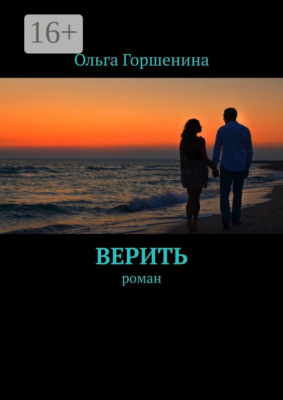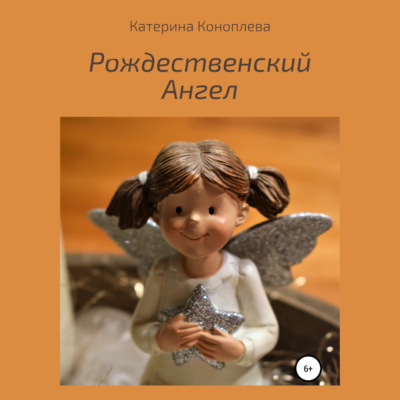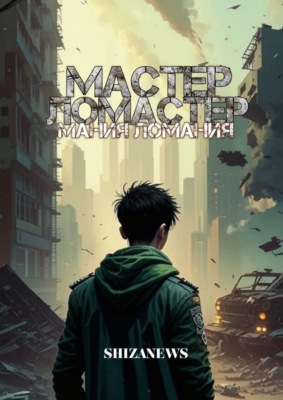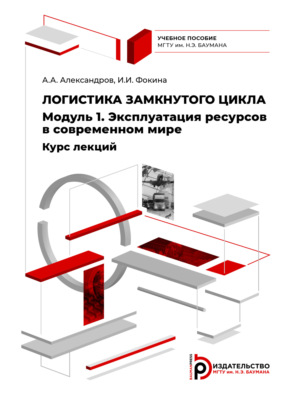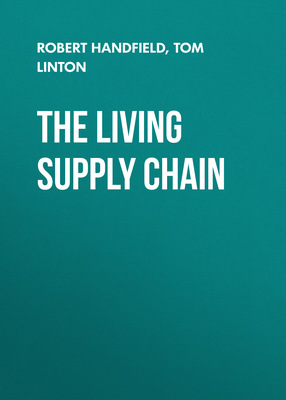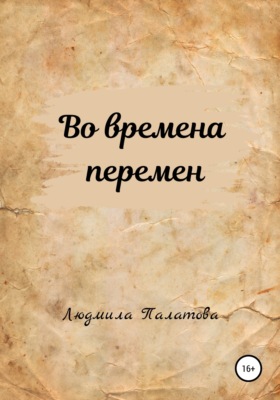Read the book: «Во времена перемен»
Во времена перемен
О милых спутниках, которые весь свет
Своим присутствием животворили,
Не говори с тоской – их нет,
Но с благодарностию – были.
В.А. Жуковский
Вместо предисловия
В определенном возрасте у пожилых людей иногда появляется настоятельная необходимость оставить воспоминания о прожитом. Как правило, обычно они касаются громких событий, героических поступков. В памяти моего поколения таким событием была война. Мы – дети войны, и героизма при всем желании по малолетству проявить не могли, хотя и были среди молодежи личности необыкновенные. Но война отразилась на каждом из нас, у многих она изменила судьбу. Правильно заметил Р. Фраерман: «Не все в мире измеряется твоей готовностью умереть. Куда труднее оказывается иногда простая дорога жизни». Участники войны, жители блокадного Ленинграда вспоминать не любят, да и осталось их очень мало. Неизбывно в нас присутствие перенесенного и передуманного. Лучше, чем Ю. Левитанский, не скажешь:
Я не участвовал в войне,
Война участвует во мне!
Но и мирные времена выдались нелегкими. Мне хотелось показать, как жилось в двадцатом веке обыкновенному человеку, рассказать о наших предшественниках, и тех, кому мы обязаны жизнью, потому что свою они отдали за нас.
Благодарю своего одноклассника, Геннадия Валерьевича Иванова, за сопереживание и предоставленные материалы и Олега Игоревича Нечаева за участие в работе.
Предки
Как и многие из моего поколения, я плохо знаю свою родословную. Старшие часто были вынуждены скрывать прошлое в целях элементарной безопасности. Мне довелось как-то познакомиться с носителем очень известной декабристской фамилии, который в ответ на мой вопрос о его предках попросил рассказать, что об этом известно мне. В детстве он слышал разговор деда с отцом, когда старший на подобный вопрос ответил, что был такой дурак когда-то давно, из-за которого семья до сих пор страдает. И попросил никогда больше никогда не поднимать эту тему.
Наша беседа случилась в районной больнице. Как в наши края попали представители такой фамилии, можно только гадать. Советская власть, прославляя подвиг декабристов на словах, истребляла потомков их без всякой пощады. Разговор наш закончился тем, что я подарила моему пациенту мемуары декабристов с пожеланием самостоятельно разобраться в своей семейной истории.
Мне скрывать было нечего, как раньше казалось. Потомок крестьян тамбовской губернии из первого в роду поколения с образованием. Представитель очень большой семьи, живущая от нее на отшибе, я не знаю подавляющего большинства своих родственников. Воистину, «мы ленивы и нелюбопытны». Можно было в свое время заинтересоваться, расспросить, а теперь уже некого.
Предки с обеих сторон жили в селе Карандеевка Инжавинского уезда Тамбовской губернии. Половина деревни Палатовых, половина – Филитовых. Фамилия отца (Палатов) татарская. Беседовала с однофамильцами, которые безусловно подтвердили ее тюркское происхождение. Откуда она взялась, сказать сложно, но рядом с Каран (Коран) деевкой – у нас там «акают» – Караул, Уварово и т.п. Рядом было имение Чичериных. Я еще слышала о «господском доме». Скорее всего, предки были крепостными, мама говорила об «однодворцах».
Хорошо знала я только деда с маминой стороны, Иллариона Михайловича Филитова. Это был высокий красивый старик с сивой гривой волос, которую и в старости не брали обыкновенные ножницы. Стригли овечьими. В молодости он повредил колосом глаз, на нем осталось бельмо. Другим глазом дед без очков читал Евангелие с весьма мелким шрифтом. Я хорошо помню эту книгу из-за ее необычной формы. Среди немногих мужиков в деревне Михалыч был грамотным, а кроме того, имел кожаные сапоги, что было вроде парадного сервиза. В этих сапогах венчалась вся деревня. Понятно, что повседневной носке они не подлежали. В гражданскую войну, когда принудительные освободители разных цветов сменяли друг друга многократно, эти сапоги и сгинули. После белых пришли зеленые, потом нагрянули красные. Дед вышел поприветствовать законную, как он считал, власть. Тут боец в буденновке сапоги с него и снял.
Женили деда насильно. Была у него любовь, такая же беднячка, как и он, а у моей будущей бабушки было какое-никакое приданое. В ответ на несогласие прадед Михаил (кроме имени о нем ничего не знаю) вывернул из плетня кол, благословил непокорного сына вдоль спины и одним ударом сделал несчастными трех бедолаг. Дед так и не забыл свою девушку, а ее тоже выдали замуж по родительскому расчету, страдала ни в чем не повинная бабушка Дуня. Несостоявшаяся невеста заболела и умерла от злой чахотки. Перед смертью, как гласит семейное предание, она подошла к плетню попросить у бабушки прощения. Та обошлась с ней сурово, на что бедная женщина сказала:
– Ох, Дуня! Как еще с тобой будет!
Как в воду смотрела! Бабушка Евдокия Захаровна родила семерых детей, мальчиков было только двое, младших, и только им полагался земельный надел. Один из братьев, Сергей, возвращаясь с Первой мировой войны, умер в эшелоне от испанки, неизвестно, где он похоронен. Второй, Иван, был взят на действительную службу и остался в Ленинграде. Земли в Тамбовской губернии было мало. Старших сестер надо было пристраивать замуж, а кому были нужны бесприданницы? А баба Дуня начала болеть. У нее развивалась какая-то системная патология, по скудным сведениям, похожая на ревматоидный артрит, а то и на болезнь Бехтерева. Прошли все больницы, монастыри, знахарей поблизости. Разорили не один десяток муравейников, добывая муравьиный спирт для растираний. Все было бесполезно. Состояние ухудшалось. Можно представить, что значила болезнь хозяйки для крестьянской семьи. Баба Дуня была работящей и умелой, очень страдала от своего бессилия. А вся домашняя работа и уход за лежачей матерью свалилась на среднюю дочь Анну (Оню), которой было тогда 13 лет. Большой чугунок в печку поставить было не под силу. Каково было на это смотреть матери! Она чувствовала себя обузой и часто повторяла: «Где же ты, моя смертушка!». Оня так и не вышла замуж – не на кого было оставить дом, а за ней было еще трое младших. Разница в возрасте у детей была большой. Старшая сестра была уже замужем, когда родилась моя мама, и была она старше племянницы только на год, а та всегда звала ее тетей Варей.
Оня осталась неграмотной, как и старшие девочки, работала в колхозе за «палочки», вела хозяйство, ухаживала за отцом, а в сундучке лежало ее приданое, сшитое и связанное своими руками из собственноручно изготовленной и окрашенной пряжи. Я маленькой очень любила разглядывать удивительного фасона старинное платье и кружевные накидки на подушки, когда раз в год их вывешивали для проветривания. Вещи просились в этнографический музей. И все они были украдены во время войны эвакуированной женщиной-инвалидом, которую тетка спасла от голодной смерти и кормила два года. Уехала дама втихаря, не попрощавшись, а вещи взяла, вынув дно у сундучка, вероятно, на память.
Старшие сестры, Татьяна и Елена, овдовели и жили в семьях дочерей. Только одну, похожую на мать очень симпатичную и тоже Дуню, выдали в обеспеченную семью. Брак получился по любви, но радовались недолго. Наступила коллективизация. В одночасье семья лишилась всего и была выслана в Мурманскую область на пустынное побережье реки Колы. Приближались холода. Вот тут–то и показала себя натура настоящего крестьянина–работника. Наверное, термин «кулак» и отвечал истинному положению вещей. Я всегда по этому поводу вспоминаю кинофильм «Ленин в восемнадцатом году», когда ходоки (кстати, тамбовские) в ответ на вопрос вождя «а как же бедняк?» отвечают: «это по-вашему – бедняк, а по-нашему – лодырь». И до сих пор удивляюсь, как прохлопали цензоры тогда эту фразу. Мои родственники наловили в реке бревен, которые в свободном плавании в большом количестве, как и в более поздние времена, катили при плановом хозяйстве в виде «сплава» своим ходом в моря–океаны, и построили себе жилье. Река изобиловала рыбой, которая пропитала и стала основой существования. Я увидела тетку единственный раз на тамбовщине в 1936 году. Ей разрешили навестить родных. Она угощала нас эксклюзивной рыбой в потрясающей обработке. В ответ на чей-то вопрос о жизни она ответила:
– Хотели сделать нам хуже, а получилось лучше!
И это благополучие было недолгим. Началась война. Погиб их единственный сын. Они остались в Мурманской области, и больше я ее не видела.
Баба Дуня умерла в 1916 году. Перед смертью она просила похоронить ее в коротком гробу, чтобы не разгибать сведенные контрактурой ноги. Боялась, что будет больно даже мертвой. Потомству по женской линии она оставила в наследство свою болезнь в разной степени тяжести. Другого капитала у нее не было.
Не знаю, раскулачивали ли деда. В глинобитной избе не было ничего, кроме скудного скарба. Дед Илларион был действительно бедняком, хотя работал хорошо. В молодости выпивал, но однажды с товарищами отмечали какое-то событие. Когда он протрезвел, обнаружил, что потратил больше, чем мог себе позволить, встал на колени перед иконой и дал зарок. Больше не пил никогда. Зимой, завершив работы в поле, мужики в деревне собирались каждый со своей лошадью в Крым по договору с торговцами и везли оттуда всякий южный товар. Полученные за это деньги шли на хозяйство, а детишкам доставались гостинцы – изюм, сладкие рожки, вяленый инжир и т.п. Умер дед перед самой Отечественной войной, будто Бог оглянулся на хорошего человека и избавил его еще и от этих страданий.
Когда моей маме, Варваре Илларионовне Филитовой, исполнилось 9 лет, ее определили в няньки к дальней родственнице. От нищеты это было сделано, или из желания ей лучшей доли, сказать трудно. Вероятно, от того и другого с учетом ее бесполезности в хозяйстве. Родственница, Анастасия Ивановна Полубояринова, увезла ее в Баку. Город этот был Меккой для жителей села. Вероятно, когда-то давно какой-нибудь дядя Вася случайно попал туда на заработки, и за ним потянулись родные и близкие. Анастасия Ивановна была личностью весьма примечательной. Рано вышла замуж, как оказалось, за революционера, который от нее свои занятия скрыл, родила от него ребенка. Его арестовали, сослали в Сибирь. Собиралась она за ним, а потом раздумала. Занялась делом, организовала швейную мастерскую, поскольку была хорошей портнихой. В те времена семейные предприятия и артели имели большие налоговые льготы, почему и набрала работников А.И. из дальней родни. Мама была еще мала для работы в мастерской. Ей достался малыш для воспитания. Никого А.И. шить не научила. Все были только на подсобных работах – швы обметать, пуговицы пришить. Конкуренты начальнице были не нужны. Мама превосходно шила потом, но для этого ей пришлось закончить уже в Перми курсы кройки и шитья, которые остроумцы называли «кукиш». Я любила играть с ее экзаменационным платьицем очень сложного фасона, сшитым для куклы.
Хозяйка набирала силу. Ее талант и оборотистость способствовали процветанию мастерской, обшивала она, как теперь сказали бы, ВИПов, поэтому появились и связи. Была куплена дача в Кисловодске, а затем и гостиница «Европа» в центре Баку. Тут и появился жених, абсолютный негодяй и альфонс, который жил на ее деньги, кутил и обманывал ее на каждом шагу. А она в нем души не чаяла. По словам окружающих, он был причастен к гибели ее сына от первого брака. На его памятнике слова: «Мой милый мальчик, простишь ли ты свою бедную маму?». Во время войны муж попал к немцам, ушел с ними и исчез из ее жизни. Остались двое его сыновей. У нас сохранилась фотография, как и все тех времен, превосходного качества, на которой изображен холеный мужик с необычайно плутоватой физиономией. После революции во время НЭПа А.И. приобрела еще одну гостиницу, «Новую Европу», где мама работала уже экономкой. На исходе 20х годов НЭП закончился со всеми вытекающими последствиями, но хозяйка опять устояла. Снова начала обшивать уже теперь советскую и партийную верхушку. Гостиницы, конечно, отобрали. Однако, владелицу не выслали, не посадили, а сыновья закончили институты, это в те времена, когда в получении образования было отказано даже детям мелких служащих. В институтах учились исключительно дети рабочих и крестьян, имевшие в виде базиса 2 класса церковно-приходской школы.
Маму благодетельница в школу не пустила даже после революции, когда для детей крестьян была везде зеленая улица. Нянька, прислуга, экономка – только такой расклад. Робкие просьбы об учебе заканчивались одинаковым заключением: «пойдешь на парапет». Так тогда в Баку называли часть набережной, которую облюбовали проститутки. Попытки выйти из под контроля подавлялись в зародыше. И после замужества А.И. умудрялась держать маму в рабской зависимости. Собственно, это осталось на всю жизнь: полный паралич инициативы, отсутствие самостоятельности, неспособность противостоять чужой воле, зависимость от чужого мнения. И все это у умного от природы, работоспособного и порядочного человека. Мне она постоянно внушала: «Если что, ты сразу отходи». Правда, не на ту напала. Я пошла в другую родню. И когда мама ссылалась на А.И., я еще в те времена усвоила, что капитализм – это рабство трудящихся. Как удалось женщине без всякого образования самостоятельно разработать методику психолингвистического влияния (тогда такого понятия еще не было) и так виртуозно ею пользоваться, остается для меня загадкой. Подвигов А.И. ее семья не оценила. Умерла она на чужой кухне в соседстве с керосинками, всеми брошенная и разоренная. Мне не удалось ее повидать, не застала ее в Москве, когда была там в командировке. Да это, наверное, к лучшему.
Отцовскую родословную я знаю еще хуже. Дед со стороны отца (звали Дмитрием, а отчества не знаю) умер скоропостижно, выпив в жару криночку молока с «погребицы». Бабка, Наталья Васильевна, осталась беременной с четырьмя детьми. Моему отцу, старшему, было 7 лет, младшая – Мария – еще ползала. Хозяйство было большим: лошади, коровы, большой сад, пчельник и, конечно, земля. Бабка пятого родила в октябре в поле. Было холодно. Завернуть ребенка не во что. Он умер по дороге. «Да и Бог с ним, ягодка, куда его еще, пятого-то?». Остальных подняла одна. Мой отец, вернувшись с фронта после первой мировой войны, в деревне не остался. Женился на моей маме, и они уехали в Баку. За ними отправились брат Михаил с семьей и Мария. С матерью остался Василий с женой и двумя дочками. В период коллективизации их раскулачивали дважды. Соседям кололи глаза добротный бревенчатый дом, пчелы, ухоженный сад. Никто не хотел видеть, как работают Палатовы. У бабки, наверное, часа свободного не было за всю жизнь. Я видела ее считанные разы. Дом стоял на краю деревни. Для меня в детстве это было целое путешествие. Я боялась собак и ребят, которые дразнились: «Горочкая, горочкая!». Для них «городская» была диковиной. Ходила я в этот дом один раз в сезон. Бабка, увидев меня, гладила по головке и бежала по своим делам. Не помню, чтобы мы с ней разговаривали. Один раз я у них обедала, на моих глазах она огрела младшую двоюродную сестричку деревянной ложкой по лбу, предварительно ее облизав. Жест был классический, а вот за какую провинность была кара, не помню.
Из всех детей образование получила единственная дочь Мария. Она окончила гимназию в Инжавино. Далее все силы семьи были направлены на ее благополучие. Мальчики отучились по 2 года в церковноприходской школе. Михаил в Баку проработал всю жизнь шофером. Мой отец стал строителем. Василий трудился в колхозе, а в 1938 г был арестован по 58й статье. В правление пришла разверстка: сдать двух врагов народа. Комбед стал думать – кого. Один из соседей вспомнил: « А давайте Ваську Палатова! Он сволочь, я с ним намедни подралсИ!». На том и порешили. Так мой дядька стал врагом народа. Конечно, драться нехорошо, с этим надо согласиться, тем более, что родичи мои с этой стороны уживчивостью не отличались, друзей не имели за перегруженностью работой, не пили, оскорблять себя не позволяли и силой обижены не были. Однако, мне кажется, что главную роль в этом решении сыграла зависть. Правление состояло из бывших бедняков, но лентяев бывших не бывает. Соседка деда Иллариона Катя-Стрикочиха, активистка и сплетница, как это следует из клички, в полдень, стоя у окна и почесывая ногу об ногу, просит:
– Михалыч, дай мерку картовки на посадку!
– Кать! – отвечает дед – У меня картошка уже зацветает, а ты сажать собираешься. Какого урожая ждешь?
– Ды, Михалыч, некогда все, никак не соберуся.
– А ты ноги–то не чеши, вскопай огород. Время-то к обеду подходит, а ты только встала.
Дядька больше не вернулся. Я всегда думала, что либо на следствии, либо в лагере, он врезал кому-нибудь из охраны и был ликвидирован на месте. Но недавно узнала, что в начале войны его отправили в штрафбат, там он и сгинул. Очевидно, «кровью не смыл», потому что семья не считалась родственниками военнослужащего. Дома у нас при мне о нем не упоминали. В те времена молчание было золотом высшей пробы.
Бабушка Наталья умерла после войны, успев побывать в Перми и убедиться, что все ее труды на благо любимой дочери пошли прахом. И не от прожигания жизни, а от полного нежелания и неумения трудиться. Многократно за свою долгую жизнь я потом убеждалась, что не идет впрок добро, которое добыто другими. И даже знания усваиваются и могут быть использованы только тогда, когда их добыл сам. И оправдания, что все делается для детей и их будущего, несостоятельны. Детям, кроме вреда, незаработанные ими деньги ничего принести не могут. Копить нужно только голову, а не то, что можно отнять или украсть. Инсульт, наш фамильный финал, хватил Васильевну буквально на лопате. Как не представляла себе праздной минуты, так и закончила жизнь в труде. Царствие ей небесное!
Мои родители были родственниками. В деревне вообще их было много. Кто кем кому приходился, я так и не поняла, но до революции моих родителей не повенчали бы. Православная церковь заботилась о генофонде, хотя тогда такого слова в обиходе еще не было. Свидетельствую из первых рук – подход был правильным. Результаты нарушения его испытаны на себе. Революция освободила народ от моральных заморочек наряду с религией. Попа в Карандеевке не оказалось. Венчал причетник, который исполнял обязанности, а заодно играл в карты и не дурак был выпить. Уважения у мамы он не вызвал, да и ее воспитательница, очевидно, излишней набожностью не страдала. Мама так и осталась безбожницей. Брак зарегистрировали и в загсе. В деревне мама оказалась, сбежав из Баку от восстания мусаватистов. После его усмирения родители вернулись обратно. Там они работали в гостиницах Анастасии Ивановны, а потом отец решил завести свое дело, судя по разговорам, а также по зеленому сукну, которое мама проветривала на чердаке, хотел устроить биллиардную. Вот тут-то НЭП и закончился, и всех предпринимателей, и крупных, и мелких, прижали к ногтю. Заодно, после десятилетнего ожидания в 1930 году, к глубокому разочарованию отца, который мечтал о сыне, родилась я. Нашла время. Надо было уносить ноги.
Пермь
Выбор Перми был случайным по принципу: чем дальше, тем лучше. Но я убеждаюсь все чаще, что случайностей в жизни не бывает. За ними стоит глубокий смысл. Просто его не сразу осознают. Да и проявляется он позже. Ну, скажите на милость, что было бы со мной, останься мы в Баку? Я была бы оккупанткой, «старшей сестрой» по аналогии со «старшим братом», что было там ругательством. Как бы удалось поступить в институт? Где бы я нашла нужную мне работу? Кто пустил бы меня в науку? Я не задаю праздных вопросов, у меня была половина Баку родственников. Я знаю все это из первых рук. Меня бы традиционно спрашивали: «Кто тебя звал? Кто тебе письмо писал?» А позже мне пришлось бы бежать, как и моим родичам, бросив все, а куда? Кто и где бы меня ждал?
Сначала из Баку в Пермь уехал Дмитрий, не знаю, чей именно, а может общий, двоюродный брат. За ним мы. Мне исполнилось полтора года. Это было мое второе лето. Первое свое лето я побывала в Карандеевке. Мама с трудом довезла меня туда. Дело в том, что, родившись, я начала орать благим матом и не могла остановиться. То ли из-за затяжных родов были какие-то неполадки, то ли в предчувствии будущих невзгод, только вопила я, не закрывая рта, все первые два месяца своей жизни. В поезде тоже. Когда меня в таком виде мельком усмотрела баба Наташа, вынесла категорическое резюме: «Ягодка, она же у тебя некрещеная!» Многое простится ей там за эти слова! Позвали пономаря, опять же за отсутствием священника. Он окунать меня в купель не стал, очевидно, как городского ребенка, а покропил сверху, после чего я заткнулась, будто и не сводила с ума родительницу и окружающих столько времени. Так наладились мои отношения с Всевышним, но поняла я это тоже много позже.
Следующим летом мы были уже в Перми. Город в 1931 г был небольшим. Границами его был вокзал Пермь-2, Кама, Разгуляй со старым кладбищем и речкой Егошихой. Там же находился собор Петра и Павла – первое каменное здание Перми, и еще две церкви, Успенская, которую уже тогда разорили и превратили в склад, и действующая Всехсвятская. На кладбище тогда еще хоронили, но поход в Разгуляй был долгим и рискованным из-за хулиганской там обстановки. Улица Пермская в другом направлении заканчивалась высоким белым каменным забором, за которым раньше помещался монастырь. На его территории расположились какие-то учреждения, в том числе военкомат, где мы после института в 1953 году получали военные билеты.
Городская часть Сибирской улицы (продолжения знаменитой Владимирки) заканчивалась Красным садом (им. Горького). Дальше шла Слободка, частные домики с огородами и малиной, куда мы еще в 1955 году ходили в гости к нашей завотделением Тамаре Федоровне Томсон и объедали малинник. За местом, где теперь рынок, а тогда была барахолка, тоже шел частный сектор, как и сразу за инфекционной больницей (заразными бараками). Позднее там построят медицинский студгородок и Громовский поселок. Мотовилиха отделялась от Разгуляя оврагом, через который был перекинут деревянный мостик. По нему ходил единственный трамвай от Перми-2. Бывало, и опрокидывался в овраг. Но Мотовилиха для нас была другим концом света. По Комсомольскому проспекту, состоявшему из трехоконных домишек, ходили коровы вдоль канавы с весьма качественной травой. До 19го завода (з-д им. Сталина, потом им. Свердлова) тоже было далеко, никакой транспорт туда не ходил, и рядом с ним был свой рабочий поселок. Перед постройкой завода это было самое грибное место и на охоту туда хаживали. Старая Пермь описана в замечательной книге В.С.Верхоланцева «Город Пермь, его прошлое и настоящее». Владимир Степанович издал ее впервые в 1913 г. После революции краеведение назвали лженаукой и отменили, как обычно, с угрозами и с санкциями. Вторично книга появилась в продаже в 1994 году.
Я интересуюсь прошлым города, поэтому, увидев ее на лотке, схватила сразу. Посмотрев на портрет автора, увидела знакомое лицо и не сразу вспомнила, что это наш учитель географии в моей родной седьмой школе. И еще вспомнила, как безобразничали мы на его уроках, не слушали и ничего не учили. Он носил нам альбомы, привезенные им из-за границы, потому что при «проклятом царском режиме», учителей из глубинки в каникулы отправляли в командировки за казенный счет в разные города и страны, чтобы они видели своими глазами то, о чем рассказывают ученикам. И альбомы мы листали мельком и подсмеивались над старым очень больным человеком, не в состоянии оценить его по достоинству. В.С. был мужем директора школы Антониды Елизаровны Верхоланцевой, и под школьной кличкой «Глобус» безнадежно пытался образовать школьную шпану – выдающийся краевед, на которого теперь постоянно ссылаются специалисты. Он умер от рака, когда мы учились в 10м классе. Поздно у нас появилось чувство вины перед этим замечательным человеком. Воистину, следует знать, перед кем метать бисер. Простите нас, дураков, Владимир Степанович!
Главным экскурсоводом по городу у меня служит прекрасная книга Е.А. Спешиловой «Старая Пермь»,2003г. Иногда удается пройтись по старым кварталам, которых почти не осталось. Очень хотелось нам колбасы, а к колбасе в нагрузку, по социалистической традиции, нам продали капитализм. Древние говорили, что есть желания, которые боги исполняют, разгневавшись на нас. Вот это с нами и произошло. Пришла безграмотная, ничего, кроме своих надобностей, не ценящая хамоватая компания, которой кроме денег ничего не только не надо, но и непонятно. Это сообщество троечников. Они изуродовали город точечной застройкой, порушили даже коммунальные сети, п.ч. торопясь «урвать кусок за счет техники», не проводят гидрологический анализ места, где строят. И стоят, как гнилые зубы, в историческом центре высотки, в которых светятся окна в трех–четырех квартирах. Они не по карману простому народу, а цены снизить – владельцев жаба душит. Вот такой результат вышел у «прорабов перестройки». Историки правильно считают, что варвары победить не могут, зато уничтожить – это обязательно.
Поселились мы на первых порах в знаменитой «Семиэтажке». Похоже, что это была тогда едва ли не единственная гостиница в городе, а уж семиэтажное здание – точно одно. Оно и сейчас остается гостиницей. Во время войны «Семиэтажка» приютила всю эвакуированную из осажденного Ленинграда к нам творческую интеллигенцию: театр им. Кирова (знаменитую Мариинку), преподавателей хореографического училища и лично Ваганову, писателей. В нашу галерею доставили в запасник часть фондов Русского музея. Несколько лет назад эти картины привозили в Пермь снова, но уже для того, чтобы устроить выставку под лозунгом: «Спасибо, Пермь!».
Оставались мы в гостинице недолго. Родители сняли квартиру вместе с братом на Пермской улице (потом ул. Кирова, снова переименованная в Пер мскую) в частном двухэтажном деревянном доме под № 156, который был до революции трактиром для извозчиков. У хозяина, Федора Тимофеевича Рудометова, было 12 детей, из них 8 еще жили с родителями.
Верхний этаж был предназначен для хозяев и представлял удобную квартиру, где была большая «зала», она же столовая, с выходом на застекленную длинную галерею. С улицы было парадное крыльцо, а со двора – черный ход, над которым во втором этаже помещалась холодная, или летняя, неотапливаемая комната, куда с наступлением тепла переселялась молодежь мужского пола. После капитального ремонта национализированного дома жилище превратилось в «Воронью слободку». Помещение над входом оснастили печкой, и туда поселилась бывшая няня и прислуга хозяев Маня. Дети ее очень любили и постоянно толклись в ее апартаменте. Весь низ, бывшая харчевня и кухня, были поделены перегородками и сдавались по отдельности.
Нам досталась кухня с большой русской печью, на которой в холодное время помещалась вся семья, и часть столовой, но с отдельным входом. В один из не лучших для владельца дома дней его известили, что с этого момента его собственность ему больше не принадлежит и переходит в ЖКТ (жилищно-коммунальный трест), который в просторечье называли «жактом», а квитанции по оплате – «жировками». В одночасье Рудометов оказался квартиросъемщиком, а жильцы, и мы в том числе, неожиданно для себя получили «жилплощадь». Эта «площадь» будет потом на долгие годы жизнеопределяющим моментом для граждан страны, как при «развитом», так и при «социализме с человеческим лицом». Ее нельзя будет купить, продать, оставить по наследству. Можно только получить. Этого часа приходилось ждать большую часть жизни.
Оставить потомков в квартире можно было путем невероятных ухищрений. Даже живя в полученной квартире, вы не считались ее хозяевами. Вас могли «уплотнить», если число квадратных метров хоть немного превышало определенную норму. Было категорически запрещено женским консультациям давать справки о беременности для представления в ЖКТ, чтобы молодожены не получили те же метры вперед. Всю жизнь я испытывала сердечную благодарность моей однокурснице Ире Тверье, которая своей властью зам. главного врача по акушерству городской больницы приказала дать справку о беременности моей невестке и тем сохранила детям квартиру после моего переезда в кооператив. Это было в 1982 году.
Справедливость требует заметить, что квартплата была символической, но в большинстве пермских квартир, чаще коммуналок, в 30 – 50 годах ни воды, ни канализации не было. Все удобства были во дворе, в том числе и выгребной туалет. Отопление тоже было печным. Научная общественность жила по-разному. Кто-то в благоустроенных квартирах, а кто и в старых немного «модернизированных» халупах, как мои самые близкие друзья, глава семьи которых писал докторскую диссертацию ночами, сидя на доске, положенной на унитаз – такой у него был кабинет. Привычка работать ночами у наших учителей чаще всего вырабатывалась именно из-за отсутствия условий. Так, мой друг Миша Калмыков отвечал на вопрос о комнате в новой квартире: «общая, а когда все лягут спать – моя». У меня потом было так же.
Я как-то описала маме расположение мебели в нашей кухне, которое было в моем полуторалетнем возрасте. Она посчитала это пересказом воспоминаний старших, но когда услышала подробности, вынуждена была согласиться, что я действительно помню. Вижу, как я сижу на кухне на длинном некрашеном столе с выдвижным ящиком. На мне валенки и пуховый платок, который обвязан вокруг. Квартира угловая, поэтому холодная, и с пола дует, потому что первый этаж. Это, конечно, отрывочные картинки из раннего детства, связные воспоминания начинаются лет с четырех. Общая с соседями стена была тонкой, так что матерщина дяди Леси-сапожника стала элементом быта. Двор был большой. В нем стоял огромный сарай – бывшая конюшня – с сеновалом, который приспособили для сушки белья зимой. Я и сейчас чувствую запах простыней с мороза. Их нельзя было снять слишком рано, они могли сломаться. Надо было ждать, пока выветрятся.
Теперешнее поколение, выросшее рядом со стиральными машинами и прочей бытовой техникой, не может себе представить, чем была стирка в 20м веке в российской глубинке. Впрочем, она и теперь там такой остается. В домах без водопровода воду надо было наносить в двух ведрах на коромысле из колонки не меньше, чем за квартал от дома. Ее надо было согреть на печке или на керосинке, отстирать руками белье хозяйственным мылом, а потом вынести помои во двор, хорошо, если с первого этажа. Полоскать белье приходилось в речке, зимой в проруби в ледяной воде, да и из колонки было не теплее. Для отбеливания замачивали простыни в растворе марганцовки, подсинивали. Стирка превращалась в целую эпопею. Недаром наши работяги летом спали в дровяниках на сенниках или старых матрасах, чтобы не пачкать лишний раз постель.