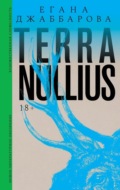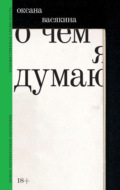Read the book: «О любви. Драматургия, проза, воспоминания»
УДК 821.161.131
ББК 84(2Рос=Рус)644Зорин Л.Г.
З-86
Редактор серии – Д. Ларионов Предисловие А. Зорина
Леонид Зорин
О любви: Драматургия, проза, воспоминания / Леонид Зорин. – М.: Новое литературное обозрение, 2025.
В сборник произведений известного писателя Леонида Зорина (1920–2024) вошли его драмы, повести и рассказы о любви. Среди них легендарные пьесы «Варшавская мелодия» и «Царская охота», а также главы из мемуарного романа «Авансцена» – в них рассказывается о знаменитых спектаклях по этим пьесам, прославившихся дуэтами Михаила Ульянова и Юлии Борисовой, Леонида Маркова и Маргариты Тереховой. Истории любви не похожи друг на друга, но отражают то понимание этого чувства и его воздействия на человеческие душу и судьбу, которое пронизывает все творчество писателя. Книга продолжает публикацию наследия Л. Зорина, начатую сборником «Ничего они с нами не сделают…» (НЛО, 2024), посвященным отношениям художника и власти.
В оформлении обложки использован фрагмент плаката к спектаклю Малого Драматического театра – Театра Европы «Варшавская мелодия». В ролях Е. Санников и У. Малка. Автор плаката художник А. Андрейчук. Фото В. Васильева. Публикуется с разрешения театра.
ISBN 978-5-4448-2896-0
© А. Л. Зорин, предисловие, состав, 2025
© Л. Г. Зорин, наследники, 2025
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Андрей Зорин
Меж нами стены, стены, стены…
Эта книга продолжает публикацию наследия Леонида Зорина, начатую сборником «Ничего они с нами не сделают…» (НЛО, 2024), выпущенным к столетию со дня рождения автора. Первый сборник был посвящен отношениям художника и власти, произведения в этом томе объединены не менее важной для писателя темой любви. Понятно, что такое деление условно: Зорин всегда представлял себе любовь как творчество, вернее, сотворчество, а государство – как силу, враждебную человеческим чувствам. Некоторые произведения, включенные в эти две книги, вполне можно было бы поменять местами. И все же такой тематический подход в какой-то мере отражает эволюцию писателя и постепенное смещение фокуса его внимания с временного на вечное.
Этот фокус на разговоре о вечном отражает и название сборника, повторяющее заглавие знаменитого рассказа Чехова. Я думаю, что отец был бы рад этой параллели – он всегда преклонялся перед Чеховым как писателем и как человеком, говорил, что ни с одним из русских классиков не чувствует такой родственной близости, постоянно перечитывал его записные книжки и особенно письма, как бы настраивая по ним свое видение мира. Его понимание любви и ее места в человеческой жизни также складывалось под сильным воздействием поздней чеховской прозы. В 2005 году он написал небольшую повесть-монолог «Он», написанную от лица писателя («Знамя», 2006, № 3).
Леонид Зорин начинал как драматург ярко выраженного социального плана. Как он писал в мемуарном романе «Авансцена», «убеждение, что в искусстве всего важней социальный заряд», было у него тогда «достаточно прочным». Конечно, произведения, написанные для сцены, вообще редко обходятся без любовной коллизии, но все же долгое время эта тема в творчестве Зорина в основном придавала лирическое измерение общественной проблематике. Пожалуй, впервые у Зорина любовная коллизия оказывается в центре действия в его пьесе «Палуба» (1963), написанной по впечатлениям от длительной поездки по Иртышу и Оби. Однако и здесь история случайной встречи и неизбежного расставания героев постепенно выходит на первый план из пестрой мозаики судеб более чем двух десятков попутчиков, сведенных вместе путешествием по сибирской реке.
«Варшавская мелодия», самая знаменитая пьеса Зорина о любви, открывающая этот том, тоже возникла из социальной драмы. Один из героев пьесы «Коронация», рассказывающей о неудавшемся бунте знаменитого историка против удушающего официального признания, вспоминал, как принятый в СССР в 1947 году закон о запрете браков советских граждан с иностранцами разлучил его с возлюбленной. В ходе работы драматург неожиданно почувствовал, что этой истории тесно в рамках проходной реплики, и начал писать новую пьесу, ставшую для него поворотной. Со времени запрета «Гостей» в 1954 году пьесы Зорина с трудом пробивались на сцену. Некоторые из них получали разрешение только для одного театра – московским режиссерам иногда удавалось убедить цензуру сделать для них исключение и пропустить спектакль, запрещенный к более широкому исполнению. За автором постепенно закреплялась репутация драматурга, работающего исключительно для столичной аудитории. Написав «Варшавскую мелодию» (первоначальное название «Варшавянка» пришлось сменить из‑за ассоциаций с революционной песней), Зорин не рассчитывал даже на такой результат.
В обстановке ползучей ресталинизации, начавшейся в стране после смещения Хрущева, пьеса о сталинском законе, ломавшем судьбы, казалось, была обречена. Тем не менее за постановку взялся главный режиссер Вахтанговского театра Рубен Симонов, и его авторитет и обаяние в сочетании с талантом Юлии Борисовой и Михаила Ульянова пробили брешь. Играть «Варшавскую мелодию» разрешили сначала вахтанговцам, а вскоре последовала и общесоюзная виза. Слухи о пьесе распространялись по всей стране, и множество театров в нарушение действующих правил начинали репетиции без разрешения инстанций. Остановить этот процесс значило вызвать слишком большой скандал. С тех пор уже седьмое десятилетие пьеса не сходит со сцены во всем мире.
В «Варшавской мелодии» уже вполне оформилась версия вечного мифа о романтической любви, которая потом реализовалась в драматургии и прозе Зорина. Единственная встреча определяет жизни и судьбы героев, которым не суждено соединиться, поскольку разделяющие их барьеры непреодолимы. Этот, традиционный еще со времен «Тристана и Изольды», сюжет приобретает у Зорина особую окраску и специфическую интерпретацию. Любовь обречена не только, и даже не столько, в силу внешних препятствий, сколько потому, что герои не способны ее сохранить. Человек недостоин подаренного ему судьбой чувства, да и само оно, сколь бы испепеляющим ни было, как правило, не может противостоять давлению житейских обстоятельств и ходу времени.
Три встречи героев «Варшавской мелодии» обозначают вехи на этом пути. Поначалу Виктора и Гелю в послевоенной Москве разлучает закон о запрете браков с иностранцами. Когда через десять лет они встречаются в Варшаве, герои еще любят друг друга, но Виктор уже впитал страх перед государственной машиной – он боится провести ночь с любимой женщиной, ему известно, что в делегации, в составе которой он приехал, неизбежно есть осведомитель. Существенно, что действие происходит в 1957 году – поведение, несовместимое с моральным обликом советского человека, несомненно могло серьезно навредить его карьере, но в оттепельное время уже не угрожало ни тюрьмой, ни гибелью.
В «Авансцене» Зорин вспоминает, как цензура заставила Михаила Ульянова, игравшего Виктора, исказить смысл сцены: «В реплике „Я же не один“ была аккуратно добавлена буковка. Стало: „Я уже не один“. Дело, следовательно, не в том, что он с группой, а в том, что он связан семейным долгом». Любопытно, что так истолковал смысл реплики и очень профессиональный английский переводчик Ф. Д. Рив, у которого герой говорит: «I am not single anymore». Чтобы исключить любое недопонимание, автор, впоследствии редактируя текст, добавил в эту фразу слово «здесь».
В «Авансцене» рассказано и о претензиях к последней картине, когда Виктор и Геля еще через одно десятилетие снова встречаются в Москве, и, хотя оба одиноки и закон, разлучивший их, отменен, они понимают, что уже не нужны друг другу и больше никогда не увидятся. Как вспоминал Зорин, «цензоры требовали в финале если не возрождения чувства, то хоть намека, что это возможно. Но дело тут шло о самой сути, и отступать мне было некуда – напрягся, уперся и устоял». Даже сегодня эти требования выглядят странными. В конце концов, что за дело блюстителям идеологической чистоты до того, возродится ли любовь Виктора и Гелены. И все же логика в этих требованиях была: если репрессивный режим калечит судьбы людей, но не их души, то это может служить пусть не реабилитирующим, то, по крайней мере, смягчающим обстоятельством. У автора пьесы не было иллюзий на этот счет.
Через тридцать лет Зорин вернулся к своим героям, написав пьесу «Перекресток (Варшавская мелодия 97)», где они случайно встречаются на пересадке в аэропорту. Виктор не только не узнает в своей собеседнице бывшую возлюбленную, но и, рассказывая ей историю своей сердечной драмы, неожиданно оправдывает разлучивший их закон исходной несовместимостью России и Европы: «А может быть, наш генералиссимус знал, что делал, – в сорок седьмом? Что вы так смотрите? Вдруг он был прав? Не выйди этот чертов закон, мы стали бы мужем и женой, и что тогда было бы с нами обоими? С барьером между нею и мною? Таким же, как между мною и миром, к которому вас магнитом тянет и для которого я – чужой». Насилие, которому человек не в состоянии противостоять, интериоризируется и становится частью личности.
Гелена до конца пьесы остается неузнанной. Выдавая себя за знаменитую писательницу, автора детективов, она рассказывает сюжет одного из них, где после долгих лет совместной жизни жена убивает надоевшего мужа, выманив его на перекресток, где некогда произошло их первое свидание. Место романтической встречи становится и местом гибели: «Двое людей любили друг друга и вот друг друга возненавидели». Этой провокацией она вызывает собеседника на воспоминания о перекрестке, где некогда начался их роман: «Ведь у каждого есть такой. Я не права? Или пан запамятовал?» Виктор заглатывает наживку и исповедуется перед случайной знакомой, так и не догадавшись, что оказался на своем последнем перекрестке. Образ писательницы-криминалистки позволяет ей начать распутывать сплетение причин, погубивших ее любовь, и побудить зрителя и читателя задуматься, какую роль сыграли здесь внешнее насилие, тканевая несовместимость героев и жернова времени, перемалывающие человеческие чувства. «Ну, самозванка, ты довольна? Господи, спасибо тебе за твое милосердие. Добр ты, Господи. Все-таки он меня не узнал», – подводит Гелена итоги своего розыгрыша. Эта реплика несомненно своего рода автоцитата. Одна из самых знаменитых пьес Зорина «Царская охота» первоначально называлась «Самозванка».
Эта пьеса рассказывала о подлинном событии, на протяжении двух столетий волновавшем воображение писателей и художников. Автор стремился быть точным в передаче деталей и колорита времени, однако, в отличие от других своих исторических драм, прежде всего, «Декабристов» и «Медной бабушки», не стремился предложить в ней достоверную реконструкцию событий прошлого, выбирая из многочисленных и часто противоречивых источников то, что соответствовало его собственным художественным задачам. Так, насколько мы сегодня знаем, не получают подтверждения данные об инсценированном браке Орлова и Елизаветы на военном судне или о том, что неудачливая претендентка на российский престол была беременна от своего похитителя. Впрочем, полностью исключить такие версии нельзя, но в любом случае это не имеет особого значения – перед нами не историческая хроника, а любовная драма.
Посвятив долгие десятилетия театру, Зорин много размышлял о том, как «маска прирастает к лицу»: принятая человеком роль становится его сущностью, а жизнь, проживаемая в воображении, ощущается как более подлинная, чем реальная. При первой встрече оба героя «Царской охоты» должны разыграть взаимное увлечение и соблазнить друг друга: Орлов – чтобы заманить Елизавету в ловушку, а она – чтобы втянуть его в свою авантюру. Очень быстро эта притворная страсть оборачивается настоящей любовью, а государева служба – дурным и фальшивым спектаклем. Но если хрупкой самозванке удается остаться на высоте трагедии, то прославленный победитель оказывается не способен сломать предписанный ему сценарий. Чтобы усилить шекспировскую метафору мира как театра, Зорин ввел в пьесу двух знаменитых драматургов того времени: Карло Гоцци с итальянской стороны и Дениса Фонвизина с русской.
«Знаешь ли ты, что самозванство царства рушит? Забыл Пугача?» – говорит Орлов в финале «Царской охоты» поэту-пропойце Кустову, пытаясь оправдаться в своем предательстве скорей перед собой, чем перед собеседником, на что тот отвечает: «Полно, граф Алексей Григорьич, кто в этом свете не самозванец? Все ряженые, все лики носят, а державы отнюдь не падают…». Как и в истории с репликой Виктора в «Варшавской мелодии», цензура попыталась внести в текст мелкое, но ломающее смысл изменение. «В этом свете» пришлось заменить на «в нашем веке». Предполагалось, что так будет понятно, что речь идет о восемнадцатом столетии и екатерининской империи, но на этот раз насилие над текстом имело противоположный эффект – слова Кустова зал неизменно встречал хохотом и овацией.
То же «самозванчество» – постоянные взаимопереходы воображаемой и настоящей жизни, роли, которую человек взялся играть, и его естества, составляют содержание небольшой поздней пьесы Зорина «Невидимки». Ее герои так и не встречаются и только рассказывают о себе другу другу по телефону, прихотливо смешивая рельность с вымыслом. Когда в конце юная героиня просит незнакомого, но ставшего ей самым близким человека о встрече, он отказывается, предпочитая остаться невидимкой: «(кладет трубку). Сознаться, что я живу на земле по крайней мере три ее жизни… Нет. Хуже убийства. Миф священен».
И «Перекресток», и «Царскую охоту» Зорин первоначально писал для Вахтанговского театра, рассчитывая на новые творческие встречи с Ульяновым и Борисовой. Ставить «Царскую охоту» вахтанговцам запретили, от «Перекрестка» они отказались сами – Ульянов был готов вернуться к Виктору, но для Борисовой необходимость выйти на сцену в роли сильно постаревшей и до неузнаваемости изменившейся героини оказалась эмоционально слишком тяжелой. Пьеса была поставлена Владимиром Андреевым в Театре Ермоловой, сыгравшим в ней вместе с Элиной Быстрицкой. Спектакль пользовался успехом, но подлинным продолжением легендарной «Варшавской мелодии» так и не стал. Сценическая судьба «Царской охоты», напротив того, оказалась на редкость счастливой.
Отец говорил, что в его жизни были два идеальных сценических воплощения его пьес: «Гости», поставленные Лобановым в 1954 году, и «Римская комедия», выпущенная Товстоноговым десятилетием позже. Оба спектакля были запрещены после первого публичного исполнения. Для меня эти постановки остались семейными легендами – в пору работы над «Гостями» я еще не появился на свет, а ко времени премьеры «Римской комедии» был слишком мал. Зато мне повезло увидеть «Царскую охоту», поставленную Романом Виктюком в Театре Моссовета с Маргаритой Тереховой и Леонидом Марковым.
В главе «Самозванцы и самозванки» из «Авансцены» Зорин подробно рассказывает об истории спектакля и многомесячной изнурительной борьбе за него, в ходе которой ушел из жизни инициатор всего этого предприятия – главный режиссер театра Юрий Завадский. Решающий день 20 апреля 1977 года я запомнил на всю жизнь. Утром отцу сообщили, что назначенная на вечер премьера отменена. Последовали телефонные звонки каким-то влиятельным лицам, переговоры и совещания в загадочных кабинетах. В середине дня поддержать отца к нам приехали Виктюк и Терехова. Невзирая на тягостное напряжение, все шутили. Терехова была ослепительна, Виктюк – как всегда исполнен обаяния. Вопреки всему, они оба были почти убеждены, что убить такой спектакль невозможно. И действительно, через пару часов позвонили из театра и сообщили, что разрешение получено. После ухода гостей отец признался мне, что уже не способен испытывать радость. «Будь оно все неладно, – сразу же записал он в дневнике. – Хочется бежать на край света. За сегодняшний день я постарел на десять лет, мне уже не нужны ни премьера, ни пьеса, ничего на свете». Однако следующая запись от 21 апреля выдает совсем иное настроение – ошеломительный успех, а главное, чудо, происходившее на сцене накануне вечером, его буквально воскресили. Начиналась долгая жизнь спектакля, который при неизменных аншлагах продержался на сцене двадцать шесть лет, став поворотной точкой в головокружительной режиссерской карьере Виктюка и лучшей, по их собственному признанию, театральной работой двух феноменальных актеров.
Пьеса ставилась и в других театрах, по ее мотивам был снят фильм, впрочем, вызвавший у отца такое раздражение, что он взял с меня торжественное обещание его не смотреть. Я сдержал данное ему слово и потому не знаю, то ли фильм был действительно так плох, то ли просто не выдерживал сравнения со своим сценическим прототипом. Да и что могло выдержать такое сравнение? Само собой разумеется, реальность театральной жизни, а потом и безвременная смерть Маркова в 1991 году вынудили ввести в «Царскую охоту» дублеров. Они играли достойно, и спектакль неизменно собирал полные залы и вызывал овации. Но чудо померкло.
Если сценическое воплощение «Царской охоты» несравнимо превзошло экранное, то с вошедшей в этот сборник пьесой «Транзит» дело обстояло иначе. Спектакли по ней, за исключением киевского, поставленного Борисом Львовым-Анохиным с Адой Роговцевой, оказывались, скорее, проходными, а фильм Валерия Фокина, в котором играли Михаил Ульянов и Марина Неелова, получился удачным. Особенно выразителен был финальный крупный план Ульянова в поезде, когда его герой, знаменитый архитектор на крупной государственной должности, переоценивает свою жизнь после того, как случайно встретил в маленьком уральском промышленном городке настоящую любовь.
Архитектор Багров возвращается из командировки в Москву, откуда он должен отправиться в очередное путешествие в далекие края. По тексту «Транзита» разбросаны упоминания о том, как он не любит летать, но все время вынужден это делать. В черновике пьеса завершалась серией закадровых голосов, обсуждающих гибель Багрова в авиакатастрофе. Едва закончив первое, семейное, чтение «Транзита», отец сказал, что этот финал надо вычеркнуть. Зритель и без подобных нажимных приемов должен был понять, что встреча героев останется единственной – социальные и житейские барьеры, разделявшие Багрова и его возлюбленную, мастера с машиностроительного завода, исключали возможность продолжения их отношений.
Законы сценического действия во многом предопределяли фокус на единственной встрече и главном событии в жизни героев. Композиция «Варшавской мелодии», тем более дополненной «Перекрестком», позволила Зорину провести героев через десятилетия. И все же ему становилось все тесней в рамках драматического жанра – хотелось получить возможность увидеть персонажей со стороны, комментировать их поступки и мысли, рассказывать, а не только показывать. Количественные ограничения также, по крайней мере поначалу, казались ему обременительными – «надоело ставить точку на 57‑й странице», – не раз говорил он мне, хотя потом стал писать преимущественно короткие повести, размером меньше пресловутых 57 страниц.
Первый роман Зорина назывался «Монолог». Он был закончен в 1968 году и рассказывал о журналисте Ромине, собирающем материалы о полузабытом историке Иване Мартыновиче Каплине, в свое время оставившем столицу, отказавшемся от успеха и признания, чтобы искать научную истину в провинциальном городе. Роман не был напечатан и десять лет пролежал в ящике стола, пока автор не взялся перерабатывать его и, в частности, не дописал две главы, в которых Иван Мартынович рассказывает в третьем лице историю своей любви. Эта вставная новелла стала не только смысловым центром романа, переименованного автором в «Старую рукопись», но и прологом и даже своего рода ключом к новому периоду его творчества.
Талантливый и успешный ученый средних лет заводит легкую и необязательную интрижку с преданно и беззаветно влюбленной в него студенткой-заочницей и неожиданно осознает, что эта встреча стала для него событием, «разделившим его жизнь на две части – до и после». Однако это открытие оказывается роковым и отнюдь не в силу внешних обстоятельств – оба героя свободны и любят друг друга – но из‑за «разного состава крови». С одной стороны – рефлектирующий интеллигент, изъеденный недовольством собой и стыдящийся своего легкого успеха, с другой – провинциалка растиньяковского разлива, не сомневающаяся в своем праве на место под солнцем и способная его добиться. Она отказывается уехать из Москвы вместе с героем и постепенно добирается до высших этажей социальной иерархии.
Поначалу возлюбленная появляется в доме историка как нечастая гостья, потом прибирает к рукам его хозяйство и в конце концов занимает всю его жизнь и мысли. Покинув столицу, он размышляет о логике своего любовного крушения больше, чем о закономерностях исторического процесса. Впрочем, сам Иван Мартынович был склонен придавать своей личной истории «расширительное толкование», полагая, «что они, в сущности, символизируют отношения более общие и многозначительные, являясь этаким наглядным пособием для изучения таковых». Речь здесь идет о пресловутых отношениях «интеллигенции и народа», разумеется, с той степенью откровенности, которая была доступна в подцензурном советском издании.
Важно подчеркнуть, что интерес героини к своему учителю вовсе не носит утилитарного характера – никакой помощи в карьере она от него не ждет, да он и не мог бы ее оказать. И в чисто интеллектуальном плане общение с ним не принесло ей практической пользы: «Я у тебя кое-чего поднабралась. А это мне, знаешь, часто мешает. Осложняет жизнь, одним словом», – говорит она ему при последней встрече, уже став большой начальницей. Дело было не в меркантильном расчете – в молодости она была искренно влюблена в харизматичного преподавателя, воплощавшего собой недоступный для нее мир, тем проще и непоправимей оказалась разница их траекторий.
Вернувшись после этого разговора к своей уединенной жизни, Иван Мартынович «досадует на себя», что «не нашел важнейших слов, единственных, необходимых слов, которые все бы ей объяснили». Он прекрасно понимает, что таких слов не существует, но его все так же тянет «увидеться, доспорить, договорить до конца». Он не сразу узнает, что «договорить» не удастся – его былая любовь погибает в авиакатастрофе, возвращаясь из заграничной командировки. Метафора взлета в высшие сферы и его иллюзорности, выброшенная из «Транзита», где Зорин решил помиловать своего Багрова, перешла в первый серьезный прозаический опыт писателя.
У интеллектуала Каплина нет иного ресурса, чтобы в чем-то убедить подругу, кроме слов. Морской офицер Самарин, герой написанного Зориным через тридцать лет после «Старой рукописи» рассказа «Последнее слово», пытается что-то доказать недоступной для него женщине самоубийственным поступком – организацией военного мятежа. Естественно, и этот аргумент оказывается столь же бессильным – та отказывается даже передать ему несколько прощальных слов через адвоката.
Если героиня «Старой рукописи» стремится к карьерному восхождению, то Лидия из повести «Алексей», напротив того, одержима идеей протеста. Эта повесть написана в позднесоветские годы, и Зорин стремился здесь довести эзопов язык до такого уровня, чтобы и диссидентство Лидии, и арест, ставший причиной ее внезапного исчезновения, были прозрачны для понимающего читателя, но скрыты от цензоров и редакторов. Возможно, это также сыграло свою роль в том, что «Алексей», первоначально задуманный как пьеса, стал повестью, хотя и чрезвычайно обильной диалогами. Театральная цензура во все века была свирепей и въедливей, чем книжная. Немаловажным было и то, что прозаический жанр в советское время позволял больше сказать об эротической составляющей чувства героев. Так или иначе, маневр удался. «Алексей» был напечатан, а в начале перестройки Зорин написал также драму о сходном конфликте.
Пьеса «Пропавший сюжет» и ее продолжение «Развязка» вошли в состав сборника «Ничего они с нами не сделают». Сиквел был создан через полтора десятилетия после первой части, и два описанных в нем события разделяет примерно тот же промежуток времени. Провинциальный юморист и юная эсерка, полюбившие друг друга в 1906 году, во второй части вновь встречаются уже в большевистской России. В финале героиня, собирающаяся совершить политическое убийство, стреляет в бывшего возлюбленного, который пытается встать на ее пути.
Прозаическая дилогия «Алексей» и «Забвение» воспроизводит тот же конфликт. Адвокат Алексей Головин и диссидентка Лидия находят друг друга накануне ее ареста. Ничего не зная ни о ее занятиях, ни о ее судьбе, Алексей безуспешно пытается ее разыскать и случайно встречает уже в новую эпоху, когда и эта героиня совершает убийство, на этот раз символическое – по идейным соображениям закрывает дорогу в печать его итоговой книге.
В «Старой рукописи» Каплин после известия о смерти былой возлюбленной постепенно уходит в себя и все тщательней пестует свое одиночество: «День ото дня он становился все молчаливей, слова отвлекали. И были все более одинокими его пустынные вечера. О ней он почти не вспоминал. Было чуть страшно себе признаться, что он уже ничего не чувствует. Подумалось: люди неблагодарны, не рады и собственному освобождению. В том, очевидно, и состоит грубоватая помощь времени, что оно нас лишает даже той боли, которой мы сами дорожим».
Спасительное предсмертное забвение приходит на помощь и Головину, причем в самом буквальном, неметафорическом смысле. Во время своей последней встречи с Лидией он уже знает, что погружается во мрак болезни Альцгеймера, и говорит, что хотел бы скорей забыть век, в котором ему выпало жить, с его «историческим оптимизмом и газовыми камерами». Собеседница, не растерявшая, несмотря на все испытания, политический темперамент, резко возражает: «Она сказала: – Вам не удастся. […] Я рассмеялся. В первый раз за весь мой визит вполне естественно. – Мне-то удастся. Не сомневайтесь». Люди, даже связанные самой сильной романтической любовью, в конечном счете оказываются враждебными друг другу.
Зорин любил возвращаться к своим старым героям, ощущая их как неотъемлемую принадлежность созданного им художественного мира. Иногда он прослеживал их дальнейшие судьбы, а иногда задним числом уточнял уже созданные версии. В какой-то мере это было знаком постоянным и внимательным читателям. Так Алла из «Палубы», ленинградская барышня, едущая преподавать в сельской школе, вновь появляется в «Транзите» как Алла Глебовна, а потом еще раз в романе «Злоба дня», вошедшем в трилогию «Национальная идея» (НЛО, 2017). Особенно часто этот прием повторяется в поздний «прозаический» период творчества Зорина. Через несколько десятилетий в повести «Тень слова» он снова возвращается к впервые появившемуся в «Старой рукописи» Ромину, пишущему свою книгу о полузабытом историке, в котором узнается Каплин. На этот раз, впрочем, он превращается из неизвестного журналиста в знаменитого писателя, а его имя меняется с Волика (Владимира) на Константина.
Ромин из «Старой рукописи» читал историю любви Ивана Мартыновича, и она помогла ему разобраться в себе. Ромин из «Тени слова» находит свою любовь в городе, где некогда жил историк. Причем, в отличие от возлюбленных Каплина и Головина, встреченная им провинциальная библиотекарша оказывается для него в полной мере родной душой. «Состав крови» у них одинаковый, но и это не может помочь людям, для которых одиночество стало нормой и условием существования. В этой повести возникают совсем нехарактерные для автора мистические мотивы. Потеряв любимую и дописав свою книгу об историке, Ромин исчезает, а пытающийся разобраться с его исчезновением криминалист неожиданно понимает, что тот без остатка воплотился в собственном творчестве – стал словом.
В «Тени слова» Зорин отказался от столь характерной для него темы исходной несовместимости любящих друг друга людей. Зато в рассказе «Юдифь», который он написал на пороге восьмидесятипятилетия, эта несовместимость доведена до предела. В поздний период своего творчества он нередко прибегал к тургеневской технике повествования, представляя свои произведения как исповедь доверившегося автору собеседника. В «Юдифи» бывший разведчик, посвятивший жизнь служению репрессивному государству, рассказывает историю своих отношений с женщиной, чья семья была перемолота этим государством. Их любовь вспыхнула с первого взгляда, когда он пришел в дом Юдифи конфисковывать имущество ее родителей, и продолжалась до последней разлуки, когда она навеки покинула страну, убившую ее мужа и ставшую для нее ненавистной.
Разумеется, у таких героев не было даже малого шанса соединить свои судьбы, оказавшиеся, как и у большинства их современников-соотечественников, трагичными. И все же именно им удалось сохранить чувство и пронести его через череду вынужденных расставаний. Именно в «Юдифи», несмотря на чудовищность описанных событий, различима столь редкая у Зорина оптимистическая нота, побуждающая автора на этот раз вступить в поединок с разрушительной силой времени: «Бывает, что всем твоим существом однажды овладевает потребность поспорить с победоносным забвением, которое накрывает людей своим бурьяном и чертополохом. И вот присаживаешься к столу, чтоб удержать на краешке ямы и этого солдата империи, который знал, как пахнет судьба, и женщину, чье имя – Юдифь».
Одиннадцать произведений, собранных в этой книге, предлагают различные версии вечного мифа о людях, обретающих и теряющих свою любовь, людей, чьи истории Леонид Зорин более полувека старался «удержать на краешке ямы».