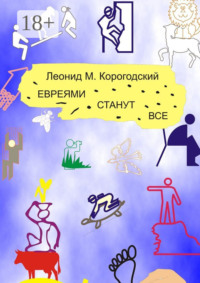Read the book: «ЕВРЕЯМИ СТАНУТ ВСЕ»
© Леонид Миронович Корогодский, 2020
ISBN 978-5-0053-0194-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
– Хочу жить выше Всех, – заявил архитектору Граф.
Его трепетная душа рвалась вверх.
– Не очень высоко, – добавила Графиня.
– Не высоко, но выше Всех, – подытожил Граф.
Эта фраза дошла до нас
в камне.
Графиня, польская Золушка,
затерянная в лесах Чернобыля,
с французским именем Жанетта,
ноги в красных пятнах,
искусанные провинциальными комарами.
Как было за ними узнать
глубоко спрятанный внутренний мир?
Приходилось натирать стопы новыми туфлями,
перебинтовать сандалиями и котурнами,
выправлять туниками, юбками и каблуками.
Сама жизнь подвела женщин к тому,
что совершенно необходимо
иметь две, нет три, пары ног
и нравиться Всегда и Всем,
просыпаться и говорить себе:
сегодня, сейчас и Всегда у меня самые красивые ноги,
на любой вкус,
подходящие к будням, выходным и праздникам.
Можно упрекнуть Жаннетту в несерьезности,
но она ведь она не требовала дворцов и лимузинов,
а хотела стать совершеннее,
на одну пару ног.
Неясно, как она их меняла и где хранила,
но результаты были очевидны.
Трепетный Граф и Графиня-Золушка
поеживались при мысли
о таком желанном,
но огромном и безлесом Киеве.
Граф был не из тех принцев,
которые, после женитьб на золушках,
вечно пьяные пропадают на балах,
многозначительно коллекционируют тыквы
и крыс в ливреях.
Граф был собирателем искр.
Его Дом, построенный на огромной ступени холма,
притаился в окопе:
трехэтажный, но видный лишь наполовину,
с крепостными стенами метровой толщины
и высоченными потолками.
Ему хотелось и показаться, и спрятаться.
Многопалубный Ковчег,
застрявший в скале,
Приседающий Дом
на вершине холма.
Живя на верхней палубе,
Граф мог годами не сталкиваться
с нижними кочегарами, машинистами и поварами:
еда и дрова подавалась наверх в специальных лифтах.
Рядом с Домом
обрушивался Крутой спуск,
как веревочная лестница с откоса,
со стены неприступной крепости.
Подъем давался нелегко,
особенно зимой,
когда Всё покрывалось
льдом и снегом.
На стороне Графа под окнами ездили позолоченные кареты,
а на заднем дворе снизу кололи дрова
и складывали их в сараи.
Внутри Дом,
от узорчатых полов до лепки потолков,
располагал к изысканности,
игре на клавесине
и галантным танцам.
Символом Дома стал хрусталь.
Каждое утро Граф наблюдал,
как сверкали и переливались на солнце
бело-голубые грани и изгибы кристаллов
с каждым поворотом вазы.
В лунную ночь они выносили
полюбившуюся вазу на балкон
и ловили едва заметные
отблески Луны в хрустале.
Мечущийся Граф что-то искал,
на Графине были лучшие ночные ноги.
В этот миг
тыква становится каретой,
злобная крыса – услужливым кучером в золотой ливрее,
а Золушка – принцессой.
Но погода все чаще и чаще
оказывалась пасмурной,
лились нескончаемые дожди.
Выросший под носом Университет
и вовсе закрыл горизонт,
а построенный снизу круглый Рынок
воскурял запахи рыбы, еды и крови.
Балкон больше не радовал,
приходилось закрывать и окна.
Эпоха хрусталя прошла.
Нежный Граф обнаружил себя и Дом
выглядывающими из окопа
и припавшими к стопам лестницы Университета,
языческого храма с готической башней католического собора,
достроенной по просьбе Графини.
Дом, словно по нужде, присел в окопе,
выглядывая и озираясь,
в приспущенных штанах,
заголивший зад Рынку,
вопреки всем правилам военного искусства.
Не думал осторожный Граф,
что его так окружат со всех сторон.
Неспокойно было и в нижних трюмах —
там зрел бунт.
Задрав голову,
Граф смотрел на башню Университета,
который все рос и рос,
а Дом, казалось,
все больше уходил под землю.
Университет же с башней
свысока поглядывал
на полузарытый в землю домишко,
заливая презрением
крышу-каску с рогами дымовых труб,
наполняя им ров у Дома,
Крутой спуск до заболоченного Рынка
и делая мелкий Крещатик
полноводной рекой,
затапливающей даже городскую Управу.
В спину Дома дышали запахи Рынка,
крики гогочущих, кудахтающих, мычащих
и навсегда молчащих.
Графу долго снилось,
как он на Рынке в белом халате
бесплатно раздавал содержимое своего препарированного брюха.
При этом он прекрасно себя чувствовал,
шутил и смеялся,
приглашал Всех к себе домой
и был совершенно счастлив.
После таких снов Граф стал
чаще заглядывать на Рынок.
Одевался попроще,
терпел запах крови, рыбы
и что-то искал,
внимательно принюхиваясь и приглядываясь.
Дом философски отсиживался в окопе,
лукаво выглядывая из укрытия верхним этажом.
Он явно готовил какие-то сюрпризы.
А сама улица назвалась Круглоуниверситетской.
В этом имени скрывалась какая-то загадка.
За последнюю сотню лет его не разу не меняли,
ни во время войн, ни революций и оккупаций —
два полуповорота циркуля на карте,
спираль на холме,
знак вопроса
с точкой круглого Рынка внизу.
Это длинное сложное слово задевало и беспокоило Графа.
Он проходил по, теперь уже, Круглоуниверситетской
от Рынка до Дома
по нескольку раз
и Всегда задумывался.
Круг.
Университет.
И спуск.
Крутой спуск.
Чего-то здесь не хватало,
в этом Круге,
во вместилище мудрости.
Что-то резало слух.
Разогнавшись вверх,
по крутой спирали Круглоуниверситетской,
разорвав магическую черту Круга,
можно было выйти на правильную орбиту
и с самого низа, с Рынка,
минуя Университет,
взлететь прямо во дворец Президента,
в Правительство, Банк или Парламент.
Часами Граф бродил
по злополучной улице,
во что-то вглядываясь,
к чему-то принюхиваясь и прислушиваясь.
При этом постоянно бубнил.
Холм,
Круг,
Университет.
Нет.
Чего-то нет.
Зимой отвлекали камины.
Он днями и ночами наблюдал
за осмелевшими вылетающими искорками.
Графа угнетало,
что искры вылетали,
взлетали
и гасли.
Всегда.
Никогда не становились
новым, еще более ярким огненным шаром,
взмывающим и увлекающим за собой, вверх
его, Графиню, еще не родившегося сына
и весь уже столько лет Приседающий Дом.
Это наводило растерянного Графа на мысли о смерти.
Что может осветить одна искра?
Как сделать, чтобы они не гасли,
а полными огоньками летали по комнате?
Тогдашняя Наука еще помнила горящие костры на площадях
и от таких вопросов шарахалась.
Объяснения ученых из Университета,
что какое-то вещество сгорает,
Графа совершенно не устраивало.
Почему какой-то электрон,
непонятно зачем,
бесконечно кружится и вращается,
а прекрасная искорка мгновенно гаснет.
Священники разных конфессий тоже побаивались этой темы
и в ответ на его вопросы,
пожимали плечами, отмалчивались
или крутили пальцем у виска.
Затосковавший Граф тайно ездил
советоваться с раввином-каббалистом
в свое поместье
в Корогоде
у Чернобыля.
Тот, в отличие от многих,
не счел его сумасшедшим
и отнесся к сказанному абсолютно серьезно.
Веселый раввин сообщил,
что из одной искры пламя не возгорится.
Нужно десять искр,
объединившихся добровольно,
совершенно добровольно.
Такой ответ Графу понравился.
Он долго еще представлял,
как десять искорок,
вместо того, чтобы навсегда погаснуть,
сближаются, льнут друг к другу
и остаются горящим огоньком.
Навсегда.
Но о чем все же говорил тот еврей
и где взять десять таких умных искр?
– Судьба мира зависит от десяти искр,
от их объединения, – добавил тогда каббалист.
Весной и летом камины гасили,
становилось жарко и скучно,
огненное волшебство исчезало —
не было вечерней темноты
и разлетающихся из камина искр.
Граф грустил.
Но был еще один источник идей.
Растерянный Граф побрел на Рынок.
Там, среди вонючей рыбы и кудахтающих кур,
он увидел волшебного китайца
в золотом халате, с тонкой бородкой и свисающими усами.
Перед ним стояла банка с рыбками-огоньками,
по словам продавца, летающими.
Огненно-золотая, да еще и летающая рыбка.
Да не одна, а несколько!
Тут никаких желаний даже не нужно загадывать.
В тот же миг Граф стал ярым поклонником Китая,
недавно родившегося сына назвал Конфуцием.
В его душе искрами порхали золотые рыбки.
Тут же в осиротевшие без огня камины
поставили аквариумы
с пламенеющими восточными рыбками.
Граф ждал.
Раскормленные твари питались, поправлялись и размножались,
но и не собирались никуда прыгать,
а тем более летать.
Краснопузые лжелетуны сыто дремали в аквариумах,
разочарованный Граф грустил в кресле напротив.
Нужна была новая идея.
Вдруг он вскочил и хлопнул в ладоши.
Забегали разбуженные слуги,
вспорхнула с дивана Графиня,
заревел испуганный Конфуций.
Граф велел распахнуть окна
и раздвинуть кружевные французские занавесы.
В комнаты влетел рой мух,
вскормленных Рынком и конским навозом улицы.
Рыбки в аквариуме напряглись и забеспокоились —
наконец, и у них появилась в жизни цель.
Прицельно ведя взглядом зажравшуюся жирную муху,
первая выпрыгнула свечой,
схватила ее
и вернулась в аквариум,
вторая уже сделала небольшой полукруг,
а третья понеслась по комнате,
хватая муху за мухой.
За ними золотым дождем посыпались остальные.
Летающие факелочки
выскакивали из аквариума
и, покружив немного,
ныряли назад.
Счастливый Граф сиял,
Графиня бросилась готовиться к приему гостей.
О рыбьем цирке писали в газетах,
Дом бурлил,
Графиня не успевала менять ноги.
Рыбки, уже профессионально, взлетали над водой
свечой или полукругом и,
красиво изгибаясь,
ныряли обратно в аквариум.
Однажды воодушевленная коварной мухой рыбка,
окончательно утратив ощущение реальности,
вылетела в открытое окно
и плюхнулась на дно рва.
Ее спасло только то,
что там была лужа.
И это навело Графа на новую мысль
о Китае – стране фарфора,
земле, где живут золотые рыбки,
огромные золотущие рыбины.
И не в гигантских императорских аквариумах,
а на воле,
в озерах и реках.
Граф поехал в Китай.
Там с улыбками и поклонами
его усадили в рыбацкую джонку,
и долго плыли
по священной Желтой реке.
Рыбак-китаец,
обратившись к потоку,
долго кланялся
что-то бормотал,
хлопал ковшом ладони по воде.
И вдруг в метре от него
вынырнула золотая рыбища
с корову величиной
в огненной чешуе, с пятерню размером.
Какое же невероятное желание
она могла исполнить.
Но золотой карп
только равнодушно глянул на Графа
глазом-тарелкой.
Чем больше у человека желаний,
тем больше требуется ума,
чтобы их реализовать.
За невозможные деньги
Граф купил две икринки,
которые под страхом смерти
запрещалось вывозить из Китая.
Вывез.
Ров у Дома
был углублен и расширен,
залит водой и превращен в пруд.
Теперь в нем плавали,
заглядывая в окна нижних этажей,
два гигантских золотых карпа.
Граф любил сидеть на свисающем надо рвом балконе
и кормить их кусками отборного белого хлеба.
В благодарность золотые рыбины
откладывали на окнах и стенах дома
крупные, как яйца, икринки,
которыми Граф угощал самых знатных гостей.
Конфуций обожал прыгать в пруд
прямо с балкона,
пытаясь оседлать
сверкающую на солнце
скользкую золотую рыбищу.
Приближалась зима,
и жильцы нижних этажей
с ужасом думали,
как они окажутся
в огромном куске льда,
начнут трещать и ломаться
их окна и стены.
Что-то чувствовали и рыбы.
Однажды ночью они исчезли
вместе с водой.
Граф увидел в этом
какой-то знак,
перст судьбы.
Это отсрочило на несколько лет
надвигающуюся революцию.
Оказалось, что в дикой природе,
эти рыбины живут в глубоких норах,
которые сами же роют.
Кто-то рассказывал,
что видел из окна дома
вырытую глубокую яму-тоннель,
но ее тут же затянуло илом.
А у подножья холма,
на подступах к Рынку,
возникла бездонная и бесконечная лужа
и уже подернулась льдом.
Позже эта мистическая лужа спасет Графу жизнь.
В тот день Конфуций
чуть не разбился,
почти прыгнув в ров
без воды.
Золотых карпов долго еще искали
в киевских озерцах, болотцах, речушках, даже в Днепре.
Однажды на Рынке под холмом
Граф увидел двух огромных выпотрошенных рыб
без молок и икры.
Чешуя поблекла и трудно было понять,
те ли это рыбы.
Рядом висела распоротая свиная туша
и множество кур и петухов
без перьев и голов.
Это был второй знак.
С беспощадной ясностью
Графу вдруг открылось,
что нет больше Золотых Рыб
и уже не будет никогда.
Ров засыпали до прежнего размера,
рыб больше искать не стали.
А между тем
две огромнейшие золотые рыбины
выныривали
в незамерзшем еще Крещатике.
Несколько дней они выглядывали из воды,
выжидательно крутили головами.
Откормленные благодарные рыбины
были готовы выполнить
Все украинские желания,
но никто их не о чем не просил,
никто не забросил невод,
ничего не загадал.
Разочарованные рыбины,
пыхтя от лишнего веса,
расправили огромные плавники,
сыто переваливаясь,
стали на крыло
и стартовали.
Два рыжих дирижабля
возвращались в Китай.
Под ними проплывал
Крещатик, Круглоуниверситетская, Крутой спуск,
Киев, Чернобыль, Украина.
Никто никогда не видел
золотых летающих рыб
и никто их не заметил.
Дівчата та хлопці бачили
двох вгодований рудих гусаків,
котрі відокремилися від зграї.
Українці та українки
завзято вимахували хустинами, кучмами, брилями та капелюхами.
Они еще не понимали,
что теперь им Всё придется делать самим —
их упитанный шанс на беззаботную жизнь улетал.
Чуть не разбившийся Конфуций,
разочаровался в рыбах и рыбках —
перед глазами стояла жуткая картина:
он прыгает в пустой ров
и разбивается из-за каких-то двух тупых карасей.
Этот случай совершенно отвратил его от рыб,
вечно голодных краснопузых тварей.
Даже с отцом у него охладели отношения
и в этом вечном поединке,
происходящем у него на глазах,
он однозначно встал на сторону мух.
Это была резня,
бойня,
геноцид.
Конфуций стал внимательнее приглядываться
к этим чудным летающим изюминкам,
с их изумрудным, перламутровым и жемчужным отливом,
даже пытался мух разводить.
Впрочем, потребности в этом не было,
мух хватало.
Он был не лишен исследовательской жилки
и стал замечать,
что не все мухи
бестолково носятся по комнатам,
от Рынка до конских навозных куч Круглоуниверситетской,
подставляя себя рыбам.
В глубине роя
вызревала новая идея.
Одна из тысяч мух
отделялась от подруг и соплеменниц,
залетала в книжный шкаф,
ползала по корешкам книг,
по тисненным канавкам заглавий.
От прожорливых летающих рыб
было спасение
только в книжном шкафу —
книгами эти твари совершенно не интересовались.
И некоторые мухи,
понаблюдав за ужасами графского Дома,
перелетали в здание напротив,
в Университет.
Именно эти несколько мух
указали молодому дворянину
путь в Науку,
к знаниям.
Больше других, мух привлекала
совершенно непонятная рукопись,
написанная то ли на берберском,
то ли на эфиопском языке.
Заинтересовавшийся Конфуций
однажды открыл ее
и благодарные мухи
посыпались на страницы.
Они каждый раз садились
одна за одной
в каком-то только им понятном порядке.
И вдруг Конфуция осенило:
это же был текст!!!
Букву за буквой,
как непонятные узоры,
он начал копировать их,
пока не понял,
что это греческие буквы,
написанные какими-то прозрачными чернилами.
Позже, после многих анализов,
прозрачные чернила оказались
древнегреческой или древнеегипетской мочой,
которую только они, мухи,
уцелевшие и отобранные непрерывной войной
с летучими рыбами,
смогли распознать.
Это были уже совершенно новые,
лишенные прежних предрассудков мухи.
Иначе как они смогли бы
распознать по запаху
и полностью восстановить
сложный древнегреческий текст
двухтысячелетней давности
с рисунками и чертежами?
Конфуций увлеченно возрождал
вслед за мухами
букву за буквой
и все больше уходил
в древние Грецию и Египет.
Так, вслед за Оксфордом,
Университет получил
совершенно неизвестную рукопись Герона Александрийского.
С тех пор как восстановленная рукопись
переместилась в университетскую библиотеку,
здания Университета
были традиционно полны мухами.
Благодарные мухи искренне полюбили Университет
и, кроме рукописи Герона Александрийского,
им вскоре стала нравиться
вся университетская атмосфера.
Кумиром Конфуция стал Герон.
Книгопечатания во времена Герона еще не было.
Рукописи хранились
в знаменитой Александрийской библиотеке,
которая была сожжена.
Большинство его трудов не уцелело,
дошли отдельные копии работ.
О самом Героне мы не знаем ничего,
даже меньше, чем об Архимеде.
В одной из книг он описал
знаменитое солнечное затмение
и так мы примерно узнали
веху его жизни —
почти современник Христа и Клеопатры.
Центром учебы и мудрости,
после дряхлеющих, дремлющих и философствующих Афин,
стала молодая эллинистическая египетская Александрия.
Там тогда и говорили по-гречески.
И Герон, вслед за Пифагором и Архимедом,
двинулся в новую перспективную Александрию,
в обновленный античный Египет.
Тогда уже многие ездили в Египет
за наукой и образованием.
Глядя на рисунки Герона,
Конфуций строил забавные машинки
и выставлял их в шкафу.
Мать Графиня меняла ноги,
была занята собой и домом.
Граф не одобрял выбор Конфуция.
Конец их конфликту положила
обычно рассудительная,
но в тот день тоже задумавшаяся лошадь.
На самом краю оледеневшей улицы она оступилась
и карета,
торпедой, снарядом,
заряженным мечтающим Графом,
грозя разнести Рынок,
понеслась по остекленевшему откосу Крутого спуска вниз.
Только чудесная глубокая и безбрежная лужа
спасла Рынок
от таранного штурма,
а Графа – от судьбы боеголовки.
Может быть золотущие рыбины
ощущали какие-то рыбьи угрызения совести
перед Графом
и так, спасая ему жизнь,
вину заглаживали.
И это тоже был знак.
Залитый грязью разбитый Граф выбрался из кареты,
посмотрел наверх
и тут его осенило.
Он понял, чего ему не хватало —
это был Подъем.
Улица рядом называлась Крутой спуск,
а должна быть Крутой Подъем.
Круг.
Университет.
Подъем.
Подъем!
Вот тогда Всё встанет на места.
Он нашел разгадку,
которая навсегда изменит судьбу города,
безо всяких самых золотых рыб.
Несколько раз подавал он
проект переименования
Крутого Спуска
в Крутой Подъем
в городскую Управу,
чуть не разорился на подарках,
предлагал новые указатели сделать за его счет —
без толку.
Университет – понятно.
Но чего вдруг из Круга и Университета выходит Подъем?
Народ к подъему готов не был,
пусть даже на бумаге,
только в названии улицы.
Граф пустился на хитрость.
Пытался протащить слово «Подъем»
на латыни: «Эректус»,
Erectus maximus.
Думал, разрешат,
из уважения к античности,
или не поймут.
Поняли.
Не разрешили.
А звучало бы совсем неплохо:
Круг,
Университет,
Эректус.
И Граф снова загрустил.
Ему даже снилось,
как четыре всадника
на Золотых Рыбах
штурмуют Приседающий Дом,
захватывают Университет,
Правительство и Банк.
Не будет счастья Киеву,
пока вместо Подъема – Спуск.
Он поехал опять
к чернобыльскому раввину.
Тот выслушал его совершенно серьезно и сказал,
что лет через сто или двести
эту идею начнут понимать.
Не сразу Все, но таких людей будет все больше и больше.
Граф спросил, можно ли это ускорить.
Каббалист ответил, что лучше не ускорять,
что это и есть самая большая трудность:
поменять Спуск на Подъем.
Для этого нужно очень правильно соединить
Круг и Университет.
Не сейчас.
И объяснять больше не стоит.
Таким был последний знак.
Это совершенно подкосило Графа.
У него было Всё:
Приседающий Дом,
летающие золотые рыбки,
имение в Чернобыле.
Но он больше не хотел жить в Городе,
где так цепляются за слово Спуск,
Крутой Спуск.
Дом съежился от предчувствия
стенами метровой толщины.
По разным слухам, Графа видели в Китае,
в Индии,
в Палестине.
Следы его затерялись,
но еще вынырнут,
как две Золотые Рыбины из Крещатика.
***
В этом Доме,
после двух мировых войн и революций,
родился Александр.
Теперь он,
еврей с древним греческим именем,
жил в покоях самого Графа,
вернее в том, что от них осталось,
в коммунальной квартире,
многократно перегороженной соседями,
с родителями, бабушкой и дедушкой.
Приветом из далекого прошлого,
проступала лепка на высоченном потолке,
узоры паркета из деревьев разных сортов.
На ветхий балкон уже нельзя было выходить,
каминов давно не было.
Изменения каждого следующего поколения были все сильнее.
Дедушка Александра,
на котором он с восторгом ездил верхом,
пройдя весь курс изучения Торы
и гимназии в Чернобыле,
захотел учиться на врача и,
будучи евреем,
не получив высочайшего разрешения
на обретение знаний в Киеве,
уехал в Германию, в Лейпциг,
поступил в университет.
Студентом-медиком,
подрабатывал репетиторством по математике,
для немцев.
Получил диплом врача.
Тут началась первая мировая война
и дедушка обнаружил, что стал русским,
русским шпионом.
Его друзья-однокурсники были призваны в немецкую армию,
хорошо, хоть врачами.
Окольными путями он вернулся в Чернобыль.
Это спасло,
хоть и сделало нелегкой,
его жизнь.
Понимая, что теперь он
готовый немецкий шпион,
дедушка сжег диплом врача
и все немецкие документы.
Во время войны русскому царю
было не до евреев
и дедушку приняли на экстернат
Киевского университета Святого Владимира.
Там он отучился еще пять лет,
стал, наконец, дипломированным врачом,
женился на бабушке и переехал в Киев.
На этом же перекрестке
мировой, гражданской войны и революции
трое братьев, сестра и родители бабушки
уехали в Палестину.
Дедушке хватило переездов.
Попробуйте пережить двойную учебу,
мировую войну и революцию.
Младший брат бабушки выбрал построение коммунизма.
Два лагеря семьи
смертельно разругались,
разъехались,
разделились железным занавесом,
горячей, а потом холодной войной
и почти ничего не знали друг о друге.
Брат бабушки руководил
центральным районом Киева,
еще до второй мировой войны
был арестован
и, как через много лет выяснилось,
почти сразу расстрелян.
Его жена провела восемь лет в лагерях,
а сын – в интернате для детей врагов народа.
Бабушка долго еще носила передачи в тюрьму,
призраку своего брата.
Спустя много лет Александр понял,
что бабушка никогда не рассказывала ему
о своих родителях, братьях и сестре.
А Приседающий Дом
находился именно в том районе,
который до войны возглавлял
брат его бабушки.
Тогда в нем жили другие люди.
Только начала забываться первая мировая война,
как началась вторая
и уже дети немецких друзей дедушки
были призваны в армию.
Выяснилось,
что в том самом злополучном университете,
поколением раньше,
учился и расцветал Ницше,
кумир самого Гитлера.
Немецкие войска
продвигались намного быстрее,
чем осознание опасности
у киевских евреев.
Они еще помнили
любезнейших немцев
времен первой мировой войны.
Дедушка потратил
Всё драгоценное время,
чтобы их переубедить:
открывал секреты
о своей жизни в Германии,
показывал письма младшего брата,
призванного еще до начала войны,
уже вовсю воевавшего и вскоре погибшего.
– Мы простые люди,
не коммунисты и не политики,
никому не делаем плохого.
Зачем нам бежать?
Евреи верили в просвещенный немецкий народ
.
Дедушка, пожив в Германии,
знал немцев,
понимал,
не верил.
Он уже был не призывного возраста,
у него не было ни малейших сомнений,
что от этих немцев евреям надо бежать.
Бежать было уже не на чем,
время было потеряно,
все дороги перекрыты.
Дедушка, бабушка, прадедушка и папа
с еще одной семьей паникеров
еле успели погрузиться
на чудом раздобытый плот
и отчалили вниз по Днепру
среди взрывов бомб.
Киевский потоп начался.
Дедушка уплывал от немцев,
с которыми прожил пять лет.
Они его приняли в университет,
вручили диплом врача,
немецкого врача.
Вернувшись после войны в Киев,
он до конца жизни
оставался кандидатом в немецкие шпионы,
в анкетах ни слова не писал
о Германии и совершенном знании немецкого языка.
Всего этого Александр не знал.
Много лет спустя,
они с Женой поехали в Лейпциг
и долго искали дедушкин университет.
На его месте стоял огромный аквариум
с милыми и воспитанными немцами,
уставшими от войны.
Неужели это от них
дважды бежал его дедушка?
Отец Александра был уже послевоенным коммунистом,
напуганным репрессиями
и, наконец-то, налаженной
партийной дисциплиной.
Подростком он видел и хорошо помнил
взлет и падение
своего верного идее дяди и его семьи.
В школе до войны учил немецкий язык.
Был увлечен своим делом,
всегда задерживался на работе
с гордостью и чувством исполненного долга.
Был болезненно честен:
мог принять от подчиненных в день рождения
торт или коробку конфет,
которые тут же открывал и Всех угощал.
Он не хотел быть подлецом
и предпочитал верить,
в то, что ему часто приходилось говорить.
На дурацкие вопросы Александра
не отвечал,
отмалчивался.
Наверное, Все, поселившиеся в этом Доме,
должны были иметь какие-то тайны, загадки
или, хотя бы, странности.
Лишь много лет спустя,
Александру удалось как-то узнать
тайны истории своей семьи
по оговоркам, обрывкам и намекам.
А вот главную тайну о том,
кем был его прадед,
который жил в Чернобыле
и которого Александр называл Пра,
он узнает уже взрослым,
совсем не от родственников,
и она кардинально изменит его жизнь.