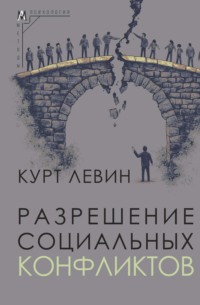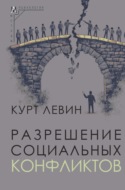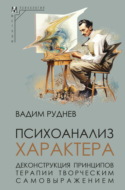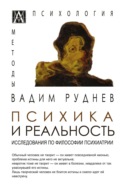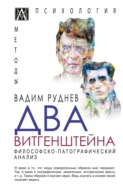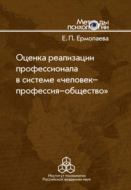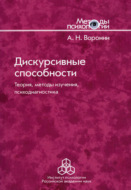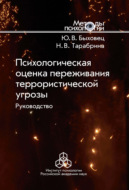This book cannot be downloaded as a file but can be read in our app or online on the website.
Read the book: «Разрешение социальных конфликтов»
© Авидон И.Ю., перевод, 2025
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2025
* * *



Гордон Оллпорт
Гений Курта Левина
Возможно, в истории психологии Курт Левин останется самым оригинальным мыслителем нашего века1.
Многие из предложенных им понятий быстро стали разменной монетой в царстве психологии: уровень притязаний, валентность, квазипотребность, барьер, групповая атмосфера, социальная перцепция и многое другое. С момента смерти Левина прошло двадцать лет2, и его влияние отчасти уменьшилось, однако его вклад в науку до сих пор привлекает пристальное внимание.
* * *
Как сказал поэт, гений «рожден на небесах и редко понят нами». Возможно, именно поэтому психологи, обремененные проблемами земного и усредненного, уделяют этому предмету мало внимания. Наиболее плодотворный из используемых нами подход к человеческой деятельности берет за точку отсчета коэффициент интеллекта; однако в тех случаях, когда мы рассматриваем работу человека, чья оригинальность не позволяет нам использовать какие бы то ни было сравнительные шкалы, неэффективность этого подхода становится очевидной. Мы не можем знать, каков был IQ Курта Левина, но даже если бы мы это и знали, едва ли это помогло нам понять уникальность его мышления, приведшую к столь важным открытиям.
Похоже, величие всегда порождает споры. В психологии нашего времени наиболее противоречивой фигурой, внесшей существенный и оригинальный вклад в науку, был Зигмунд Фрейд. После Фрейда мы можем вспомнить Уильяма Макдугалла и Курта Левина, поскольку они оба были основоположниками влиятельных теорий, и по этой самой причине привлекали повышенное внимание аудитории. Недостаток теории Макдугалла заключался в том, что предлагавшийся в ней подход носил дуалистический, психобиологический характер, а на это направление в то время как раз проходила мода. Преимущество Левина, напротив, крылось в том, что он со своим конфигурационизмом и апелляцией к социальной совести находился на гребне волны. Хотя позиция Левина была менее противоречива, чем позиция Макдугалла, некоторые психологи его все же отвергали. Преимущественно это были консерваторы, уделявшие основное внимание методологии и математике и считавшие оскорбительными его вторжения на их территорию.
И хотя у нас мало соответствующих эмпирических материалов, я все-таки рискну предположить, что, по всей вероятности, истинной гениальности всегда сопутствуют определенные условия. Я не хочу сказать, что обеспечения этих условий достаточно для развития гениальности, я говорю только о том, что они необходимы.
1. Во-первых, работа гения всегда отмечена некоторым интеллектуальным одиночеством.
Довольно странно звучит утверждение о том, что Курт Левин (без сомнения, самый приветливый и дружелюбный человек из всех, кого я знал) был одинок. И тем не менее мы отмечаем, что он избегал проторенных путей психологической науки. Я помню, как много времени мы проводили, обсуждая концепцию установки, когда я пытался убедить его, чтобы он отвел этому понятию более достойное место в своей теории. Другие, я знаю, убеждали его ввести в его систему различные психоаналитические понятия. Обычно он внимательно выслушивал подобных просителей, говорил, что их аргументы очень убедительны, а потом добавлял в своей обаятельной манере: «А теперь, вы не возражаете, если я представлю тот же самый феномен чуть иначе?» После чего он, как правило, рисовал какую-нибудь математическую функцию. Его высочайший интеллект выискивал какие-то «псевдостручки», в которых, как горошины, умещались разнообразнейшие идеи коллег. И каждая неожиданная находка тотчас включалась в модель, согласующуюся с его теорией поля.
Его одиночество никоим образом не было асоциальным. Напротив, он в большей степени, чем большинство оригинальных мыслителей, испытывал на себе преимущества социальной фасилитации. Получив импульс от окружающих, пытающихся убедить его в чем-то, его собственный гений вспыхивал еще ярче; все это обеспечивало ему немало последователей, которые на время создавали тесную и единую команду исследователей-единомышленников. И тем не менее у Левина не возникало желания стать основоположником отдельной школы психологической мысли, и – несмотря на оригинальность его идей и его внимание к молодым коллегам – ему в конечном счете удалось не попасть в сети сепаратизма. Выражение «Левин и его студенты» можно было чаще услышать в годы, непосредственно предшествовавшие его иммиграции в Америку в 1932 году и сразу после эмиграции, чем во время последнего десятилетия его жизни. Поскольку его собственные научные интересы распространялись на индустриальную психологию и общественные психологические службы, а его студенты принимали значительное участие в психологических исследованиях военного времени, равно как и в клинической работе и в жизни общества, мы меньше слышали о «тесном кружке», но в большей степени ощущали многостороннее влияние их работы и на благополучие нации, и на нашу собственную профессиональную деятельность. Более того, многие из предложенных Левином концепций, которые поначалу казались чем-то эзотерическим, вскоре становились обычными и для традиционной психологии. Динамическая сила неоконченных задач, уровень притязаний – вот только немногие из понятий, на современном этапе повсеместно используемые в общей психологии.
Когда он знакомился с работами коллег, его реакция, как я уже говорил, заключалась в желании некоторым образом переформулировать заинтересовавшую его идею и встроить ее в свою теоретическую систему. Некоторые ученые-теоретики имеют схожее желание, но при этом демонстрируют нетерпимость и придирчивость к своим оппонентам. Левин всегда был к ним снисходителен, он не пытался высмеять их для того, чтобы выставить в благоприятном свете превосходство собственной мысли. И когда он решил, что необходимо подвергнуть критике классовую теорию для того, чтобы продемонстрировать преимущества теории поля, в качестве достойного оппонента он выбрал не кого иного и не что иное, как «аристотелевский образ мышления».
2. Без одиночества, без отдаления от толпы невозможно развитие оригинальности, а она, безусловно, является центральной характеристикой гениальности. И хотя при необходимости он использовал в своей работе те психологические, социологические и математические кирпичики, которые он считал пригодными для решения поставленных задач, построенное им здание изумляет своей оригинальностью.
Проблема, занимающая умы большинства представителей психологической науки, – это проблема связанности, взаимозависимости частей внутри целого. Именно этой проблеме посвятил свои размышления Левин. По словам Липпита, «хотя в его научной биографии мы можем вычленить немало тем, центральное место всегда занимало непрекращающееся научное исследование тайн взаимозависимости элементов, обусловливающей успешное функционирование конкретной личности, группы, науки как совокупности многочисленных подразделов»3. В различные времена психология пыталась разрешить проблему взаимозависимости посредством использования корреляционных методов, включая факторный анализ, благодаря созданию иерархических и интегративных моделей, с помощью концепции базовых качеств и профилей. В гештальт-психологии эта проблема решалась через утверждение того, что взаимозависимость, на самом деле, следствие не взаимоотношений, а целостности. Но в области психологии личности и социального поведения гештальт-школа не разработала столь же удовлетворительных и полезных концепций, как это сделал Левин, введя в психологию двойственное представление о человеке, рассматривая личность и как некую дифференцированную целостность, и как часть ее же собственного личностного пространства.
Столь конспективно прослеживать историю развития науки – занятие довольно опасное, поскольку эпохи прежние и эпоха нынешняя весьма различны и каждому периоду свойственны свои взгляды. Но для того чтобы подчеркнуть природу оригинальности идей Левина в области социальной психологии, позволю себе предположить, что эта дисциплина подразделяется на три принципиально отличных друг от друга периода, а сейчас, во многом благодаря ему, она вступает в четвертый, наиболее многообещающий период своего развития.
В течение многих столетий и даже в нашем веке ученые использовали упрощенные системы социальной теории. Все эти системы были построены рациональным путем, без привлечения каких бы то ни было эмпирических данных, за исключением разве что субъективных представлений их авторов. Механизм нашей психики, или узкопонимаемый кластер механизмов, своего рода deux ex machina, взят за основу социальных теорий Гоббса, Конта, Милля, Спенсера, Баджота, Лебона, Тарда, Росса, Макдугалла и многих других авторов, чьи основные произведения вышли в свет до 1910 года.
Затем последовала эра индивидуализма, начало которой положила теория инстинктов Макдугалла. Индивид стал центром социального универсума. Такое смещение акцентов дало старт экспериментальному периоду, когда основное внимание уделялось социальным влияниям на сенсорные и высшие психические процессы отдельных людей. Бихевиоризм привнес идею о фрагментировании окружающей среды на бесконечное количество условных стимулов, вызывающих бесконечное количество рефлекторных актов. В середине этого периода Макдугалл попытался избежать солипсизма, во многом им самим и порожденного, предложив концепцию «группового сознания» как полной аналогии индивидуального сознания. Этот термин, использовавшийся и им самим, и многими его предшественниками, отражает их пристрастие к индивидуальным моделям. Однако существовали веские причины отвергнуть эту теорию: она не соответствовала духу крайнего плюрализма, распространенного в тот период, не предполагала конструктивных способов экспериментальной проверки, несла на себе печать европейской метафизики. Эра индивидуализма была временем, когда в научной среде доминировали методы и концепции экспериментальной психологии, когда индивидуальные психические процессы, интерпретированные на основе статистики, рассматривались как адекватная объяснительная схема всего социального поведения. И фрейдизм со своим выраженным акцентом на индивидуализм человека тоже пришелся весьма к месту.
За два десятилетия до того в лексикон социологов и антропологов вошли и стали активно использоваться понятия, подчеркивающие важность учета факторов статуса, роли, стиля и ситуации (и непосредственной, и более отдаленной) при анализе актуального поведения. Действительно, социологи и антропологи долгое время оперировали этими терминами, но пока стенки между кафедрами в наших университетах не обветшали, их голоса не были услышаны психологами, живущими по другую сторону коридора. Пришло время, когда многие из тех же самых психологов, до того рассуждавших в терминах индивидуализма, бросились в другую крайность. Стало модным апеллировать к понятиям паттернов культуры, рассматривая личность как носителя некоторого статуса.
В чем-то влияние всех этих трех периодов мы ощущаем на себе и поныне, и в особенности, конечно, актуальны тенденции третьего периода. И именно здесь мы по достоинству начинаем оценивать вклад Левина, предложившего модель хорошо сбалансированного переплетения индивидуальных и социальных тенденций. На первый взгляд любимая формула Левина, Π = f (Л, С), не несет в себе ничего нового, и мы склонны пренебречь ею. Разве все без исключения психологи всех времен не соглашались с тем, что именно динамика личности и динамика окружающей среды обусловливают динамику поведения? Вероятно, это так – в их терминах. Но даже если мы соглашаемся с этим принципом в целом, те из нас, кто придерживаются индивидуалистического подхода, настаивают на том, что в интерпретациях должна доминировать Л, где детерминирующая роль приписывается прошлому опыту личности. Те из нас, кто является сторонником культурального подхода, стремятся минимизировать Л и преувеличить значимость С. Левин придерживался среднего курса и советовал нам находить компромисс в наших разногласиях, приняв в расчет ситуационное поле, существующее в представлениях самих его действующих лиц. Поступив таким образом, мы обнаружим, что паттерны культуры, роль и статус действительно определяют поведение, но только в том случае, когда эти категории социальной структуры действительно представляют собой реальные силы, преломленные через индивидуальные потребности и процессы восприятия.
Напряженные системы – это отдельная история; ни культуральные стимулы, которые, по нашему представлению, должны влиять на функционирование индивида, ни прежние привычки не могут полностью детерминировать поведение. Актуальные напряжения зависят от психологического прошлого ровно настолько, насколько это прошлое в действительности релевантно поведению человека в данный момент; они также являются результатом действия культуральных сил и сил социального окружения, на которые в действительности реагирует человек. Такой концептуальный подход, как мы знаем, может быть плодотворно применен к бесконечному множеству проблем, и на уровне активности индивида как члена малой первичной группы, и на уровне функционирования класса или нации.
К сожалению, мы не проверяли экспериментально, какие теории прогностически сильнее: индивидуалистические, культуральные или же теория поля. Если бы это на самом деле произошло, мы бы признали превосходство Левина в составлении прогнозов по той простой причине, что он способен одновременно принять во внимание большее количество параметров. Во время войны, где бы ни пересекались наши пути, я обычно интересовался его прогнозами касательно хода военных действий. Сейчас я сожалею о том, что не делал записей, подтвердивших бы их исключительную точность. Его единственная принципиальная ошибка заключалась в том, что он не смог предвидеть битву при Арденнах, отсрочившую конец войны. В ноябре 1944 года, расценивая тогдашнюю ситуацию как интенсификацию действующих сил, он предположил, что полное поражение Германии случится не позже февраля 1945 года. На самом деле День победы в Европе пришелся только на май. Я упоминаю о его проницательности, конечно, не в качестве доказательства в поддержку его общих теорий, но просто потому, что я действительно убежден в том, что большой опыт рассуждений в рамках теории поля помогал ему практически безошибочно оценивать взаимосвязи между событиями, случающимися в сложном окружающем его мире.
Возвращаясь к четвертому периоду социальной психологии, мы можем попытаться определить его основные характеристики. Во-первых, у нас имеется более гармоничное представление о совокупности личностных и социальных детерминант поведения. Во-вторых, у нас появилась возможность принимать в расчет одновременно большее количество переменных как исторического, так и актуального характера, чем мы могли охватить ранее. В-третьих, в результате мы получаем более адекватные навыки анализа и интерпретации феноменов непосредственного группового взаимодействия. И мне кажется, что больше, чем любому другому отдельному представителю социальных наук, мы обязаны этим Курту Левину.
Его теоретическая оригинальность была высока даже тогда, когда он занимался сугубо практическими вопросами. Изобретатель «топологической» и «векторной» психологии, он также изобрел «действенное исследование». На мой взгляд (хотя я знаю, что не все с этим согласны), это вещи неразделимые. Он сам рассказывал, как данные, полученные в его ранних экспериментальных исследованиях ассоциаций, привели его к пониманию того, что центральным понятием в психологии должно быть понятие напряженной системы. Последние двадцать пять лет своей жизни он чувствовал себя обязанным предложить как теоретическую модель направлений и изменений сил в подобных системах, так и объяснение этих феноменов через их конкретные проявления. Фактически все его работы, говорил он, произросли из «определенных теоретических экспектаций»: «Они были задуманы для того, чтобы подтвердить или опровергнуть определенные утверждения»4. Левин был систематизатором, он искал проявления того или иного феномена на всех уровнях. Я не думаю, что стоит осуждать ту смелость, с которой он обратился к геометрическому формализму. Если его достоинства в конечном счете будут должным образом оценены, идеи Левина значительно приблизят нас к унификации психологической и математической наук. Если же этого не случится, его смелость вдохновит кого-то из гениев будущих времен. Мы помним, что Колумбу не удалось открыть материк под названием Америка. Но с этим справились его последователи. Даже обладая на современном этапе достаточно ограниченной перспективой, мы знаем, насколько глубже стало наше понимание этих вопросов с признанием экспериментально обоснованных оригинальных концепций Левина. Я уже упомянул об эффекте Зейгарник и об уровне притязаний. Мы можем дополнить этот список: временная перспектива, когнитивная структура, барьер, ригидность, насыщение, жизненное пространство, маргинальная аффилиация, групповое решение и еще немало других понятий. Большинство из них – его личное изобретение, и особенная его заслуга в том, что они стали стандартными инструментами психологических рассуждений.
3. Помимо интеллектуального одиночества и оригинальности, мы должны упомянуть и о негативном аспекте гениальности, который обычно упускается из виду при обсуждении этой проблемы. Анри Пуанкаре рассказывал о длительных периодах неразберихи в собственных мыслях, перемежавших вспышки его интуиции. Все, кто был знаком с Куртом Левином, научались уделять особое внимание его спонтанным монологам. Зачастую его речь казалась довольно бессвязной. Но редкий разговор обходился без того, чтобы слушатель не находил для себя хотя бы одну яркую и интересную идею, даже в том случае, когда рассуждения, которые он выслушивал, не были ни упорядоченными, ни последовательными. В своих работах Левин был более ясен, но даже в них сила его таланта проявлялась не в отточенных фразах или блестящих выводах, а скорее в целостном воздействии преподносимой им идеи. Возможно, определенные затруднения вызывал тот факт, что, будучи уже достаточно зрелым человеком, он был поставлен перед необходимостью овладевать новым языком – посредником между его идеями и чужой социальной средой. Но в целом ситуация, когда он жил в Германии, не сильно отличалась от того, что мы наблюдали в американский период. Рассказывают историю об одном американском студенте, проходившем стажировку в Берлине. Он спросил у своего немецкого коллеги, как перевести на английский слово Aufforderungscharakter, и тот ответил: «Боюсь, я не могу перевести его даже на немецкий».
4. Еще одна составляющая гениальности – усердная работа. Способность великих ученых и художников работать нечеловечески долго уже стала легендой. И тем не менее мы не можем подсчитать соотношение вдохновения и усердного труда, в совокупности обеспечивающих успешную карьеру. Левин производил впечатление исключительно энергичного человека. Глубокая обеспокоенность состоянием мира, особенно в последние годы жизни Левина, обусловила его активное участие в различных комитетах, правительственных исследовательских проектах, в общественной жизни; эти виды деятельности дополняли его обычную нагрузку, заключавшуюся в преподавании, написании работ, руководстве исследованиями и выполнении административных функций.
5. Из списка детерминант гениальности нельзя исключить и ситуационный фактор, сам Левин неоднократно упоминал о нем, когда речь заходила о его биографии. Две первые публикации Левина появились во время Первой мировой войны. Одна из них, подобно ранним исследованиям представителей гештальт-психологии, касалась вопросов перцепции, в частности таких специфических проблем, как камуфляж и военная картография. Другая работа предвосхищала возникший у него позже интерес к мотивации и свидетельствовала о глубоком неудовлетворении ассоцианистскими идеями Г. Эббингауза и Г. Е. Мюллера. Мир узнал его благодаря выдающейся серии из двадцати исследований, опубликованных в период с 1926 по 1930 год в Psychologische Forschung. Самым запомнившимся событием Международного конгресса по психологии, состоявшегося в Америке в 1929 году, была демонстрация простого, но поучительного фильма Левина о восемнадцатимесячном ребенке, сидящем на камне. На некоторых американских психологов этот фильм оказал особое влияние, побудив их пересмотреть собственные теории, касающиеся природы интеллекта и научения. Другие фильмы Левина, относящиеся к германскому периоду его деятельности, можно считать классическими произведениями того же порядка. В 20-е годы мы могли с уверенностью назвать его динамическим психологом, детским психологом, сторонником экспериментального подхода, но только не социальным психологом.
Трагические исторические события заставили его искать убежища в США. Эти события побудили его изменить сферу собственных интересов и обратиться к решению проблем социальных отношений. Незадолго до его смерти я спросил, когда его впервые заинтересовали психологические проблемы демократии. Он рассказал, что это было непосредственно вызвано его переездом в Америку. На первом этапе деятельности внимание Левина привлекали либеральные идеи, прогрессивное обучение, философия политики. Но ретроспективно он понял, что немецкий либерализм был отмечен абстрактными дискуссиями и непродуктивными попытками. И для него оказалось ярчайшим переживанием увидеть в Соединенных Штатах демократию в действии и осознать причины, по которым здесь она функционировала с большим успехом, чем в Германии. Он сказал мне: «На меня произвели огромное впечатление открытость, беззаботность, терпимость к ближнему, свойственные американскому образу жизни. Я убедился, что американские идеалы – это лучшие из идеалов, которые могут быть у человеческого общества. Теперь я гражданин Соединенных Штатов». Он поставил перед собой задачу понять условия, приводящие групповую дискуссию к полезному действию, и принципы, распределяющие ответственность так, чтобы каждый человек мог развиваться, оказывая влияние на собственную судьбу.
Первой публикацией американского периода его жизни стала блестящая работа, касавшаяся активно обсуждавшихся в то время этнических и национальных различий5. Вскоре после этого он приступил к осуществлению известных экспериментов в области авторитарной и демократической групповой атмосферы. Проблемы для исследования предлагала ему сама ситуация в мире. Америка предоставила ему возможность работать над решением этих проблем, вдохновляющее принятие и справедливую критику. И тем не менее фактор ситуации, каким бы благоприятным и детерминирующим он ни был, не имел бы никакого значения, если бы объектом его воздействия не являлась столь человечная, одаренная и увлеченная личность с кипучей энергией и жаждой открытий. Сама история его жизни, включая и страдания его друзей-евреев, была важным элементом ситуации. Поистине, поведение – это функция и окружения, и личности.
6. Наконец, еще одна отличительная черта гения – значимость одной или нескольких негедонистических ценностей. Мы привыкли причислять к гениям науки тех, кто посвятил себя поискам истины. Но последние непростые годы показали нам, что сама по себе истина как ценность недостаточна для выживания человечества. В социальной психологии, например, мало выяснить, почему люди, принадлежащие к определенным национальным группам, ведут себя именно так, а не иначе. Неожиданно нам пришлось осознать: мы должны понять, каким образом люди могут научиться вести себя лучше. Поскольку, если в ближайшем будущем им не удастся этого достичь, может не оказаться ни групп для изучения, ни самой науки. Курт Левин открыто говорил о том, какие именно ценности кажутся ему приоритетными. Для него лучшая жизнь – это всегда демократия, человечность, юмор и доброта. Мы почитаем его как искателя истины и гуманиста, всей душой преданного ценностям демократии, которую, как он заявил, он обнаружил именно здесь, в Америке, и вспоминаем его с особенным уважением и благодарностью.
The free sample has ended.