Москва парадная. Тайны и предания Запретного города
Text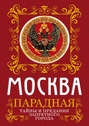


Go to audiobook
- Size: 1060 pp. 502 illustrations
- Genre: General history, Travel guides
Таинственный трезубец
По соседству с величественным Сенатом расположено таинственное здание, построенное в неоклассическом стиле и имеющее сложную конфигурацию в виде трезубца, направленного в сторону Сената, 14-й корпус Кремля. Его иногда называют «бывшим зданием Президиума Верховного Совета». Это первое в Кремле сооружение советского времени.
Здание было построено в 1932—1934 годах по проекту архитектора И.И. Рерберга на месте разрушенных в 1929 году древнейших московских монастырей – Чудова и Вознесенского, а также Малого Николаевского дворца, построенного Матвеем Казаковым при Екатерине Великой.
Именно в этом дворце Николай I встречался с Пушкиным после восстания декабристов, именно в нем родился Царь-Освободитель Александр П. После революции во дворце разместили пулеметные курсы, а спустя 10 лет разобрали.

Малый Николаевский дворец. Фото 1896 г.

14-й корпус Кремля. Долгие годы в нем проводились заседания палат Верховного Совета СССР. Сегодня в нем оборудован второй рабочий кабинет Президента РФ
Первоначально в 14-м корпусе размещалась 1-я Советская Объединенная военная школа РККА имени ВЦИК. В 1958 году внутренние помещения перестроены под Кремлевский театр на 1200 мест, однако через три года он был закрыт и до 1991 года в здании проводились заседания палат Верховного Совета СССР.
В настоящее время в корпусе размещаются некоторые подразделения Администрации Президента, в том числе пресс-служба, служба протокола, управление по внешней политике, Федеральной службы охраны и Комендатура Московского Кремля.
В нем находятся помощники и советники Президента, Секретарь Совета Безопасности, а также оборудован второй (резервный) рабочий кабинет Президента.
Интерьеры президентских кабинетов выдержаны в классическом стиле – на стенах бра, стилизованные под свечи, светлые стены и двери, ковры на полу. Есть при рабочих кабинетах и комнаты отдыха (с душем, телевизором, диваном), а в 1-м корпусе оборудовано еще и небольшое помещение для занятий спортом. Кстати, квартиры у президента в Кремле вопреки легендам нет: не предусмотрено. Только рабочие помещения, хоть и с комнатой отдыха.
Резиденций много не бывает
По версии Управделами Президента России, вне Кремля у В.В. Путина – три резиденции: «Ново-Огарево» в Подмосковье на Рублево-Успенском шоссе, «Бочаров Ручей» в Сочи и «Долгие Бороды» на Валдае. Кроме того, есть резиденции не только для отдыха президента, но и для проведения им массовых встреч и приема гостей: Константиновский дворец в Стрельне, иркутские «Ангарские хутора», «Майендорф» на Рублевке и т.п.
Знаменитой резиденцией, переходящей от Президента к Председателю правительства РФ, являются «Горки-9» на Рублевском шоссе. Кроме того, президент пользуется еще несколькими правительственными резиденциями. Часто упоминаемая в СМИ подмосковная госдача «Барвиха», «К-4» – Резиденция Президента РФ в Санкт-Петербурге на Каменном острове, резиденция «Русь», расположенная на территории охотхозяйства «Завидово», главное место охоты для всех Генеральных секретарей КПСС и президентов России.
Но на этом список резиденций Президента В.В. Путина не заканчивается. На балансе Управления делами Президента РФ официально находится еще несколько неофициальных резиденций. Это объекты для отдыха первых лиц государства, которыми может пользоваться премьер при необходимости, по желанию: «Ужин» на Валдае; «Тантал» на берегу Волги в 40 км от Саратова; «Сосны» на берегу Енисея недалеко от Красноярска; «Миловка» на Волге под Плесом, «Волжский утес» на берегу Куйбышевского водохранилища, правительственная дача «Шуйская Чупа» в Карелии, резиденция в курортном городе Пионерский, Калининградская область. А также: горнолыжный VIP-курорт «Лунная поляна» в республике Адыгея. Формально строительство здесь запрещено, так как это зона объекта всемирного природного наследия «Западный Кавказ». Горнолыжную резиденцию построили под видом полигона научного центра «Биосфера», который должен следить за сохранностью природного заповедника. На территории возведены четыре шале, три вертолетные площадки, антенны связи, ангар, гараж для них, строятся малая и большая канатные дороги.
Такой же заповедной территорией, только неофициальной, стали и окрестности «Алтайского подворья» – спецобъекта на Алтае, которая по документам принадлежит «Газпромнефти», но которую местные упорно называют «дачей Путина». Кроме гостевых номеров, президент-люкса, вертолетной площадки, в резиденции имеются мощная электроподстанция и непонятный подземный объект, который местные жители называют бункером на случай конца света.
Помимо отечественных, у Президента есть и зарубежные резиденции, например, «Домик высокого гостя» под Парижем. Французы, которые побывали внутри этого замка, называют дворец настоящим Версалем.
По словам западных аналитиков, по количеству резиденций В.В. Путин уступает только одному человеку в мире – диктатору Северной Кореи – Ким Чен Ыну. Для сравнения: в распоряжении канцлера Германии Ангелы Меркель, живущей в обычной городской квартире, – две резиденции правительства (в Берлине и Бонне) и личная дача, которую охраняет единственный полицейский. У американца Барака Обамы, кроме апартаментов в Белом доме, есть загородная резиденция в Кэмп-Дэвиде. У британского премьера – тоже две резиденции, у итальянского и французского президентов – по три.
Царство власти на Тверской
Мэрия Москвы
РЕЗИДЕНЦИЯ СТОЛИЧНЫХ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОВ
Тверская, 13.

Вот уже более двух столетий этот дом ассоциируется у московских жителей с городской властью. Здесь и сегодня размещается правительство Москвы
Чуть более 300 лет существует должность градоначальника Москвы, и более 200 лет люди, занимающие этот высокий пост, работают по одному и тому же адресу – Тверская, 13. В этом величественном особняке, ставшим символом Москвы, располагается официальная резиденция правительства Москвы. Именно в нем находится рабочий кабинет московского мэра.
Этот самый известный и знаменитый дом в Москве выстроил в 1782 —1784 гг. граф Захар Григорьевич Чернышев, московский главнокомандующий, назначенный на этот пост в 1782 году и простоявший у руля города два года. До Чернышева постоянной резиденции градоначальника в Москве не было, и генерал-губернаторы жили там, где придется: в своих собственных имениях, подмосковных усадьбах, в особняках, пожалованных свыше.

Первый хозяин дома – Захар Григорьевич Чернышев. Худ. А. Рослин
По положению губернской реформы 1775 года, генерал-губернатор (главнокомандующий) являлся главой городской и губернской администрации, а также и полиции. Он был первым человеком в городе, подчиняясь только государю императору. Желание прочно осесть в Белокаменной и высокий общественный статус подтолкнули З.Г. Чернышева к строительству нового роскошного особняка. Обладая большим состоянием, граф стремился построить дворец, равного которому не было в Москве, так как строил он дом не под официальную резиденцию, а для себя, первого человека в первопрестольной.
Неудивительно, что для строительства величественного дворца, достойного такого вельможи, был приглашен не кто-нибудь, а знаменитый архитектор Матвей Казаков.
Выбор места также не был случаен. С переносом столицы в Петербург Тверская превратилась в главную и самую престижную улицу первопрестольной. Именно здесь начиналась оживленная дорога в Северную Пальмиру. По Тверской проходили и коронационные шествия самодержцев, по ней прибывали многочисленные дипломатические миссии, иноземные государи. Вблизи резиденции располагались элитарные Дворянское собрание, Английский клуб. Рукой подать было и до канцелярии губернатора.
З.Г. Чернышев выбрал для строительства своей резиденции стиль, достойный Цезаря, – торжественный классицизм. Кирпичи для строительства дома были взяты из крепостной стены Белого города, незадолго перед тем разобранной по приказу Екатерины Великой. Здание отделали роскошно, учтя при этом главную его особенность. Дом одновременно был и офисным и жилым помещением, и главное – местом светских раутов и роскошных приемов. Посетители, войдя через главный вход, сразу же попадали на парадную лестницу, которая вела в анфиладу, состоявшую из Парадных сеней, Первой и Большой столовых, Танцевальной залы, «Китайской» гостиной, «Декомпании» (зал заседаний). Сквозной ряд комнат по восточному фасаду замыкался на личных апартаментах главнокомандующего.
Первоначально дом был выкрашен в желтый цвет, детали декора – в белый. За парадным особняком располагались «особливый домик с клюшничьей, молошней, скотной, птичником и коровником; конюшенный двор с амбаром, погребом, сараем для парадных карет, конюшней; третий двор – с кучерской, двумя прачечными, хлебной и квасной; на заднем дворе… двухэтажный флигель с девятью комнатами для прислуги». Как и задумывал генерал-губернатор, его городская резиденция стала одной из самых красивых и богатых в Москве.

Дом генерал-губернатора в Москве. Литография 1839 г.

Генерал-аншеф граф Григорий Петрович Чернышев
Хозяин нового дворца, Захар Чернышев был сыном генерал-аншефа Григория Петровича, любимца Петра I, пожаловавшего своего фаворита сенаторским званием и графским титулом. Его отец за отличия в войне со Швецией получил в награду от Петра два портрета царя, украшенные алмазами. Злые языки поговаривали, что Петр 1 хорошо знал не только отца, но и мать Захара Чернышева – Евдокию Ржевскую, о которой он говорил: «Авдотья – бой-баба» и его легендарную бабку, выступавшую в разгульных «всешутейших и всепьянейших» соборах царя-реформатора в роли «князь-игуменьи». По словам Вильбоа, Авдотья «беспорядочным поведением своим имела вредное влияние на здоровье Петра».
По Москве упорно ходили слухи, что Авдотья пятнадцатилетней девочкой была брошена на ложе царя, а в шестнадцать лет Петр выдал беременную любовницу замуж за своего денщика Григория, дав за нею в приданое 4000 душ. Поговаривали, что даже после венчания ее законный супруг не допускался к ее брачному ложу. Фискалы усердно следили за возлюбленной императора, но связей, порочащих ее, так и не усмотрели. Евдокия хранила верность императору, за что Григорий Чернышев получал подарки и чины, а каждому из восьмерых ее детей государь оказывал царскую милость, жаловал «на зубок» деньги и деревни.

Авдотья Ивановна Чернышева – мать первого хозяина дома – сенатора, Московского генерал-губернатора З.Г.Чернышева
Если верить скандальной хронике, она все же имела любовников и «отравила Петра Великого своими милостями», то есть заразила «нехорошей болезнью», за что Государь приказал супругу отколотить ее без всякой жалости, но при дворе оставил. Кстати, сама Авдотья после смерти Петра рожала детей и прожила еще двадцать лет, что ставит под сомнение наличие у нее такого страшного диагноза.

Император Петр I – предполагаемый отец Захара Чернышева
При восшествии на престол Анны Иоанновны Авдотья была назначена в число восьми статс-дам, и, по словам современников, пользовалась большим расположением новой императрицы за умение рассказывать анекдоты и новости. Таким образом, в глазах современников, новый московский правитель был сыном самого царя Петра, поэтому и возводил свое родовое гнездо с невиданной доселе роскошью.
Сын «бой-бабы», Захар Григорьевич Чернышев слыл богатым вельможей и блестящим полководцем, вошедшим в историю России как покоритель Пруссии. Именно он вручил Екатерине Великой ключи от взятого Берлина. В день коронации императрицы он был возведен в генерал-аншефы и удостоен высшего ордена Российской империи – ордена святого Андрея Первозванного. Кроме славы «покорителя Берлина» о Чернышеве сохранилась память как о твердом и бескорыстном русском вельможе, но в то же время строгом и требовательном. Поговаривали, что он был фаворитом молодой Екатерины и настоящим отцом ее сына Павла. Впрочем, те же злые языки называли отцом цесаревича и Льва Нарышкина, и Сергея Салтыкова, и других любовников цесаревны. Как бы то ни было, Екатерина II высоко ценила администраторские способности Захара Григорьевича и назначала его на высочайшие руководящие посты.
На посту главы Москвы граф Чернышев пробыл недолго (с 1731 по 1735 г.), но успел сделать немало: с его именем связывается и ремонт Китайгородской стены, и начало устройства московских бульваров. Он занимался ремонтом Арсенала и Каменного моста, строительством Сената в Кремле, Мытищинского водопровода, знаменитого Бутырского тюремного замка. Именно он создал в городе первое уличное освещение.
Но особенно граф прославился борьбой с московской грязью, желанием, чтобы его город чистотою напоминал европейские города. Чернышев уничтожил топи и болота на городских реках, приказал спустить большинство прудов при обывательских домах, сломал мельницу и запруду в устье Неглинной, благодаря чему Моховая, Воздвиженка и Никитская освободились от непролазной грязи.
После смерти Захара Чернышев, не оставившего наследников, его дом приобрела казна за огромную по тем временам сумму в 200 тысяч рублей. Именно тогда он пережил первую в своей жизни серьезную перестройку, произведенную с большим размахом под началом все того же Матвея Казакова. Теперь он стал представлять собой монументальное трехэтажное здание, центр которого был выделен рядом пилястр и увенчан фронтоном. С тех пор дворец на Тверской стал резиденций московских генерал-губернаторов.
Согласно легенде, много веков назад один из первых московских правителей проклял всех, кого государь назначит на это место. Когда люди великого князя тащили на плаху тогдашнего градоправителя и военачальника, получившего чин по наследству, тот отчаянно упирался и, прежде чем принять смерть от руки палача, успел выкрикнуть роковое проклятие. Это место пустовало в течение столетий – возродил его Петр Великий, «расписав» в 1709 году все города по губерниям. В Москве появилось новое высшее должностное лицо – генерал-губернатор. С тех пор Москвой управляли более семидесяти губернаторов, генерал-губернаторов, московских главнокомандующих, председателей исполкома, мэров. Расскажем о самых знаменитых, ярких и неординарных руководителях столицы.

Боярин Тихон Никитич Стрешнев – первый губернатор Москвы (1709—1711)
Портретную галерею московских губернаторов открывает боярин Тихон Никитич Стрешнев – один из ближайших родственников жены царя Михаила Федоровича, царицы Евдокии Лукьяновны. В чине думного дворянина был приставлен дядькой к царевичу Петру вскоре после его рождения. При венчании на царство Иоанна и Петра Алексеевичей в 1682 г. именно он вел царевича Петра за руку
С воцарением Петра I Т. Н. Стрешнев возглавил Разрядный приказ, в 1699 году активно участвовал в розыске и казнях стрельцов-бунтовщиков. Царь не раз называл своим преданного боярина доверенным лицом, «отцом» и «благодетелем», и, отправляясь в составе Великого посольства в 1697 г. в заграничное путешествие, вверил ему, вместе с князем Ромодановским, управление страной. В Московском пожаре 1698 года был в числе тех, кто эвакуировал святыни из Успенского собора Кремля. По словам историков, царь Петр I настолько почитал Тихона Стрешнева, что, обрезая бороды боярам, он пощадил любимого боярина за его «испытанную преданность».
Секретарь немецкого посольства Корб, находившийся в Москве в 1698—99 гг., свидетельствовал: «Стрешнев служит образцом ненарушимой верности, и слава его в этом отношении столь велика, что часто при публичных пиршествах, во время торжественных заздравных чаш, под именем Стрешнева разумеют всех верных царю: именем Тихона Никитича ознаменовывается память вернейших министров».
В 1709 году при разделении Российского государства на губернии Стрешнев был назначен московским губернатором. Через два года после назначения канцелярия губернатора заработала как часы, и боярин Стрешнев убыл с повышением в новую столицу – Санкт-Петербург и стал сенатором. По преданию, после его смерти царь лично шел в траурной процессии за гробом своего сподвижника до самого Александро-Невского монастыря, где он был торжественно погребен.
Следующим «управителем» Московской губернии стал Василий Семенович Ершов (1711—1712). По некоторым данным, он происходил из крепостных людей боярина князя М.А. Черкасского, выдвинувшись в качестве «прибыльщика» (так в начале XVIII столетия называли людей, предлагавших проекты увеличения государственных доходов).
В феврале 1711 года B.C. Ершов был назначен управителем Московской губернии, однако из-за своего «низкого» происхождения B.C. Ершов был переведен в вице-губернаторы при Михаиле Григорьевиче Ромодановском, который входил в круг ближайшего окружения царя Петра I. Он был членом Всепьянейшего собора и носил ироничное прозвище «Преосвященный Мишура». Именным Указом от 23 января 1712 года Ромодановский был назначен московским губернатором (1712—1713), принимал меры к восстановлению Москвы после страшного пожара, уничтожившего четверть города, мостил камнем улицы. По словам современников, он стремился единовластно управлять губернией и постоянно жаловался на притеснения и обиды, «чинимые господами сенатами», что вызывало крайнее неодобрения у государя.
После смерти М. Г. Ромодановского, с января 1713 года B.C. Ершов вновь в течение полугода возглавлял губернскую канцелярию. По словам историков-аналитиков, он предложил немало проектов к увеличению казны, пресечению побегов рекрутов, взиманию недоимок, прекращению лихоимства в государственных учреждениях. По свидетельству автора одного из подметных (анонимных) писем, находясь на высоких правительственных должностях, B.C. Ершов «учинил прибыли» более чем на 90 тысяч рублей.
Поговаривали, что за строптивость сенаторы нередко «наказывали Ершова бранью и окриками, грозили ему то правежом, то тюрьмой», а с новым губернатором Алексеем Петровичем Салтыковым (1713 —1716), ставленником Сената, он имел постоянные разногласия. В 1715 году B.C. Ершов публично уличил московского губернатора в казнокрадстве и лихоимстве. Петр 1 поверил доносу, Салтыков был отстранен от должности, а его оппонент остался вице-губернатором при новом губернаторе – К.А. Нарышкине (1716—1719). Кстати, вскоре в ходе следствия Салтыков был оправдан и уже в 1718 г. участвовал в суде над сыном Петра I – царевичем Алексеем.
В период правления К.А.Нарышкина в Москве были построены новые кирпичные заводы, парусная фабрика на Клязьме, суконовальная мельница на Москве-реке, для функционирования которой была специально восстановлена плотина у Всесвятского моста. Город превратился в крупнейший промышленный центр империи. Казалось, нового губернатора ждут слава и почести, но жизнь рассудила иначе. Из-за разногласий с Сенатом Нарышкин попал под следствие, однако еще некоторое время исполнял губернаторские обязанности.
Легенды и мифы
По прихоти судьбы, царство власти на Тверской неразрывно связано с фамилиями самых знаменитых родов России: Нарышкиных, Ромодановских, Долгоруковых и Салтыковых. И этому, по мнению народа, есть поистине мистическое объяснение.
Когда десятилетнего Петра I провозгласили царем, в городе вспыхнул стрелецкий мятеж: стрельцы ворвались в Кремль и подняли на копья неугодных князей и бояр. Афанасия Нарышкина зарубили прямо в алтаре Воскресенской церкви. Судью Посольского приказа Иванова с сыном и двух полковников убили у Столовой палаты. Боярина и воеводу князя Григория Ромодановского за волосы и бороду вытащили на Соборную площадь и подняли на пики. Затем изрубили боярина Салтыкова.
Опьяненные кровью стрельцы искали «преступников» повсюду, даже в доме у святейшего патриарха и воеводы Юрия Долгорукого. Напившись вина из княжеского подвала, стрельцы убили сына воеводы, а его самого выбросили из окна на бердыши. Его мертвое тело затем было выволочено на улицу к воротам на кучу навоза, а сверх него с приговорами «Ешь, князь, вкусно!» положили соленой рыбы. На следующее утро тело было найдено изрубленным на части.
По преданию, через несколько месяцев после бунта придворный иноземный лекарь предсказал молодому царю Петру 1, что потомки убитых будут править Москвой в нескольких поколениях. В течение следующих двух веков они и в самом деле становились московскими генерал-губернаторами. Так, потомки Долгоруковых трижды занимали заветную должность, а Салтыковы – пять раз.
Власть, особенно власть в Москве и России, всегда притягивает и отталкивает одновременно. На больших начальников надеются, о них сплетничают, они становятся персонажами легенд, и, как ни странно, о них довольно скоро забывают. Однако очень часто в судьбах людей гораздо больше правды о стране, городе и эпохе, нежели в пространных рассуждениях и кропотливых исследованиях. К наиболее ярким и необычным из них судьба оказывалась наименее благосклонна.
В 1727 году градоначальником Москвы стал князь Иван Федорович Ромодановский, сын начальника Преображенского приказа князя Ф.Ю. Ромодановского, ведавшего всеми делами по политическому сыску. После смерти своего знаменитого отца к нему перешли управление Преображенским приказом и титул князя-кесаря. Петр I относился к И.Ф. Ромодановскому с большим доверием, так как он фактически исполнял роль «государева ока» в первопрестольной. Любопытно, что, став хозяином древней столицы, он стал именоваться главным начальником Москвы. По словам очевидцев, почти без образования, князь Иван Ромодановский отличался здравым умом, честностью и прямотою, за что и был любим Петром, тем более, что, любя старинные русские обычаи и оставаясь верным заветам старины, князь не был противником вводимых царем новшеств.
Следующим хозяином Москвы стал граф Андрей Артамонович Матвеев (1724—1725), один из видных сподвижников Петра Великого, яркий представитель русских «западников». В отличие от своего предшественника, он получил тщательное воспитание, знал иностранные языки и даже говорил по-латыни. Иноземцы с большим уважением отзывались о его образованности. К примеру, француз де ла Невилль, называющий Матвеева «мой друг Артамонович», пишет: «Этот молодой господин очень умен, любит читать, хорошо говорит на латыни, очень любит новости о событиях в Европе и имеет особую склонность к иностранцам». Став в 1724 году президентом Московской сенатской конторы, граф около года с честью руководил вверенным ему городом. В последние годы жизни Матвеев составил описание Стрелецкого бунта 1682 года, котором был убит его отец – видный боярин Артамон Матвеев, и он сам едва не поплатился жизнью.
Московский генерал-губернатор Григорий Петрович Чернышев (1731—1735) заметно изменил облик города. При нем в Москве появилось постоянное уличное освещение – он поручил установить на столбах светильники. При этом деньги на них отпускала казна, а зажечь лампы и содержать их вменялось в обязанности жителей близлежащих домов.
Меньше года (с марта и по ноябрь 1740 г.), управлял Москвой герцог Карл Карлович Бирон старший брат легендарного Эрнеста-Иоганна Бирона. Карл еще в ранней молодости поступил на русскую службу, но вскоре попал в плен к шведам. Карл бежал из плена и, вступив в польскую армию, дослужился до подполковника. В год избрания императрицы Анны Иоанновны Карл Бирон был призван братом в Россию, вскоре был удостоен чина генерал-аншефа и должности военного коменданта Москвы. Однако ненадолго, так как из-за постоянных драк в пьяном виде Карл Бирон получил так много ран и увечий, что стал инвалидом. Храбрый и отважный в боях, он вместе с тем заслужил справедливые упреки за жестокость и надменность от современников, видевших в нем «гордого азиатского султана» со всеми его «варварскими странностями». По протекции брата-герцога Карл Карлович был определен генерал-губернатором в Москву, но и здесь его пребывание было непродолжительно: вскоре он был схвачен, отправлен под караулом в Рижскую цитадель и отправлен в ссылку.
Следующим губернатором Москвы стал Александр Романович Брюс (1740—1741), племянник «русского Фауста» Якова Вилимовича Брюса и крестник Александра Даниловича Меншикова, в честь которого и был назван. А.Р. Брюс прославился тем, что в 1745 году женился вторым браком на княжне Екатерине Долгоруковой, на возвращенной из ссылки бывшей обрученной невесте императора Петра П.
В 1751 году генерал-губернатором Москвы был назначен князь Никита Юрьевич Трубецкой. Он получил блестящее образование, учился за границей, «в немецких землях», был умен, деятелен и начитан. Дружил с русским поэтом и дипломатом А.Д. Кантемиром и, по отзыву последнего, «сам не худые стихи составлял». Кантемир называл его «истинным и древним другом» и посвятил ему свою седьмую сатиру.
Взлет карьеры молодого князя начался в 1730 году, когда он решительно поддержал императрицу Анну Иоанновну в ее борьбе с «верховниками», пытавшимися ограничить самодержавную власть. В 30 лет он получил чин генерал-майора и занял должность генерал-кригс-комиссара. В конце царствования Анны Иоанновны Трубецкой был назначен губернатором в Сибирь, но сумел уклониться от этой должности. Вместо этого в 1740 стал генерал-прокурором и председателем Правительствующего сената. Он не только руководил прокурорской системой Российской империи, но и выполнял особые «деликатные» поручения.
С 7 апреля 1751 года Никита Юрьевич занимал пост генерал-губернатора Москвы, но уже в марте 1753 года его оставил. По словам современников, он радел за государственные дела и при необходимости смело опротестовывал решения сената. От подчиненных он требовал, чтобы они решения «чинили по указам» и «безволокитно», а на все нарушения и отступления от закона делали вначале устный, а если не «возымеет действие», то и письменный протест. В царствование Петра III князь попал в число «возлюбленных придворных персон» и удостоился исключительной чести стать полковником лейб-гвардии Преображенского полка.

Князь Никита Юрьевич Трубецкой – друг поэта и дипломата А.Д. Кантемира
Князь Трубецкой был свидетелем восьми царствований, но благодаря ловкости и лести благополучно пережил все дворцовые перевороты, чем заслужил среди современников репутацию беспринципного оппортуниста. Несмотря на всю свою просвещенность, Трубецкой был в полном смысле слова куртизаном, т.е. человеком, для которого целью жизни являлся «дворский фавор», власть и богатство. Он не гнушался самым низким и лицемерным подлаживанием под вкусы монархов. Так, для забавы Петра I князь ревел на пирах теленком, с богомольной императрицей Елизаветой Петровной рыдал во время церковных церемоний; при воинственном Петре III он, несмотря на старость и болезни, принял вид образцового прусского «фрунтовика»: «затянутый в полный мундир, перевязанный галунами, подобно барабану, хорошенько поднимал ножки и месил грязь» во главе своего полка. Неожиданное преображение дряхлого елизаветинского сановника подметила Екатерина Дашкова:
«Трудно было не улыбнуться, когда я увидела князя Трубецкого, старика, по крайней мере семидесяти лет, вдруг принявшего воинственный вид и в первый раз в жизни затянутого в полный мундир, перевязанного галунами подобно барабану, обутого в ботфорты со шпорами, как будто он готовился сейчас вступить в отчаянный бой. Этот несчастный придворный адепт, подобно уличным бродягам, притворялся хилым, убогим, теперь же ради какого-то личного расчета прикинулся страдающим подагрой, с толстыми, заплывшими ногами. Но едва объявили, что идет император, он шариком вскочил с кушетки, вооруженный с ног до головы, и немедленно встал в ряд измайловцев, к которым он был назначен лейтенант-полковником и наскучил всем своими приказаниями. Это страшное привидение было некогда храбрым воином – обломком петровской эпохи!
Несмотря на то, что Никита Юрьевич Трубецкой, занимал пост главы Московской губернии всего 2 года, он оставил городу знаменитую усадьбу Нескучное. До наших дней от богатого парка с «птичьим домом», домиками ординарцев и караульнями сохранился только Охотничий домик, известный всем как место проведения телевизионной игры «Что? Где? Когда?»

Охотничий домик усадьбы Н. Ю.Трубецкого в Нескучном саду
Никита Юрьевич был женат дважды и прижил в обоих браках 14 детей. Первой его женой была дочь петровского канцлера Анастасия Гавриловна Головкина. По словам современников, княгиня была весьма «приятна и недурна собою», любила румяниться до того, что «лицо ее блестело, как ни у одной из петербургских дам». Князь Щербатов в своем памфлете рассказывает, что временщик Иван Долгорукий положил на кокетливую княгиню взоры и муж «с терпением стыд свой сносил». После кончины первой жены князь Никита женился на матери стихотворца М. М. Хераскова – Анне Даниловне Херасковой, и не прогадал: в эту женщину был влюблен фельдмаршал Миних, который стал тянуть вверх и ее мужа, закрывая глаза на его упущения по службе.
После воцарения Екатерины II, императрица понизила Трубецкого до чина подполковника гвардии, поскольку сама хотела быть полковником гвардейских полков. Через полгода после коронации, на которой князь был верховным маршалом, Трубецкой подал прошение об отставке, которая была благосклонно принята. Екатерина II назначила ему полное фельдмаршальское жалованье, пожаловала 50 тыс. руб. и приказала «давать ему в резиденциях пристойный караул другим не в образец».
Генерал-фельдмаршал Александр Борисович Бутурлин был московским градоначальником трижды (с 1740 по 1741, с 1742 – по 1744 и с 1762 по 1763 годы). С восшествием на престол Петра III известный полководец был отозван из Пруссии, где он был главнокомандующим русской армией, и назначен генерал-губернатором в Москву. Екатерина II пожаловала ему грамоту с описанием в ней всей его службы и наград, а также шпагу, осыпанную бриллиантами.

Генерал-фельдмаршал граф Александр Борисович Бутурлин был московским градоначальником трижды
Современники считали его красивым и образованным вельможей, который мог бы быть, скорее ловким придворным, чем полководцем. Сохранился характерный анекдот, что великий князь Павел Петрович, тогда 6-летний ребенок, сказал окружавшим его про Бутурлина, когда последний явился во дворец, перед отъездом в армию, откланяться государыне: «Петр Семенович (то есть Салтыков) поехал мир делать, и мира не сделал, – а этот теперь, конечно, ни мира, ни войны не сделает».
Во время коронации Екатерины II граф А.Б. Бутурлин устроил в Москве пышные торжества и выстроил несколько триумфальных ворот. Во время пребывания в первопрестольной императрица подписала Указ «О содержании в Москве дорог в исправности и чистоте», который, похоже, начинает исполняться только в наши дни.
В древней столице граф Бутурлин опасно занемог. Императрица, узнав о болезни его, выслала к нему искуснейших лейб-медиков; но усилия их остались бесполезными. Чувствуя приближение своей кончины, граф простился с супругою и детьми, благословил последних святыми иконами и завещал им, чтобы они, по примеру его, непоколебимо сохраняли благочестие и верность престолу.
