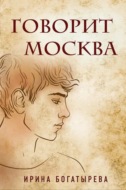Read the book: «Белая Согра»
Настоящая словесная живопись, втягивающая в северный сельский пейзаж, который вдруг раздвигается над нами, как собор из сосен и облаков. Двойное зрение – главная интрига романа, в котором не верь глазам своим. Мы вступаем в мир, где опрокинуты границы женского и мужского, предметного и незримого, колдовского и обиходного, злокозненного и целительного. И именно в таком мире у нас есть шанс принять себя и свою жизнь во всей полноте.
Валерия Пустовая
В романе «Белая Согра» Ирина Богатырёва вводит читателя в непонятный, богатый и очень живой мир, в котором нужно разбираться, в который нужно вслушиваться и вчувствоваться. Иногда для этого начинаешь читать «Белую Согру» себе вслух, чтобы насладиться голосами, звучащими в ней. Этот «затерянный мир» в отличие от конан-дойлевского реален и доступен каждому, но исчезает на наших глазах.
Илья Кочергин
Этот роман о становлении личности девочки-тинейджера, о социально-психологических аспектах гендерной самоидентификации. Сюжет романа – преодоление духовной самоизоляции, обретение необходимого другого не в фантазиях, а в реальном общении с людьми, в соприкосновении с природой. Динамичное, захватывающее повествование. Читатель ждет: что будет дальше со странной девочкой Жу? И с какого-то момента начинает по-новому размышлять на вечную тему: а что будет со мной, что будет со всеми?
Ольга Новикова, журнал «Новый мир»
Часть 1
Брат
Лес, всё лес.
Но кровь возвращается в голову, и надо проснуться.
Хотя не хочется. Ужасно не хочется. Вдруг откроешь глаза – а вокруг по-прежнему он: лес. Пока не открываешь, можно думать, что его нет. Просто холодно. Просто сыро. Но не лес. А откроешь – и от него уже не уйти. Из него не выйти.
А говорили: если заблудитесь, не мельтешите. Сидите на месте, берегите силы. Вас найдут, говорили. А будете бегать – это сложнее.
Беречь уже нечего, Жу поэтому и сидит. Спички были бы или зажигалка, огонь сделать. Согреться, дать о себе знать. Но Жу не курит – откуда же спички, откуда зажигалка? Выйдет – если выйдет – набьёт ими все карманы: одежды, рюкзака, всего. И будет говорить каждому: носите с собой спички, носите зажигалку, не курите – всё равно носите.
Потому что кругом лес, и только так вас найдут.
А всё-таки интересно, был он вчера или нет? Тот дед. Может, не вчера, но был ли. Такой настоящий. И пахло от него табаком. Высокий только больно и тощий. Или показалось? Одет странно. Впрочем, как ещё он мог быть одет? Сапоги, телогрейка. Может, рабочий? Дорогу строят где-то, а он – за ягодами. Дал горсть клюквы. Сушёной. Вкус до сих пор во рту. Дал ягод и сказал: «Сиди тут». Нет, он сказал не так, но неважно, главное: сиди тут. Жу и сидит. Воду пьёт из болота. Вот оно, болото. Тут. Или там. Неважно. Главное: сиди и не бегай, тебя найдут. Дед сказал. Нет, не сказал – промычал. Глухонемой? Неважно. Вообще всё неважно.
Лес, всё лес. Белый мох стелется по корням сосен. Они вырастают из него – чёрные, прямые. Белое и чёрное. И воздух белёсый. День сейчас или ночь? Кто скажет в этом краю. В голове мешается, и не понять – это день или ночь, это туман или сумерки. Это мох белый, или иней, или роса на траве.
А красиво. Хоть и странно, что можно ещё об этом думать. Можно это замечать. Белое, искристое. Клубится, стелется. Только холодно. Только сыро.
И тут что-то шевелится рядом. А потом рычит.
Любопытство зажглось в мозгу не сразу. Сначала кровь вернулась в голову – значит, опять был сон. И это белёсое перед глазами снится, держится картинкой на сетчатке глаз. А откроешь – картинка та же. То же белое. Тот же лес.
И ещё сапоги.
И рычит.
Повернуть голову не удаётся. Пошевелиться – больно. Как же, оказывается, затекли ноги! Заныло, потянуло, повело тело – и выпросталось из-под куртки. Завалилось на бок и развернулось, как ёж в воде. Перевернулось навзничь. Запрокинулась голова.
Дед. Тот же самый. Стоит и глядит злобно. И рычит.
– Ы! Ы-ы!
Жу пробует шевельнуться – не получается. Хоть бы помог, а то только стоит.
– Ыды!
Вдруг у него в руках – какой-то куст, разлапистая травина, падает на лицо, но прежде, чем ухнула на глаза, Жу успевает закрыться ладонями.
Их обожгло, будто крапивой.
– Ыды!
Жу скребёт ногами, пытается перевернуться. Ползёт на боку, на животе. Отворачивается, чтоб не попасть снова под жгучую травину.
– Ыды! Ы-ды! – Она падает на плечи, на спину, задевает по шее – прижигает кожу.
Кричать сил нет, но подняться на четвереньки – появились. Жу ползёт, как зверь, всё вырастая и вырастая, цепляясь за стволы, за сосны, – кровь побежала, ноги держат.
Наконец, встает.
Дед сзади. Высокий, худой. Из бороды – оскал, блестит глазищами. Кожа тёмная, морщины – как кора.
– Ы-ы! Ы-ы!
Да иду я. Иду.
И правда – идёт. А он сзади, неотступно. В руках – травина. Ладони до сих пор жжёт, а ему хоть бы хны. Только помахивает. Скотина я тебе, что ли? Корова?
– Ы-ы!
Куда хоть? Туда? Или туда? Сам-то знаешь?
Но он как будто не думает. Не замечает дорогу. Просто гонит вперёд. В глазах – остервенение. Разве так находят в лесу заблудших?
Страх не проснулся. Для страха нет сил. Только на то, чтобы двигаться. Сзади – шаги, впереди – лес. Ыды!
И ничего не расступилось. Никакого не появилось просвета. Наоборот: сосны как будто гуще, через заросли кустов приходится продираться – сначала Жу, потом дед со своей травиной. Жу ложится всем телом на ветки. Дед идёт, будто ничего нет вокруг.
Но наконец лес зажмурился, напрягся – и с шумом выплюнул Жу.
И сразу всё стало видно – вон холм, под которым Овечий ручей, вон магазин, перекрёсток, речка. Церковь.
А за тем поворотом – желтеет крыша дома бабы Манефы.
И больше уже не лес вокруг. Не лес.
Шапка-невидимка
«Всё это нормально для нашего возраста. Важно не то, что ты чувствуешь, а то, что делаешь, чтобы из этого стояния выйти».
Сообщение не отправлено.
Сети нет. Ну, и интернета, соответственно. Долго держался, но как свернули с асфальта, да запрыгали по колдобинам, да потемнело в машине от обступившего леса, – тут-то он и пропал. Не выдержал.
Pavel будет в недоумении. Будет уверен, что это от его нытья Ju покинул переписку. Покинул сеть. Да и вообще всё покинул. Сколько они ещё не объявятся в сети? Даже представить страшно.
– Не ловит? А тут никогда не ловит, – услужливо говорит водитель. Он уже давно посматривал на манипуляции Жу с телефоном. – У них тут вышка не добивает. За горкой живут, дак. Есть одна точка, на лысине, там вот ловит. Если ветер попутный. Туда и ходят все. Иной день едешь – вереницей топают бабки, как раньше на телеграф. А так-то и сотовые не у всех есть. Им зачем? У них дома телефоны, ещё при советской власти устанавливали. А че, не глухой угол, какая-никакая цивилизация.
Вот так отец им сюда и звонил – по телефону. Обычному. Домашнему. «Цивилизация!» – брат фыркает. Отворачивается. Пялится в окно.
Водитель что-то продолжает бубнить, Жу не слушает. Водитель любит поговорить. Раньше спасал телефон, но теперь ничего не закрывает от этой навязчивости. Взгляд блуждает по салону, по бордовой обивке. Старый «Жигуль», внутри всё в засаленном бархате, бордовая бахрома болтается с потолка по всему периметру. Как в гробу, думает Жу. Головастая собака на панели под лобовым стеклом неистово качает башкой, соглашаясь со всем, о чём ни подумаешь.
– Тут лесопункты всё, лесопункты кругом, люди такие, знаешь… Всякие.
Жу кивает, типа знает, хотя не знает ничего, – а взгляд падает за окно.
Там лес.
Сплошной лес.
Частоколом вырастают сосны. Белый мох стелется по корням. Лес беспросветный, какой-то, жуткий. Как трёп водителя.
«Уезжаю в ссылку. Отец сослал», – это было последнее, что написали они с братом закадычному другу. Нет, не Паше, его читали по диагонали, он только ныть умеет о том, как ему тяжело живётся. Настоящему другу, чьи сообщения всегда ждут с трепетом – и кто писал всё реже и реже. Можно сказать, практически уже не писал.
Нет, неправда: брату он писать продолжал. Только брату до него пофигу. А вот Жу – нет. Может, поэтому он Жу больше и не пишет. Конечно, зачем писать непонятно кому, кто фоток своих не постит, ничего о себе не рассказывает и только жалуется на жизнь. Как Паша.
Жу закрывает глаза.
– Ещё поселения раньше были. Всяких селили, и политических, и разных. Поляки там, немцы. Я не застал, врать не буду. Я сам вообще не тутошний, с Вологды, но бабка у меня с этих краёв, вон там жила, деревня была, Холмы, её нету уже, деревни. Так меня к ней, бывало, на всё лето – шу! – и ссылали.
Водитель смеётся. Жу открывает глаза, смотрит на него – так легче, с закрытыми аж гудит в голове от его голоса.
– Тебя-то сюда как занесло? – Водитель чувствует взгляд, оборачивается. – Тоже того – к бабушке, отъедаться? – Подмигивает Жу.
– Как пойдёт, – отвечает Жу неопределённо.
– Куда пойдёт-то? – парирует водитель и смеётся. – Тут ходить некуда. Ехать – это да, но это по моей части. Ты, вот что. – Он вдруг опускает козырёк, ищет что-то за обивкой. – Будешь жить тута, особо не того, на дорогу не суйся, мало ли народу всякого. На-ко вот, – достает свою визитку и протягивает Жу. – Номер возьми, звони, если что. А то был у нас тут один случай. Давно уже, но всё-таки. Ездил, знаешь, расконвоированный, с зоны. Машина у него такая была, ассенизатор. Ну, это самое возил, короче. И что? Девок молодых, кто на дороге стоит, подбирал, короче, и того. Всякое. А потом убивал. И в лесу где подзакапывал. Много их пропало, что ты! И молоденьких самых девчонок, школьниц. А что, автобусов нет, а ехать как-то надо. Вот они на дорогу выйдут, на остановке встанут. А он такой был, видать, втирался в доверие, уж я не знаю. И всё.
– И что?
– И всё. Не, его поймали потом, ты не думай. Но всё равно. Приятного мало, согласись.
Жу без охоты соглашается.
Брат вдруг пихает в бок и кивает в окно – там, в глубине леса, меж стволами, как меж колоннами, мелькают оградки, памятники, кресты, яркие цветы, так что и издали ясно – они неживые.
Кладбище. В сердце похолодело.
– А, это здешнее буево, – говорит водитель, проследив взгляд Жу. – Не знаешь такого? Ну, погост, буево. У нас много всяких словечек интересных, наслушаешься ещё, – усмехается. И тут же продолжает совершенно серьёзно: – Тут, говорят, могила одна есть – ведьмы. На ней фотография такая, как с помехами. Ходишь иной раз, смотришь. Все нормальные, нормальные, а потом бац – она. Как будто через рябь. Видно, и с того света колдует, короче!
Яркие пятна цветов помаячили, помаячили – и опрокинулись назад в общий зелёно-белёсый фон.
– А вот и оно, Согрино твоё. Приехали, – говорит водитель, и лес расступается как бы нехотя, дорога ухает вниз, и машина вместе с ней, так что подкатывает к горлу, но уже выезжают на улицу, домики с обеих сторон, а наперерез – мягкий изгиб тёмной воды.
Река нырнула под мост – и течёт с другой стороны, охватывает деревню полукругом. Рядом с мостом – купол, каменная церковь, колокольня тянется наверх, выше всех крыш. Старая, сразу видно. И тяжёлое небо над всем. Тёмное, мрачное. Только не свинцовым одеялом, как в городе, а настоящей громадой, небесной архитектурой – тучи нависают и над рекой, и над церковью, и над улочками села, тугие, сизые, а сверху над ними высятся более светлые, но не менее объёмные, дутые. И что-то там ещё кипит, бурлит, перетекает одно в другое, так что кажется, сверху больше движения, чем внизу.
Проще говоря, внизу вообще никакого движения. Машина одна летит по улице, подпрыгивая на колдобинах, и не видно ни человека, ни собаки. Пустая деревня, закрытые калитки, запертые ворота. Ни курицы какой. Ни кошки. Ни души.
Когда дорога заложила крюк, огибая совсем уж заросшую халупу – мелькнул в зарослях крапивы и борщевика обглоданный временем остов дома с просевшей крышей, – из-за поворота на полной скорости вылетает огромный, ярко-рыжий лесовоз и несётся на холм, оставляя после себя шлейф пыли.
– Ядрёны пассатижи! – Водитель выворачивает руль вправо, машина виляет, Жу падает. Телефон с грохотом летит из рук. – Лесопунктовские, так бы их об колено! – орёт водитель. – Отморозки!
Жу шарит руками по полу. Телефон хоть и бесполезный, но свой.
– Улетел? – спрашивает водитель. – Под коврик смотри.
Жу приподнимает коврик – и правда, там. Достав, по привычке освещает экран – связи нет, как не было. Остальное вроде нормально.
Хотя что может быть нормально без связи?
И тут водила жмёт тормоз.
– Всё, приехали.
– Куда? – Жу поднимает глаза от телефона. За окном – непонятно что. То есть нет, понятно, конечно: вон крыша, вон старая покосившаяся калитка. Дом, а перед ним всё заросло – кусты, деревья.
И мрачное тяжёлое небо. Того и гляди – дождь.
– Вы уверены, что это здесь?
– Тут, тут. Карелины твои. Старуха она, правда, совсем. Так что ты давай, держись. Они же тут, знаешь, все малость того.
Чего того, не уточняет. Жу пожимает плечами. Про них с братом тоже считается, что того. Но брат делает большие глаза: спроси! Жу отмахивается – да ладно. Спроси! – кивает брат. Жу лезет в рюкзак, достаёт деньги.
– А чего – того? – спрашивает как бы невзначай, пока водитель считает купюры.
– Да разное говорят. Что знают они тут. Ну, всякое.
Понятней не стало. Жу кивает. Брат пожимает плечами. Жу давит на ручку двери, но вылезать не хочется. Дом за окном выглядит нежилым и мрачным. Разве что чуть менее мрачным, чем тучи сверху. Но делать нечего – Жу вылезает и будто ныряет в холодный ветер. Сразу хочется залезть обратно в тёплый уютный салон автомобиля. Пусть и с трешовой бахромой от старых гардин. Как в гробу.
Брат кивает на рюкзак, и Жу достаёт оттуда красную вязаную шапочку. Как же правильно было взять её с собой! Натягивает на самые уши, нашивкой – на лоб. Сразу становится легче, а главное, тревога в груди сдувается.
– Шапка зачётная. – Водитель высовывается из машины, показывая большой палец.
– Отцовская.
И ничего, что они стянули её без спросу. Отцу она всё равно до зимы не понадобится, лыжная-то шапка. А здесь – в самый раз.
– Ладно, поехал. Ты это, звони, если что, – говорит водитель, хлопает дверцей и уезжает.
Жу смотрит на дом, на кривое крыльцо, которое выглядывает из бурьяна.
– Пошли, что ли? – спрашивает брат.
– Пошли, – кивает Жу, поворачивает шапку нашивкой на затылок и идёт к дому.
Дом кривой, дверь повело, порог просел. Дерево старое.
Нет, здесь никто не живёт. Не может жить. С наличников облупилась краска. За маленькими стёклами окон пылятся разлапистые цветы, тоже как будто давно неживые.
– И долго ты так собираешься торчать? – спрашивает брат. – Или на улице жить будем?
Этот дом заколдованный. Я войду туда и попаду в другой мир.
Жу закрывает глаза. Открывает глаза. Смотрит на дом. Дом на Жу не смотрит. Брат смело топает к двери. Вот пусть и идёт туда один. Но Жу знает, что брат один не войдёт. Только вместе, везде и всегда вместе. Жу вздыхает и толкает дверь.
Пахнет сыростью и гниющим деревом. И ещё чем-то, Жу не знает таких слов. И очень темно. Жу делает шаг и спотыкается обо что-то – ступенька.
– Здравствуйте! Можно войти? – кричит, выставляя перед собой вслепую руку, дабы не нарваться ненароком на стену.
– Она глухая, тебе же сказали, – ворчит брат.
– И что теперь?
– Заходи и всё. Тебе же сказали: просто входи.
Осталось понять куда.
Жу шоркает ногами, отыскивая ступени, машет руками, ощупывая пространство. Ступенек оказывается всего две, а под рукой возникает дверь. Мягкая, обитая дерматином. Жу давит, и дверь поддаётся.
Яркий свет режет глаза.
– Здравствуйте! – кричит Жу, когда свет выхватывает очертания комнаты, стола в центре, кровати у стены. У двери – печь. Жу не сразу понимает, что это, только когда чувствует тепло, оборачивается и осознаёт: да, это не громоздкий шкаф, а печь, белый, шершавый бок.
От неё жарко. Жу стягивает с головы шапку.
И тут же слышит голос:
– Лен, ты?
На кровати шевелятся – проявляется из вороха тряпок белое сморщенное личико. Белые тонкие пальцы поправляют платок. Крючковатый нос, впалые глаза. Тёмные, почти ничего не видят. Баба-яга как она есть. Фу-фу-фу, русским духом – и всё такое. Даже брат обалдевает, видя это.
– Кто здесь? – пугается старуха.
– Здравствуйте! – орёт Жу как можно дружелюбнее. – Я Женя! Женя Мер… – хочет представиться полностью, но бабка перебивает:
– Женя? Какой ещё Женя?
– Женя… – но договорить она не даёт:
– Васькин, что ли?
– Да нет! Я…
– А, Светы Трофимовой?
– Нет! Я из города! Меня Марина…
– Из города? Какого города? – произносит она, сильно окая.
– Вам должны были звонить! Что я приеду! Марина…
– Кто звонить? У меня и телефона-то нету. Я всё прошу, поцините, уж сколько времени, да никак, – говорит она. – После грозы, от как гроза была – оборвало и усё. И сколько просила: «Поцините!» Не у меня же одной. А, так это, можот, ремонт, а? – вдруг ахает старуха с надеждой и сползает с кровати, делает шаг к Жу, заглядывает в глаза.
– У, – брат качает головой. Жу чувствует, что тревога снова вспухает в груди. Стоять рядом со старухой жутко, её глазки буравят неприятно. Хоть и слепые почти, а всё равно – жутковатые глазки.
– Я не из ремонта! Я из города! Меня прислали, вам должны были сказать! – продолжает орать Жу, хоть старуха стоит теперь вплотную.
– Можот, Ленке сказали, а? Ленке!
Жу пожимает плечами. Почему Ленке, какой ещё Ленке? В голове мешается, и тревога растёт, а Жу боится собственной тревоги – если она вырастет, если лопнет, будет плохо, случится припадок, а это очень, очень нехорошо. Жу боится своих припадков.
Смотрит на брата – нет, не так, хватается за него глазами, требуя помощи, требуя поддержки. Брат пожимает плечами. Он тоже обескуражен, но подмигивает: не дрейфь, всё будет путём! Жу старается улыбнуться.
– А цего надо-ть? Цего приехал? – спрашивает старуха. Жу только сейчас замечает, что она не только окает, но ещё и цекает – ч произносит как ц, и это очень чудно́ звучит.
– Да как чего? Жить. – Жу понимает, что это звучит нелепо, но не знает, что ещё сказать. Зачем их отправили сюда, выслали, сослали. Зачем они здесь.
– А? Цего? Громче, я глуха, милой!
– Жить! – орёт Жу так, что в дверцах буфета звенит стекло, а брат морщится и закрывает уши.
И как будто этим криком от окна сдувает чьё-то лицо (только тут Жу соображает, что оно там было) – и кто-то гремит по ступенькам за дверью, а потом она распахивается, и на пороге появляется тётка в тёплой шерстяной кофте.
Жу инстинктивно вытягивается от испуга.
– Встать! Суд идёт! – язвит брат, но тётка на них не смотрит – она прыгает к бабке.
– Лена? Лена, ты? – бормочет старуха дрожащим голосом, словно тётка явилась её спасать, словно Жу с братом били её и пытали.
– Я! Что такое, смотрю, это кто ж приехал? В «Берёзке» была как раз, говорю Маринке: ты смотри, кто-то незнакомый к нашей баушке на машине подкатил! Она-то: можот, собес? А я: чай, собес на такси не поедут, – гремит Ленка так, что стёкла в шкафу продолжают дребезжать, и тараторит с такой скоростью, что Жу за ней не успевает.
Зато старуха всё слышит, и на лице у неё детское выражение радости.
– На такси? – Она цокает языком и качает головой с удивлением, морщины расползаются в улыбку.
– Но, на Митьке Колтышеве. Ты же на Митьке Колтышеве приехала? – говорит Ленка и впервые смотрит на Жу прямо. И тут же как будто спотыкается, поправляется: – Приехал.
Жу пожимает плечами: водитель не представился.
– На ём, на ком же ошшо-то. – Ленке и не нужен ответ. – Шестёра у него цвета баклажан.
– Баклажан, – старуха опять качает головой со значением.
– Ну, дак. Фиолетовый с продрисью! – говорит Ленка и гогочет над своей шуткой басом, а старуха хихикает мелко, как будто рассыпает горох. Жу переводит глаза с одной на другую, уже ничего не соображая, в голове шум.
– Ну, я говорю, значится, Маринке: ктой-то приехал? А она: не знай, дак, проверь. Ну, я и побежала.
– Баклажан… – продолжает бабка смаковать слово. – А что у Маринки-то?
– Колбасы брала, колбасы привезли к йим утром. Надо тебе?
– Да мне Марина небось припасёт. – Старуха жуёт губами и делает скорбное лицо. Как ребёнок, который боится, что ему не дадут вкусненького.
– Дак давай я схожу, пока она ошшо придёт до тебя! А я уж принесу мигом.
– Сходи, сходи. А Маринка тебе денег-то отдаст.
– Отдаст, не переживай, тёть Толь.
Тёть Толь? Стоп. Должно быть другое имя. Жу не помнит, но точно другое. Мужское имя «Толя» легко было бы запомнить.
– Дак ты чё, я не поняла, зачем прие… – оборачивается Ленка и смотрит на Жу, но не договаривает, так и не определившись, кто перед ней. Смотрит на голову – на плечи – на ноги, руки – быстро-быстро ощупывает Жу – и снова на лицо.
Жу не обращает внимания. Так всегда.
– Я из города, – говорит. – От Марины. Она звонила. Должна была звонить.
– Какой Марины? – спрашивает Ленка, но старуха перебивает:
– Она, можот, тебе звонила, Лен? Мне-то некуда, куда мне звонить?
– Да никто мне не звонил. Кака ошшо Марина?
– Марина дак… – говорит старуха.
– Из города, тёть Толь! Твоя-то Марина чать не в городе!
– Не в городе, – понимает тётя Толя и теряется. – А как?
И тоже смотрит на Жу. А Жу – на них. И тоскливо становится, и тревога уже почти у горла.
Сейчас я тут свалюсь в припадке – вот будет весело… И кто такая Марина, я в жизни не объясню.
– У меня бумажка есть! – вдруг озаряет Жу. – Бумажка с именем. Куда мне надо. – Ныряет в рюкзак и роется, как будто ищет документ, от которого зависит жизнь. – Мне Марина написала. Что меня ждут. Что встретят.
Выхватывает бумажку и бессмысленно смотрит на неё. Потому что Марина – врач, и этим всё сказано. Что написано, Жу прочесть не в состоянии. Они с братом пробовали уже много раз – бесполезно. Зашифровано намертво.
– Вот. – Жу протягивает бумажку, но старуха шарахается от неё, как от огня.
– Да я ж безграмотна, господь с тобой, – бормочет, сжимаясь. – Я до третьего класса только – и всё. Ленка, процты!
– Дай сюда, чего там… – Ленка выхватывает из рук Жу бумажку, смотрит – и глаза у неё тоже становятся большими. Сразу понятно, что Марина – врач. Жу даже приятно, что она так надёжно умеет зашифровывать.
– Я же безграмотна, – продолжает старуха, как будто поймала своего конька. Ленка уткнулась в бумажку, даже к окну поближе подвинулась, чтобы лучше видеть. – Всю жизнь по́ лесу. На сплаве. Деревья сплавляли.
Жу смотрит на бабку во все глаза. Сухая, как курага, маленькая бабулька. Где она – и где сплав. Или Жу не понимает чего-то?
– На Пуе, Пежме, на Шорокше, – перечисляет тем временем старуха имена местных рек. – С апреля, поцитай. Мужики рубят, мы сплавлям. Сплавшицей работала, дак. С двенадцати годов.
– Челюсть лови, – шепчет брат. – Челюсть лови, потеряешь.
– Так это… Как же… – Жу не знает, что сказать. Оборачивается на Ленку – та морщится, глядя в бумажку, поворачивает её и так, и эдак, перебирает губами, будто пробует буквы на вкус. Ей не до старухи и не до Жу.
– Тяжёлая ведь работа, – говорит брат.
– Тяжёлая ведь работа, – повторяет Жу, радуясь, что брат подсказал слова. Хотя какая это, к чёрту, работа, это же представить себе невозможно – чтобы лес сплавлять. Девчонке, младше, чем они с братом.
– Тяжёла, как не тяжёла, – кивает старуха. Глаза у неё запали, глазами она как будто там, в прошлом, а руки начинают перебирать концы косынки – страшные, узловатые, сухие руки. – И получали по четыреста грамм хлеба.
А, так это же война была, – догадывается Жу и успокаивается от этой мысли. Тогда всё понятно. И про лес, и про хлеб. Тогда всякое бывало, они читали. Читали и как-то привыкли к мысли, что да, тяжело, да, плохо, но ведь это давно, это не про них, это чужая судьба – так что считай, почти как бы и не было.
Но бабка – вот она, живая, настоящая, пусть и слепая-глухая, и руки у неё, как сучья, и лицо, как кора. И всё равно как-то странно думать о живом человеке, что всего этого, считай, как бы и не было.
Жу неудобно и душно. Как уйти отсюда? Сказать что-нибудь – и уйти. Только бумажку надо забрать. Они потеряются без этой бумажки.
– Дак Манефа же! – ахает вдруг Ленка, так что Жу подпрыгивает от неожиданности. Брат морщится. – Манефа написано!
– Манефа? – тянет старуха удивлённо. – Кака така Манефа?
– Дак у нас тут одна Манефа, тёть Толь. Манефа Феофанна.
– Манефа Феофанна! – фыркает брат и начинает ржать. Жу смотрит на него скептически. Хочется сказать ему, что он дурак, но Жу держится. При чужих с братом разговаривать не стоит. При своих, впрочем, тоже.
– Манефа – это кто? – спрашивает Жу.
– Манефа Феофанна, живёт, да, – говорит старуха. – За рецкой. На горушке.
– Но, – согласно кивает Ленка, тянет так странно, не то «но», не то «ну». Но слышно всё-таки «но». – За речкой, на горе, как пойдёшь. А тебе чего к ей?
– Так я…
– Из города он, говорит, – перебивает Жу старуха. Как будто это что-то может Ленке объяснить.
– Из города-то просто так не поедут, вот я и спрашиваю, чего надо, можот, я могу?
– Дак к тебе ж ездят. И из города, и всяко.
– Но, ездят, – соглашается Ленка, и в голосе её слышится не то гордость, не то ревность. – Так а у Манефы чего?
– Да я же просто, мне сказали… – бормочет Жу, чувствуя, что начинает путаться. В голове совсем шумит от скорострельной Ленкиной речи и чудного их говора. Брат не вмешивается. Жу начинает злиться. Лучше бы вмешался, а то всегда так. Толку с тебя.
– А то смотри, если надо чего, урок там снять или пошептать, на хлеб ли, на воду, на молоко – это можно и ко мне, я всё делаю, – тараторит тем временем Ленка, и Жу не успевает даже сообразить – какой урок? Кому чего снять? – А сама-от сглазить не могу, это не проси, вон, у меня глаз, вишь! – зелёный, а глазливый у кого чёрные, чёрные глаза, знашь? – Она тычет себе в глаза и ширит их, оттягивая веко, позволяя Жу убедиться, что глаза не чёрные. Правда, и не зелёные, а так, непонятно какие. Но не чёрные – точно.
Нет, бежать, бежать отсюда!
– Дак можот ему не от призору, Лен? – говорит старуха.
– Не от призору? – удивляется Ленка. – А чего тогда?
– Я не знай. Но Манефа-то знаюшша, Люська передала ей, говорят.
– Люська не ей, Люська мне передала! – говорит Ленка, и видно, что её это задело.
– Цего-то тебе, а цего-то ей, – гнёт своё бабка.
– Да чего ей? Я же говорю: она не взяла, не взяла она, все знают, что не взяла!
– Знаете, я пойду, – говорит Жу и пятится к двери. – Мне надо найти Манефу, вы извините, я случайно…
– А, дак пропало, можот, цего? – вдруг осеняет Ленку. – Пропало – это да, это к ей.
– Цего? – переспрашивает старуха, не расслышав.
– Травина, говорю, у тёти Маруси есь! – кричит Ленка. – Мы сами у ей брали! У нас потерялси – помнишь, тёть Толь? – потерялси этот… Как его… самовар не самовар… Бочечка така, тушёнку делать.
– А, – тянет старуха. – Но.
– Скотина-то когда была, тушёнку сами делали, – говорит Ленка, оборачиваясь к Жу. – Бочечка была така, там включишь тен, и банки ставили с мясом. Поставишь часа на два, и тушёнка мясная получится у тя своя, в стеклянных банках. В обшем, дали мы людям. А потом эту женщину я встретила, говорю: «А где, интересно, самовар-то? Неси самовар-от, давно унесла ведь». А она говорит: «А кто-то унёс, нету его». Вот я и пошла к тёть Марусе. К Манефе Феофанне. Пришла и сказала, что вот, у меня уташили. Она говорит: «Хорошо. Сделаем». И она мне дала травину: «Положи там, где была эта бочечка». Я говорю: «Я туда не положу, там обший колидор, вдруг кто-нибудь уташит, я потом… мне с тобой как рассчитываться-то?» Я положила, где мы в сарае раньше хранили эту вот… И обратно нам принесли! Принесли, вернули! Принесли, принесли, – твердит Ленка, как будто боится, что Жу не поверит. А Жу и не знает, верить или не верить, потому что не понимает ничего – какая бочечка, что и куда принесли…
Но спрашивает не это. Спрашивает почему-то другое, что меньше всего волнует в этот момент:
– Что за травина?
– Ворачивает, да, – кивает головой бабка, не слыша Жу. – Ворачивает усё, что украли.
– Да. Да-да-да-да-да, – тараторит Ленка, мелко кивая головой.
Чего да-то? Жу начинает злиться. А они как будто не слышат и слушать не хотят.
– Так что за травина? – переспрашивает громче.
– Да така проста травина, как дудка, – говорит Ленка и показывает руками с полметра. И ширит глаза. – И там полое место. А уж там чего дак, не знай – нельзя же разворачивать, то есть если развернёшь, уже больше никому не поможет.
– Разворачивать? Что разворачивать?
– Травину разворачивать нельзя, – объясняет Ленка. – Она завёрнута в марлю, да эту марлю открывать нельзя. Вот она, тёть Маруся, знает свою травину, а нам уж если она даёт, шоб эту тряпочку мы не открывали.
– И правда, чего не понятного: травина в тряпочке, открывать нельзя… – Брат разводит руками. Жу потихоньку показывает ему кулак.
– Это всё люди такие… знаюшие, – бормочет старуха. – Знаюшие, но.
– Есть ведь, знашь, кто на хорошее, а кто на дурное, – продолжает тем временем Ленка, обращаясь к Жу. – Вот кто призор снимает, а кто – ставит, – поясняет ситуацию. Ну, думает, что поясняет. Жу кивает. Не понимает, а скорее из вежливости. – Тебя-то зачем послали? Ты если что… ты ко мне… я ж тожо того… Но всё на добро, всё на добро, я на худо ни-ни, я не умею, не знаю, ни, тьфу-тьфу-тьфу. – Она быстро сплёвывает через левое плечо.
– Да нет же. Вы меня не поняли. Меня прислали. К Мане… Ну, короче, просто. Жить.
– Жить? – изумляется Ленка.
– Жить? – включается и старуха.
– Ну да. Марина – она… ну, я не знаю, кто она Манефе Феофа… но кто-то… в общем, типа… племянница? Внучка? Троюродная… А я…
– А ты тожо родня? – выдаёт Ленка, и глаза её становятся как будто ещё больше. И не только удивление – страх в них. Или это Жу кажется.
– Нет-нет! Ну, в смысле, не совсем так, чтобы… но в общем…
Уходим, – брат кивает на дверь. Прямо сейчас. Да Жу это и без него понимает.
– Да, мне пора. – Жу пятится к выходу. – Мне же ещё дом искать… Манефы Феоктистовны… А вечер… скоро…
– Феофанны, Феофанны. Идём, покажу, куда ты, дожжь вон какой, ух, погода сей год!
Жу бросает взгляд за окно – а там и правда потемнело и полило плотно, без просвета. Но что делать – выходит и на ощупь спускается по ступенькам, а Ленка, не переставая тараторить, выходит тоже, машет в сторону реки, объясняет, куда идти, где искать, а сама не сходит с крыльца, не суется под дождь, так и стоит, пока Жу не ныряет с последней ступеньки, как в реку, – и тогда голос Ленки гаснет, исчезает за толщей воды.
– Фух. Я уж думал, ты не уйдёшь оттуда никогда, – говорит брат. – Так и будешь там жить.
– Не дай бог, – бормочет Жу, втягивая голову в плечи.
– Погоди ещё, – усмехается брат. – Думаешь, там лучше будет?
Жу не отвечает и не оборачивается на него. Натягивает на голову шапку и поворачивает нашивкой назад, чтоб их никто не увидел.