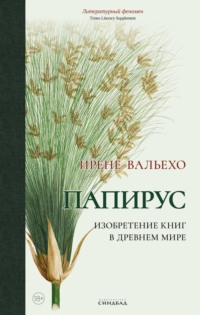Read the book: «Папирус. Изобретение книг в Древнем мире»
Посвящается моей маме,
твердой руке в мягкой перчатке
Буквы похожи на рисунки,
но внутри них – голоса.
Каждая страница – бесконечный кладезь голосов.
Миа Коуту, Мозамбикская трилогия
Неподвижные знаки алфавита оборачиваются
в уме значениями, исполненными жизни.
Чтение и письмо видоизменяют структуру нашего мозга.
Сири Хустведт, Жить, думать, смотреть
Мне нравится воображать, в какое изумление
пришел бы бедняга Гомер (кем бы он ни был)
при виде своих эпических поэм на полке
у невероятного – с его точки зрения —
существа вроде меня посреди континента,
о котором он понятия не имел.
Мэрилин Робинсон, В детстве я любила читать
Чтение – всегда перемещение,
путешествие, уход от себя в поисках себя.
Чтение, несмотря на свою природу,
требующую пребывания на одном месте,
возвращает нас в состояние кочевников.
Антонио Басанта, Чтение против небытия
Книга есть прежде всего
сосуд, где пребывает время.
Чудесная уловка, с помощью которой человеческие разум
и чувствительность одержали победу над текучим,
эфемерным существованием,
устремленным к пустоте и забвению.
Эмилио Льедо, Книги и свобода
Irene Vallejo
EL INFINITO EN UN JUNCO
© Irene Vallejo Moreu, 2019
First edition: September 2019 by Siruela
Published by arrangement with Casanovas & Lynch Literary Agency S.L.
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2025
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2025
Пролог
По дорогам Греции скачут отряды загадочных всадников. Земледельцы на полях и у порогов хижин провожают их настороженными взглядами. По опыту они знают: на месте не сидится только опасным людям – солдатам, наемникам, работорговцам. Они хмурятся и ворчат, покуда всадники не скрываются за горизонтом. Никто не любит вооруженных чужаков.
Всадникам же нет дела до земледельцев. Уже долгие месяцы они взбираются на горы, крадутся ущельями, пересекают долины, переходят вброд реки, плывут с острова на остров. У них прибавилось мышц и выносливости с тех пор, как им поручили эту странную миссию. Ради нее им приходится шнырять по неспокойным уголкам мира, почти непрерывно терзаемого войнами. Они охотятся за особой добычей. Добычей тихой, хитроумной, не оставляющей следов.
Если бы таинственные эмиссары уселись за стол в портовой таверне, навернули жареных осьминогов и накачались вином в компании незнакомцев (на деле они благоразумно избегают подобных поступков), то много чего поведали бы о путешествиях. Им доводилось бывать в краях, где свирепствовала чума. Ходить по выжженной земле, чувствовать под ногами горячий пепел разрушений, видеть жестокие стычки бунтовщиков и наемников. Еще не существует карт, охватывающих обширные регионы, поэтому они не раз сбивались с пути и дни напролет, под солнцем и ливнем брели не зная куда. Пили тухлую воду, после чего мучились ужасным поносом. Всякий раз, когда идет дождь, повозки и мулы увязают в лужах, а они с криками и руганью пытаются их вызволить, шлепаются на колени или сразу мордой в грязь. Если ночь застает вдалеке от всякого укрытия, лишь плащи защищают их от скорпионов. Им знакома незавидная участь обовшивевших; знаком и постоянный страх перед разбойниками, которыми кишат дороги. Не раз, когда они скакали по безлюдным просторам и представляли себе встречу с шайкой, у них перехватывало дыхание от ужаса: вот злоумышленники затаились за каким-нибудь поворотом, ждут, готовые напасть, хладнокровно умертвить, завладеть мешками и бросить трупы в кустах.
Их страх можно понять. Царь Египта, отправляя с поручением за море, вверил им огромные суммы денег. В ту пору, всего пару десятилетий спустя после смерти Александра, путешествовать, имея при себе целое состояние, было рискованно, почти равносильно самоубийству. Понимая, что кинжалы грабителей, заразные болезни и кораблекрушения могут помешать его дорогостоящим планам сбыться, фараон тем не менее настойчиво посылает своих людей далеко за рубежи нильского края, во все стороны света. Снедаемый нетерпением и болезненной жаждой обладания, он страстно желает добычи, за которой, подвергая себя неведомым напастям, гонятся его тайные охотники.
Следящие за ними крестьяне, наемники и разбойники повыкатывали бы глаза и пораскрывали рты, кабы узнали, что ищут заморские всадники.
Книги. Они ищут книги.
Вот она, самая ревностно хранимая тайна египетского двора. Властитель Обеих Земель (то есть Верхнего и Нижнего Египта), один из могущественнейших людей своего времени, не пожалел бы жизни (чужой, разумеется, – с правителями всегда так) – лишь бы заполучить все книги в мире для Великой Александрийской библиотеки. Его не оставляла мечта об абсолютном, идеальном хранилище, о собрании произведений всех авторов от начала времен.
Мне всегда страшно писать первые строчки, переступать порог новой книги. Я уже обошла все библиотеки, тетради пухнут от лихорадочных записей, не осталось ни одного благовидного (да и неблаговидного тоже) предлога откладывать начало работы, а я все равно тяну еще несколько дней, и за это время начинаю понимать, что значит быть трусливой. Я просто не нахожу в себе сил. Все должно быть под рукой – тон, чувство юмора, поэзия, ритм, надежды. Еще не написанные главы должны угадываться, проклевываться в выбранных для начала словах. Но как это происходит?! Все мое богатство в данную минуту – мои сомнения. Каждая новая книга возвращает меня в точку отправления, туда, где сердце трепещет, как в первый раз. Писать – значит пытаться понять, что́ мы написали бы, если бы писали, – так говорит Маргерит Дюрас, срываясь в сослагательное наклонение, будто во внезапно образовавшийся под ногами разлом.
По сути, письмо не так уж отличается от всего, что мы начинаем делать, не умея этого делать: от говорения на другом языке, вождения автомобиля, материнства. От жизни.
Изжив агонию сомнения, пустив в ход все отсрочки и отговорки, жарким июльским днем я оказываюсь наедине с белым листом. Решила начать с образа загадочных охотников, идущих по следу добычи. Я отождествляю себя с ними, мне нравится их терпеливость, их стойкость, их готовность выжидать, их медлительность и адреналин поиска. Долгие годы я занималась исследованиями, изучала источники, постигала документы, пыталась понять исторический материал. Но теперь, в час истины, открывающаяся мне реальная, документированная история оказывается столь удивительна, что наводняет мои сны и помимо моей воли обретает форму рассказа. Соблазнительно почувствовать себя в шкуре охотников за книгами на дорогах древней Европы, корчащейся в судорогах, страшной. А что, если и дальше следовать за их историей? Может, сработает. Но как отделить скелет исторических данных от мускулов и крови воображения?
На мой взгляд, путь всадников не менее фантастичен, чем поход к копям царя Соломона или поиски утраченного Ковчега, но документы подтверждают, что он имел место в истории и будоражил склонные к мании величия умы египетских правителей. Возможно, тогда, в III веке до нашей эры, в первый и последний раз сбылась мечта собрать все книги без исключения в одну всемирную библиотеку. Сегодня это напоминает нам сюжет захватывающего абстрактного борхесовского рассказа – или, может, сюжет величайшей эротической фантазии Борхеса.
В эпоху александрийского проекта не существовало ничего похожего на международную книготорговлю. Книги можно было купить в городах с давней культурной традицией, но не в юной Александрии. Из текстов мы знаем, как правители пользовались преимуществами неограниченной власти для пополнения своих собраний. Что не могли купить – изымали. Если ради желанной книги требовалось рубить головы или топтать посевы, они легко отдавали нужный приказ, убежденные, что слава страны важнее подобных пустяков.
Обман, разумеется, числился среди допустимых способов достижения цели. Птолемей III мечтал заполучить первоначальные версии трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида, хранившиеся в афинских архивах со дня премьеры каждой из них. Посланцы фараона попросили одолжить им драгоценные свитки, чтобы дотошные писцы могли их скопировать. Афинские власти назначили баснословный залог – пятнадцать талантов серебром, что сегодня равнялось бы нескольким миллионам долларов. Египтяне уплатили, витиевато поблагодарили афинян, торжественно поклялись вернуть взятое по прошествии двенадцати, скажем, лун, призвали на собственные головы ужасающие бедствия, если не смогут сохранить книги в отличном состоянии, – и, само собой, присвоили их, наплевав на залог. Афинянам оставалось только смириться с позором. Некогда горделивая Периклова столица стала провинциальным городком в царстве, не способном равняться с мощью Египта, заправлявшего торговлей зерном – нефтью Древнего мира.
Александрия была главным портом и новым центром жизни страны. Могучая экономическая держава всегда умеет изящно выходить за собственные границы. Все корабли, откуда бы они ни приплывали в александрийскую гавань, подвергались немедленному досмотру. Таможенники конфисковали все письменное, что могли найти, делали копии на новых папирусах, отдавали судовладельцам, а оригиналы оставляли себе. Эти взятые на абордаж книги поступали в Библиотеку и снабжались краткой запиской («корабельный фонд»).
Если ты на вершине мира, ты не стесняешься в просьбах. Говорили, Птолемей II отправил гонцов к монархам и правителям всех стран. В запечатанном послании он просил их не счесть за труд прислать в его собрание все что можно: произведения поэтов и прозаиков соответствующего царства, ораторов и философов, врачевателей и колдунов, историков и всех прочих.
Кроме того, – вот через какую дверь я подобралась к своей истории, – по приказу правителей в опасный путь по дорогам и морям изведанного мира пускались специально нанятые люди, снабженные немалыми средствами и строгими предписаниями: повсюду скупать как можно больше книг и разыскивать самые древние списки. Такой спрос на книги и высокая их цена привлекли уйму мошенников. Они продавали фальшивые свитки, состаривали папирус, сшивали несколько текстов в один, чтобы выглядел длиннее, и выдумывали другие искусные уловки. Некий не чуждый юмора мудрец развлекался вовсю, сочиняя подложные книги, специально рассчитанные на возбуждение алчности Птолемеев. Многообещающие заглавия и сегодня могли бы обеспечить неплохие продажи, например: «О чем умолчал Фукидид». Заменим Фукидида на Кафку или Джойса и представим себе, какой фурор произвел бы жулик, явившийся в Библиотеку с фальшивыми воспоминаниями и страшными тайнами писателя под мышкой.
Небезосновательно опасаясь мошенников, библиотекари все же больше боялись упустить ценную книгу и разъярить тем самым фараона. Он часто устраивал свиткам из собрания смотр, как своим военным частям, и так же гордился ими. Интересовался у Деметрия Фалерского, отвечавшего за порядок в Библиотеке, сколько у них книг. И Деметрий отчитывался: «Уже более двадцати десятков тысяч, о Царь, и я постараюсь в ближайшее время довести их число до пятисот тысяч». Книжный голод, проснувшийся в Александрии, начинал граничить с натуральным безумием.
В моей стране, в то время, когда мне выпало жить, книги достать легко. У меня дома книги повсюду. В периоды интенсивной работы, дюжинами принося книги из библиотек, стойко терпящих мои набеги, я складываю из них башни на стульях и прямо на полу. Или оставляю раскрытыми обложкой вверх. Так они похожи на двускатные крыши, которым не хватает дома. Чтобы до них не добрался мой двухлетний сын, любитель мять страницы, кладу на спинку дивана и, садясь, чувствую их углы затылком. Если сравнить стоимость книг со стоимостью аренды в моем городе, выходит, что они недешевые постояльцы. Но мне кажется, все они, от больших фотографических альбомов до старых, подклеенных, вечно норовящих захлопнуться, словно мидии, карманных изданий, придают дому уют.
История усилий, путешествий и тягот ради наполнения полок Александрийской библиотеки привлекает экзотичностью. Она соткана из странных событий, приключений, подобных легендарным плаваниям в Индию за пряностями. Здесь и сейчас книги так обыденны, так далеки от технологических новшеств, что многие предсказывают их скорое исчезновение. Мне, безутешной, часто приходится читать статьи, в которых книги обрекаются на замену электронными устройствами и оттеснение безграничными возможностями досуга. По самым пессимистичным пророчествам, мы переживаем конец эпохи, истинное светопреставление, после которого книжные лавки навечно накинут засовы, а библиотеки опустеют. Вскоре, как бы намекают они, книги можно будет увидеть разве что в краеведческих музеях, подле каких-нибудь доисторических наконечников. Перебирая в уме подобные образы, я обвожу взглядом бесконечные шеренги своих книг и виниловых пластинок и задаюсь вопросом: старый уютный мир вот-вот исчезнет?
Да неужто?
Книга прошла испытание временем, она – стайер. Всякий раз, очнувшись от морока революций, от кошмара наших человеческих катастроф, мы находили книгу на прежнем месте. Умберто Эко говорит, что она стоит в одном ряду с ложкой, молотком, колесом или ножницами. Единожды изобретенную вещь такого рода невозможно усовершенствовать.
Разумеется, технологии непобедимы и способны запросто сломать старую иерархию. И все же все мы тоскуем по чему-то – фотографиям, файлам, работам, воспоминаниям, – чего лишились из-за стремительной скорости устаревания технологических продуктов. Сначала были песни на кассетах, потом фильмы на VHS. Мы тратим кучу сил на собирание того, что технологии стремятся как можно быстрее вывести из моды. После появления DVD нам сказали, вот, отныне вопрос с хранением решен навсегда, но тут же начали соблазнять нас новыми, более мелкими носителями, неизменно требующими покупки новых устройств. Любопытно, что мы можем прочесть рукопись, терпеливо переписанную более десяти веков назад, но не можем посмотреть видеокассету или дискету, которым всего несколько лет от роду, – разве только если в кладовках у нас, словно в музеях устаревших вещей, припрятаны соответствующие компьютеры или видеомагнитофоны.
Не будем забывать: книга выступала нашей союзницей в многовековой войне, не отмеченной учебниками истории. В борьбе за удержание наших драгоценных созданий: слов, подобных дуновению ветра; выдумки, с помощью которой мы пытаемся придать смысл хаосу и выжить в нем; истинных, ложных и недолговечных знаний, долбящих твердый камень нашего невежества.
Вот почему я решилась на это исследование. В начале вопросы так и роились: когда появились книги? Как их пытались приумножать и уничтожать? Что было утрачено, а что удалось спасти? Почему некоторые книги стали классикой? В скольких потерях виновны время, огонь, вода? Какие книги сжигались в гневе, а какие любовно переписывались? Возможно ли, что одни и те же?
Это повествование – попытка подхватить и продолжить авантюру охотников за книгами. Я хотела попробовать напроситься им в попутчицы в погоне за утраченными рукописями, неведомыми историями, умолкающими голосами. Скорее всего, они были всего лишь ищейками на службе у правителей, мучимых бредом величия, не осознавали важности своей задачи, считали ее нелепой и ночами под открытым небом, когда в кострах догорали последние угли, ворчали, – мол, невмоготу больше рисковать жизнью ради грез безумца. Наверняка они предпочли бы отправиться на дела, обещавшие более легкое повышение: пресекать мятежи в Нубийской пустыне или проверять грузы на нильских баркасах. Но я подозреваю, что, гоняясь по свету за книгами, словно за частицами рассеянного клада, они, сами того не подозревая, закладывали фундамент нашего мира.
Часть I
Греция грезит будущим
Город наслаждений и книг
1
Юная жена купца спит одна и мается скукой. Десять месяцев назад муж отплыл с острова Кос в Египет, и с тех пор она не получила ни весточки из нильского края. Ей семнадцать, она еще не рожала и едва выносит нудную жизнь в гинекее (женских покоях, занимавших заднюю часть дома в Древней Греции), жаждет событий, но не выходит из дома, дабы избежать сплетен. Заняться нечем. Тиранить рабынь поначалу было весело, но одним тиранством дни не заполнишь. Поэтому ей нравится принимать визиты других женщин. Неважно, кто стучит в дверь, – ей отчаянно хочется отвлечься, сбросить свинцовую тяжесть часов.
Рабыня сообщает о приходе старухи Гиллис. Жена купца предвкушает интересную беседу: престарелая кормилица остра на язык и очень забавно пересыпает речь непристойностями.
– Матушка Гиллис! Сколько уж месяцев ты ко мне не заглядывала!
– Живу далеко, дочка, знаешь ведь. А сама-то слабее мухи стала.
– Ну, полно, – отвечает жена купца, – еще не одного молодца затискать у тебя силенок хватит.
– Смейся, смейся! – обижается Гиллис. – Это больше вам, молодухам, подобает.
С лукавыми усмешками и долгими присказками старуха, наконец, выкладывает, зачем пожаловала. Юный красавец-силач, дважды побеждавший в состязаниях борцов на Олимпийских играх, положил на купцову жену глаз, умирает от желания и мечтает стать ее любовником.
– Не сердись и выслушай предложение. Страсть терзает его плоть, будто шипами. Потешься с ним разок-другой. Или так и будешь сидеть тут сиднем? – заливается коварная Гиллис. – Не успеешь глазом моргнуть, как состаришься, и роскошная краса твоя обратится в прах.
– Молчи, Гиллис, молчи…
– Чем это твой муж так занят в Египте? Не пишет, забыл тебя. Надо думать, пригубил уже от другой чарки.
Стараясь сломить сопротивление соломенной вдовы, Гиллис живописует все то, что Египет и в особенности Александрия могут предложить неблагодарному далекому супругу: богатство, приятный теплый климат, будящий чувственность, гимнасии, зрелища, целые толпы философов, золото, вино, юношей и красавиц, числом превосходящих звезды в небе.
Это мой вольный перевод короткой греческой пьесы, написанной в III веке до нашей эры и пропитанной терпким ароматом повседневности. Подобные малые формы, вероятно, не ставились на сцене, разве что читались по ролям. Полные плутовского юмора, они приоткрывают нам вынесенный на задворки античной словесности мир высеченных рабов, жестоких хозяев, сводников, матерей, доведенных до нервного срыва сыновьями-подростками, и чувственных женщин. Гиллис – одна из первых сводниц в мировой литературе, искусно владеющая секретами мастерства: она безошибочно знает, как надавить на самое больное, – сыграть на неизбывном страхе жертвы перед старением. И все же недобрый талант Гиллис тратится попусту. Жена купца мягко корит ее. Она преданна отсутствующему мужу, а может, опасается рисков прелюбодеяния. «Или ты совсем разум потеряла, старая?» – говорит она Гиллис, но в утешение предлагает выпить вина.
Этот веселый и легкий текст интересен нам еще и потому, что показывает, какое представление имели простые люди о тогдашней Александрии: город наслаждений и книг, столица любви и слова.
2
Со временем Александрия становилась все легендарнее. Через два века после того, как был написан диалог Гиллис и искушаемой девушки, Александрия стала местом действия одного из величайших эротических мифов всех времен: о любви Клеопатры и Марка Антония.
Рим, столица самого мощного средиземноморского государства того времени, все еще оставался лабиринтом кривых, темных и грязных улочек, когда Марк Антоний впервые прибыл в Александрию. Внезапно перед ним раскинулся пленительный город, чьи дворцы, храмы, широкие проспекты и монументы излучали величие. Римляне полагались на свою военную силу и считали себя хозяевами будущего, но не могли тягаться с неотразимой притягательностью золотой старины и былой роскоши. На основе желания, гордости и тактических расчетов могущественный военачальник и последняя царица Египта выстроили политический и ceкcуальный союз, возмутивший порядочных римлян. В довершение безобразия, поговаривали, Марк Антоний намеревался перенести столицу из Рима в Александрию. Если бы любовники выиграли войну за Римскую империю, сегодня мы бы массово фотографировались на фоне Вечного города, Колизея и форумов в Египте.
Как и сам город, Клеопатра воплощает причудливую смесь культуры и чувственности. Плутарх пишет, что она не была красавицей. Люди на улицах не сворачивали шеи при виде нее. Но она притягивала шармом, умом и красноречием. Голос ее отличался столь сладостным тембром, что услышавший однажды уже не мог забыть его. И тембр этот, – продолжает историк, – по-разному звучал на разных языках, словно многострунный инструмент. Она могла без переводчика говорить с эфиопами, евреями, арабами, сирийцами, мидянами и парфянами. Хитрая царица, не упускавшая никаких важных сведений, победила во многих битвах за власть в своей стране и за ее пределами, но в решающей схватке потерпела поражение. Беда в том, что мы знаем только точку зрения ее врагов.
В этой бурной истории книги также играют важную роль. Марк Антоний, мнивший себя без пяти минут повелителем мира, захотел сразить Клеопатру великолепным подарком. Он знал, что от золота, драгоценных камней и пиров взор возлюбленной не засияет, ведь она привыкла ежедневно забавляться ими. Как-то раз, на исходе пьяной ночи, в порыве вызывающего бахвальства Клеопатра растворила в уксусе громадную жемчужину и выпила ее. И Марк Антоний выбрал подарок, который она не встретила бы с утомленно-презрительным видом: положил к ее ногам двести тысяч томов для Великой библиотеки. В Александрии страсти питались книгами.
Два писателя, скончавшиеся в XX веке, стали нашими проводниками по закоулкам этого города и нанесли пару слоев патины на александрийский миф. Грек Константинос Кавафис, незаметный чиновник, долгие годы проработал на одной должности в отделе орошения Министерства общественных работ британской администрации Египта. Ночами он погружался в мир наслаждений, приятелей со всего света и разврата международного масштаба. Как свои пять пальцев знал лабиринт александрийских борделей, единственного прибежища его страсти, «запретной и всеми глубоко презираемой», по его собственным словам. Кавафис взахлеб читал классиков и почти никому не показывал свои стихи.
В его самых знаменитых стихотворениях оживают исторические или вымышленные персонажи, населявшие Итаку, Трою, Афины, Византию. Другие тексты, более личные на первый взгляд, с надрывной иронией исследуют опыт зрелости: тоску по юным годам, постижение удовольствия, удручающее наблюдение за бегом времени. На деле разница в тематике искусственна. Вычитанное, воображаемое прошлое волновало Кавафиса не меньше собственных воспоминаний. Бродя по Александрии, он чувствовал, что под современным городом пульсирует другой, невидимый. Великая библиотека канула в небытие, но ее отголоски, шепотки, бормотания все еще слышатся в воздухе. Кавафис думал, что содружество призраков как раз и очеловечивает холодные улицы, по которым шагают одинокие и несчастные живые.
Герои «Александрийского квартета» – Жюстин, Дарли и в особенности Бальтазар, утверждающий, что был лично знаком с Кавафисом, – постоянно поминают этого «старого городского поэта». В свою очередь, четыре романа Лоренса Даррелла, англичанина, задыхавшегося в английском пуританстве и английском климате, подхватывают и продлевают эротический и литературный миф об Александрии. попал туда в смятенные годы Второй мировой, когда Египет был занят британскими войсками и город являл собой гнездо шпионов, заговорщиков и, как обычно, искателей наслаждения. Никому не удалось точнее Даррелла описать цвета Александрии, физические ощущения, пробуждаемые ею. Давящую тишину, высокое летнее небо. Огненные дни. Ослепительную синеву моря, волнорезы, желтый берег. В глубине берега озеро Мареотис (современное название – Марьют), подчас искрящееся, словно мираж. Между водами порта и озером – бесчисленные улицы, где вихрится пыль, роятся нищие и мухи. Пальмы, роскошные отели, гашиш, пьяный угар. Наэлектризованный сухой воздух. Лимонно-сиреневые закаты. Пять рас, пять языков, дюжина религий, отражения пяти флотов в масляной воде. В Александрии, пишет Даррелл, плоть просыпается и бьется о решетки темницы.
Вторая Мировая война разорила город. В последнем романе «Квартета» Клеа описывает печальный пейзаж. Танки, застрявшие в песках, словно скелеты динозавров; дула крупных орудий, как поваленные стволы окаменелого леса; бедуины, блуждающие по минным полям. Город, издревле развратный, теперь напоминает гигантский общественный писсуар, – подытоживает Клеа. В последний раз Лоренс Даррелл побывал в Александрии в 1952 году. Еврейская и греческая общины, тысячелетиями обживавшие город, бежали после Суэцкого кризиса, ознаменовавшего конец исторической эпохи на Ближнем Востоке. Возвращающиеся из Александрии путешественники рассказывают мне, что космополитичный сладострастный город остался только на страницах книг.