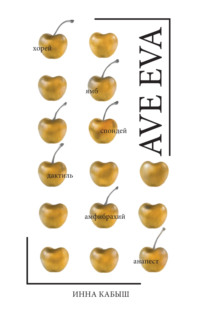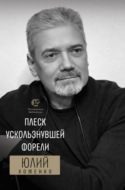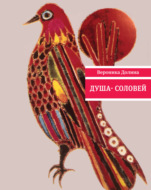Read the book: «Ave Eva»
© Инна Кабыш, 2023
© «Время», 2023
С каждым днём счастливее…
Инна Кабыш – редчайшее, самобытное явление в русской поэзии. Погружаться в её стихи – как плыть в прозрачной реке со множеством подводных течений и ощущать то толщи нежащегося на солнце тепла, то внезапную ледяную струю. Очередная драгоценная строка (а их так много в книге «Ave Eva»!) – и вздрагиваешь от удивления, от узнавания привычных вещей, поданных с непривычного, свежего ракурса. Это поэтика художественно убедительного парадокса, сращения чувственного и духовного, земного и надмирного, бытового и бытийного.
Как говорит сам автор: «Ведь образ – это, с одной стороны, реальное, а с другой – запредельное. И кто такой поэт, как не тот, кто сопрягает то и другое?»
Поэтический жест Кабыш экспрессивен без эксцентричности, пронзителен без надрыва и чист без патетики. Он органично сочетается и с интонацией, и с графикой текстов. Когда перед тобой подлинное искусство, даже не хочется думать, вникать, разбирать на составные части, потому что понимаешь: это настоящее чудо, тайна, не поддающаяся рациональному объяснению.
Суженый, путь мой сужен,
мне ведь никто не нужен:
Бог меня создал целым –
теломдушоюделом,
дал мне не просто много –
всё.
Возропщу ль на Бога,
давшего только счастье
тем, кого создал частью?..
В стихотворениях Кабыш столь мощное преодоление трагизма существования, что в некотором смысле чтение даёт ощутимую психотерапевтическую помощь.
Как говорит соседка моя баб-Люся:
«Я с каждым днём счастливее становлюся…»
(Хоть ни кола, ни двора у ней, ни скотины –
только и есть одна у ней гильотина,
что от всего отсекает дурные части,
преображая любое несчастье в счастье.)
И в это баб-Люсино счастье веришь прямо так, сразу: тут и судьба (потянет на целый роман), и христианское мироощущение, и мудрость приятия жизни. А всего-то шесть строк!
И ещё есть в книге чудесная баб-Ева (эссе «Ave Eva»), которая была поэтом, «поэтом, не писавшим стихов». Она «не была привязана ни к Польше, ни к Украине, ни к своему дому на улице Горького – только к языку: он был её родиной». Эссе, посвящённое бабушке автора, удивительно светлое и тёплое, особенно актуально сегодня в связи с событиями на Украине, ведь «русский и украинский – это просто два размера одной силлаботоники».
Одно из ключевых понятий книги – счастье. И для Инны Кабыш оно растворено буквально во всём, если всмотреться в мир с нежностью и сочувствием.
Есть в поэтической поступи Кабыш изящество, особая поэтическая грация, порода. Этого поэта ни с кем не спутаешь. У Инны всё своё: лично ею добытые смыслы, своя любовь, своё страдание, своя осень.
А любимый месяц – октябрь.
Октябрь. Внезапная свобода.
Трещит затопленная печь.
Ещё день-два – отключат воду,
и русская умолкнет речь,
и все разъедутся отсюда –
в Москву, в Москву,
как три сестры,
лишь я останусь – делать чудо:
косить траву и жечь костры…
В книге, кстати, довольно много стихотворений, в которых присутствует этот месяц.
Ты не веришь мне на слово,
ты не веришь, а зря:
я действительно счастлива
на краю октября…
Дорогого стоит особая новорождённость мироощущения Инны Кабыш. Трудно не устать от мира, от быта, от житейских проблем и забот. Но ещё труднее сохранить способность удивляться и любоваться. А Кабыш умеет и абсолютно искренне!
Почему так всегда умиляет
первый шаг?
Это ж было вовек!
Почему так всегда удивляет
первый снег?
И врасплох почему меня снова
застаёт первый лёд?
и я думаю про рыболова:
он по водам идёт…
И ты будто и сам идёшь по водам: по водам новых смыслов, новых переживаний, новых прекрасных строк…
Есть в книге и пьесы. Больше всего меня тронула «Шубка». Здесь есть всё: и ирония, и юмор, и печаль. И хорошая убедительная концовка, что встретишь нечасто. Пьеса необычная и по форме, и по содержанию. В ней и острая социальность, и сюжет, и любовь, и новогоднее чудо, и муки совести. А вообще она вся про совесть. Про то, как трудно жить на свете совестливому человеку и как важно не растерять это чувство, поддавшись соблазнам…
Читать Инну Кабыш радостно, щемяще и немного страшно. Но во время чтения что-то с тобой происходит волшебное, отчего становится грустно-грустно и одновременно радостно-радостно и ещё сильнее хочется жить. И ощущать счастье на вкус и на цвет, и нежить его, как младенца, и уже никогда не расставаться с ним.
Анастасия Ермакова, поэт, прозаик,заместитель главного редактора «Литературной газеты»
Стихотворения
«Если смерти – то моментом…»
Если смерти – то моментом
(так прошу свою судьбу),
чтоб спасти кого при этом,
чтоб не больно,
чтоб не летом,
чтоб красивой быть в гробу.
«Была твореньем – не творцом…»
Сергею Луконину
Была твореньем – не творцом,
была безмолвною моделью,
была я попросту лицом,
картонкой,
краскою,
пастелью.
И появившаяся связь
меж мной и этою картонкой,
где я сегодня родилась,
была «властительной и тонкой».
И обозначилось родство
меж мною и моим портретом,
и приближалось Рождество
по всем земным его приметам.
Стоял мороз на свете злой,
я шла своим каким-то курсом,
всё меньше делаясь землёй,
всё больше делаясь искусством.
«Для кого-то умер Евтушенко…»
Для кого-то умер Евтушенко –
ну поэт, ну больше, чем поэт, –
для меня ж – пошла на стенку стенка,
рухнул мир
и выключился свет.
Никогда его не будет больше –
хоть чини его, хоть не чини.
Ну и боль! – о Боже, ну и боль же! –
я не виновата – извини…
«Это смерть – а она не жена…»
Это смерть – а она не жена,
и играть с нею незачем в прятки.
Я пришла – потому что должна,
и плевать мне на ваши догадки.
Что там жёны, мужья, сыновья –
много званых, а избранных мало.
Я пришла, потому что лишь я
научилась вытаскивать жало.
Это ведь не намного страшней,
чем в руке или в пятке заноза.
Вот и всё, мой родной.
И бог с ней!..
Ни к чему эти слёзы и розы.
Превратятся рыдания в смех,
ветер жаркие губы остудит:
я тебя поцелую при всех –
и пусть кто-нибудь только осудит!
«Неужто синенький платочек…»
После детоубийства нельзя ожидать благополучной жизни на земле, а уж о жизни в вечности даже и помыслить страшно.
о. Иоанн Крестьянкин
Неужто синенький платочек
(или с каёмкой голубой)
за убиенных нами дочек
иль сыновей
(ответ любой)
нам будут подавать до гроба?
И там, за гробом, не простят?
Хоть виноваты были оба,
лишь Фриду отправляют в ад…
И все сгорят метеориты,
и вся Вселенная сгорит,
и не найдётся Маргариты,
чтоб попросить за нас,
за Фрид?..
«Подумаешь: печать…»
Подумаешь: печать
или столбец в тетради!
Нет, я могу молчать,
раз надо: бога ради!
Раз надо так ему,
громадну,
триедину,
без –
жалост –
нейшему –
мужчине,
быту,
сыну.
«Я так за жизнь свою намёрзлась…»
Я так за жизнь свою намёрзлась
в стране, где вечная зима,
так насмотрелась я на мёртвость
(как только не сошла с ума!)…
И хоть бесчувственному телу
равно…
но есть ещё ровней,
и я б не с мамою хотела,
не с папой
(бог и с ним, и с ней!),
не с благоверным,
не с любимым,
с кем належалась за глаза,
но с первым встречным,
но с любым бы
(лишь только не границей за!).
…И я не знаю: рай – он есть ли?
И где я буду – не пойму.
Когда умру – точнее, если:
ЛЕЖАТЬ ХОТЕЛА БЫ В КРЫМУ…
«Драмкружок…»
Драмкружок,
и музыка,
и фото,
и шитьё,
и кройка,
и стихи –
милые девчоночьи заботы,
плавуны, лишайники и мхи.
Там, где густо, стало нынче пусто,
но открылись главные пути,
но открылось главное искусство –
отовсюду вовремя уйти.
«Как говорит соседка моя баб-Люся…»
Как говорит соседка моя баб-Люся:
«Я с каждым днём счастливее становлюся…»
(Хоть ни кола, ни двора у ней, ни скотины –
только и есть одна у ней гильотина,
что от всего отсекает дурные части,
преображая любое несчастье в счастье.)
«Был день, как в детстве, длинным…»
Был день, как в детстве, длинным, –
покуда мыли пол
(нет, не стихом единым!),
пока скоблили стол,
пока топили печку,
пока пекли блины,
пока искали свечку
немыслимой длины, –
и не хотел кончаться,
хоть выпит был до дна:
на свете нету счастья –
поэзия одна…
«Куда бы я ни уходила…»
Куда бы я ни уходила,
всё возвращалась я назад,
но что прошло, не стало мило,
и где был ад – остался ад.
И я не потому осталась,
что ты в моём окошке свет:
любовь и кровь,
любовь и жалость –
чего-чего на свете нет.
К примеру, счастья нет на свете,
но есть великий неуют,
где с горя ставшие как дети
уже не плачут, а поют.
Поют –
ну это ли не чудо
(какое там – в руке рука!).
…Я знала, что с тобою буду
несчастлива, –
наверняка.
«И я замыслила побег…»
И я замыслила побег,
да только некуда податься,
пускай жара бы или снег –
мороз и солнце, минус двадцать,
но это: слякоть и октябрь,
метро,
пинки,
звонки,
тетради –
чуть-чуть помедленней хотя б,
не счастья для, а Бога ради.
«Суженый, путь мой сужен…»
Суженый, путь мой сужен,
мне ведь никто не нужен:
Бог меня создал целым –
теломдушоюделом,
дал мне не просто много –
всё.
Возропщу ль на Бога,
давшего только счастье
тем, кого создал частью?..
«Я других затем любила…»
Я других затем любила,
чтоб тебя опередить,
я тебя по правой била,
чтобы мог по левой бить.
Я могла сказать такое
(всяк другой – убил!),
чтоб не стало ни покоя
у тебя,
ни сил.
Берегут зеницу ока,
а НЗ хранят:
сядь высо́ко,
глянь глубо́ко –
Я спасла наш ад.
«Как на рассвете светится…»
Как на рассвете светится,
как на закате жжётся,
любится, да не терпится,
плакать бы – ан смеётся.
Нету печали радостней
этой, почти хрустальной.
Кто это нынче рядом с ней?
Пусть остаётся тайной!
Кто там спустился с горочки,
вижу я по походке –
сладкое это с горечью
в самой своей серёдке.
Невыносимо лёгкое –
и с каждым днём всё легче –
парусом,
чайкой,
лодкою,
бармами – на оплечье.
Не соловей за рощею
мне насвистел такое:
время всегда хорошее,
даже когда плохое.
«Меня поймали на любви…»
Меня поймали на любви
(на воровстве так ловят вора,
крича: «Лови его! Лови!»
для вящего его позора).
И вот я в ссылке и в тюрьме,
в ловушке, в каторге, в остроге,
но свет – он светит и во тьме,
но Бог – я помолчу о Боге!
…Теперь я знаю, что любовь –
неблагодарная работа:
они меня поймают вновь,
они убьют меня без счёта…
«А берёза – кости вся и кожа…»
А берёза – кости вся и кожа –
на из гроба вставшую похожа:
Лазарь, манекенщица, скелет,
Бухенвальд, блокада – на просвет,
по краям лишь только золотая –
там, где плоть воскресшая, святая:
так воскреснет каждый куст и пень.
Так и я воскресну в Судный день.
«Октябрь. Внезапная свобода…»
Октябрь. Внезапная свобода.
Трещит затопленная печь.
Ещё день-два – отключат воду,
и русская умолкнет речь,
и все разъедутся отсюда –
в Москву, в Москву,
как три сестры,
лишь я останусь – делать чудо:
косить траву и жечь костры.
Мне никуда спешить не надо –
засох листок в календаре,
как будто выгнали из ада
и водворили в октябре.
Где ни поллитры, ни полушки,
где только яблок полный таз,
где мой сосед по ссылке Пушкин
звонит на дню по десять раз.
«…А кота звали попросту Понтий…»
…А кота звали попросту Понтий,
но, конечно, совсем неспроста:
я в то лето жила не у Понта,
а за пазухой у Христа.
Я не знала ни счастья, ни горя –
знала только одни лишь труды,
и хоть рядом и не было моря,
было соли полно и воды.
С неба падала манка и гречка,
сам собою слагался сюжет,
день за днём протекал, словно речка,
у которой названия нет.
Приезжали то Коля, то Саша,
привозили то хлеб, то вина,
и была моя жизнь, словно чаша:
хоть упейся – всё будет полна.
Что и делала я: упивалась,
так что лыка связать не могла,
а оно вдруг взяло и связалось –
даже крепче морского узла…
В Переделкино
Как хорошо, что нету снега –
на лыжах можно не ходить.
О Господи, какая нега –
проснуться в час и кофе пить!
Как хорошо, что нет столовой,
её компотов и борщей:
настало время жизни новой –
и мыслей новых, и вещей.
Как хорошо, что даже в гости
отныне не к кому пойти:
грызёт собака чьи-то кости,
и время – вечер без пяти.
И хорошо, что нету счастья,
и воли,
и благих вестей,
что жизнь рассыпалась на части
и не собрать её частей.
«Как я люблю эту «званскую» жизнь…»
Как я люблю эту «званскую» жизнь,
но не с пирами, скорей, а с трудами,
с теми, что были ещё при Адаме:
встань с петухами, с курями – ложись.
Корму задай то скоту, то коту
плюс накорми прилетевшую птицу,
синюю, ту, что зовётся «синица»,
то на помойку сходи за версту.
Как я люблю этот дикий завал,
все эти го́вна, горшки и корыта,
эти свинцовые мерзости быта,
как некорректно их Горький назвал.
И, как неточно заметил Исус:
званых, мол, много, а избранных мало:
в Званку зовут ли кого ни попало?
Их избирают за свет и за вкус.
Званые в Званку поэтому те
самые –
праздные в мире счастливцы:
не поленитесь – вглядитесь в их лица
и убедитесь в моей правоте.
«Ты не веришь мне на́ слово…»
Ты не веришь мне на́ слово,
ты не веришь, а зря:
я действительно счастлива
на краю октября.
Мёрзнут сосны столетние,
и земля словно жесть,
но ведь счастье есть летнее
и осеннее есть –
где последние яблоки
прячут лица в траву
и где листья, как ялики,
уплывают в Москву.
Всё торопится сморщиться,
сгинуть, сникнуть, пропасть,
только я – будто рощица,
этой осени часть.
Часть земли Переделкино,
часть воды и небес.
Хрен красивым ли девкам нам:
выжил – умер – воскрес.
«Если я тебя не ревную…»
Если я тебя не ревную –
значит, я тебя не люблю?
Знаю логику я иную,
а не эту, что по рублю.
Я иную логику знаю
(с ней ли мне ревновать-любить?):
чем с тобою мы ближе к краю,
тем друг друга трудней убить…
«„Не жизни жаль… а жаль того огня…“…»
«Не жизни жаль… а жаль того огня…» –
как Фет сказал.
И не тебя – меня
мне жаль, мой принц, мой первый, мой хороший,
давным-давно уже быльём поросший.
Но вот пришёл, и как на рану – соль.
Мне жаль меня – ту Сольвейг, ту Ассоль,
ту Ларину Татьяну, ту Джульетту,
ту – как их там! – Одиллию, Одетту:
не красоты мне жаль, а чистоты!
Хотя, конечно, виноват не ты,
ведь «все пройдёт» – и чистота прошла бы,
я из Джульетты сделалась бы баба,
ан не пришлось.
А знаешь, ты ступай!
Не при тебе ж утраченный мой рай
оплакивать.
А я пойду на волю,
и там – одна, совсем одна – повою:
не будет видно слёз из-за дождя.
…И дверь закрой покрепче, уходя!
The free sample has ended.