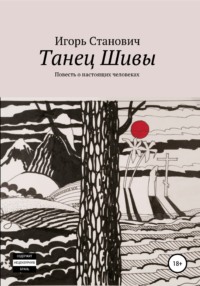Read the book: «Танец Шивы»
«Оттолкнуться от дна можно только достигнув его».
Народное наблюдение
Предисловие
Человек был умён, так умён, что решил докопаться до сути, или истины, это уж кто как называет. Но истина, в отличие от правды, всегда одна. Правда может быть у каждого своя, а суть – едина. Человек был настолько умён, что не мог себе представить истину. Она не поддавалась логическому объяснению, а увидеть он её не мог, слишком она была всеобъемлющая. Ведь муравей, карабкаясь по дереву, не может себе представить его целиком. На стволе, под корой, у него есть муравейник, там кипит жизнь, матка откладывает яйца, рабочие муравьи строят его, а муравьи-солдаты охраняют. Но он не понимает, что всё это находится на дереве, у которого есть крона, корни, и оно живёт своей жизнью. Муравей не может себе объяснить, почему и зачем дерево это делает, и почему и зачем оно терпит его. Муравей даже не может понять, что это дерево. Но муравей глуп и подчиняется законам жизни, Богу, Природе, даже не ведая об этом. А человек умён, он хочет себе и окружающим всё объяснить. И не имеет значения, знает он об этом что-либо или нет. Ведь можно знания подвести под истину… или истину под знания и быть уверенным в своей правоте, верить, что всё происходит именно так, как представляет себе человек. В глубине души он понимал – всё, что происходит, происходит не просто так. Он решил, что его, человека, создал Бог. Когда человеку везло и всё получалось, он считал, что это Бог ему дал и благодарил его. Когда не получалось и его настигали несчастья, он думал, что кто-то помешал Богу помочь ему, человеку. Тогда у него возникал вопрос: кто бы это мог быть, кто смог помешать Богу, сделать ему, человеку, хорошо. Ведь Бог создавал человека по образу и подобию своему. Значит и в нём, человеке, есть частица Бога. Что же это за сила, способная соперничать с Богом и мешающая тому делать человеку хорошо? Человек, не ведая того, до чего ещё его может довести его же собственный ум, взял и поделил Бога на части. Единую энергию мироздания, которая и является Богом, он, для простоты понимания, разделил на отдельные составляющие и наделил их чертами личностей. Первые, самые древние религии завели отраслевых Богов и распределили между ними обязанности, они отвечали за отдельно взятые направления в мироздании. Одни за Солнце, другие за Луну, третьи за урожай или торговлю, четвертые – за удачу в войне или любовь. Кто-то ведал подземным миром или водами Океана и так далее. Им противодействовали столь же всемогущие, но нехорошие Боги, или демоны, столь же, да не столь, а немного слабее. Так было проще объяснить негативные явления, происходящие в мире. Так появилось понятие добра и зла. Человек становился умнее. Более поздние вероисповедания упростили схему, чтобы человек меньше задумывался над истиной. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед пророк его…». Но без помощников Бог всё равно не мог обойтись, ведь в представлении человека творить добро – значит бороться со злом. Значит, надо было создавать условия для этой борьбы. Христианство применило ещё более новаторский приём, сводящий понимание к примитивной схеме. Есть Бог, есть Дьявол, живёшь правильно, служишь Богу – попадёшь после этой жизни в Рай, в команду к Богу. Живёшь неправильно, служишь Дьяволу – будешь вечно жариться на сковородке в Аду. Так было проще объяснять людям необъяснимое, да и управлять ими стало легче. Ведь при помощи такого инструмента, как религия, можно внушить человеку что угодно. «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа…». Однако всё-таки ДУХА, то есть энергии… аминь. И помощников Богу тоже определили в лице святых, покровителей, пророков. Более древний Индуизм использует схему проще и логичнее. Есть Бог-созидатель Брахма, есть Бог-разрушитель Шива. Все они самостоятельны и автономны в принятии решений; для «выхода в народ» и общения с ним имеют различные воплощения и аватары. Но над всеми стоит Вишну – соединяющее и уравновешивающее начало. Тот, ради кого и по прихоти кого всё это существует. Но ведь у истины не может быть прихотей, значит, человек ему для чего-то нужен, ведь не просто же так – по образу и подобию…, хотя какой уж там образ? Человек не мог осознать Бога. Ему надо было обязательно отождествить его с личностью и придать ему человекоподобные черты. Ведь что такое ЭНЕРГИЯ, человек до сих пор до конца не разобрался и объясняет себе на примитивном, научном уровне. Даже селил он Богов высоко, над собой, чтобы они лучше видели и внимали ему. Римский пантеон обосновался на Олимпе. Христианский Бог вообще на Небесах. А Шива – на горе Кайлаш, в Гималаях. Шива – очень серьёзный и грозный Бог. Он Бог разрушения. Он та часть мироздания, которая ведает уничтожением старого и отжившего. Ведь нельзя построить новое, не расчистив место и не убрав отслужившее. Поэтому в Индуизме Шива весьма почитаем и уважаем. Возможно, Индуизм понимает, что нет Добра и Зла, нет Рая или Ада. Всё это разные стороны единого целого. В мире должен быть баланс, равновесие. Бывает, в мире наступает момент, когда равновесие нарушается, старое ведёт себя отягчающе для мироздания и мешает ему. Тогда у Шивы наступает горячее время, и он принимается за работу. А начинает он свою работу с танца, во время которого медитирует и даёт миру понять, что он приступает к своим обязанностям. Танец этот ощущается во всём мире. От этого просыпаются вулканы, начинаются землетрясения и стихийные бедствия. Появляются новые болезни и приходят эпидемии. Происходят войны и гибнут целые государства. Случаются кризисы и катастрофы. Иногда это происходит мгновенно, иногда годами и даже столетиями. Шива уже начал свой танец, значит – землю ждёт обновление.
Начало
Аэропорт «Домодедово» встречал пассажиров обычной рутинной суетой, достигающей своего пика в это время года. Начиная от шлагбаумов, где необходимо было остановиться и нажатием кнопки на щитке добыть себе въездной талон, образовалась очередь из машин, подвозящих отъезжающих. Не прекращающаяся уже более двух десятков лет стройка вносила свои поправки в удобство передвижения по территории, особенно для пассажиров с детьми и громоздким багажом. Скучающие милиционеры охраняли рамки металлоискателей, которые были установлены при входах в терминал и проработали пару месяцев. Это произошло после серии терактов, для усиления проверки входящих. Когда усиление закончилось, рамки выключили. Но стражей порядка оставили при них, видимо, для пущей важности и охраны этого дорогостоящего оборудования. Шла последняя декада декабря. Для россиян уже начался «хай сизон». Многие старались покинуть столицу, чтобы встретить в тёплых краях накатывающийся вал праздников, начиная от католического Рождества, Нового года и так далее, по порядку. Зал регистрации обострял ощущение предстоящего веселья нездоровым ажиотажем, бликами озабоченных лиц, ищущих стойку своего рейса, цветными пятнами чемоданов и курортной одежды отпускников, контрастирующей с тоскливой пасмурной погодой за огромными стёклами зала. Многие, чтобы не тащить с собой на юга, отдавали зимнюю одежду провожающим и щеголяли в цветастых майках и шортах а-ля большие семейные трусы в цветочек. Зима в этом году не торопилась, оставляя Москву серой и бесснежной. Регистрацию на рейс Москва-Гоа уже объявили, и несколько групп пассажиров заняли очередь в ожидании, когда заработает компьютер, можно будет получить посадочный талон и избавиться от тяжёлой ноши, сдав её в багаж. Первым у стойки оказался мужчина лет тридцати пяти, впрочем, возраст определить было сложно, лицо его наполовину скрывали длинные, редкие волосы, спускающиеся от пробора по щекам и забранные сзади резинкой. Сквозь них просматривались шрамы от ожогов, пигментные пятна со следами пластических операций. Одет он был не по-гоански, в тёртые джинсы и простецкую рубашку с длинным рукавом, застёгнутую на все пуговицы. Куртку он засунул под ремень рюкзака. Из вещей у него имелись упомянутый небольшой рюкзак и завёрнутая в полиэтиленовую плёнку огромная ёмкость, обвязанная ремнями и более напоминающая маленькую ванну. За ним пристроился немолодой уже гражданин, годам к пятидесяти. Также отмеченный шрамами на лице, но не от пламени, а, скорее, от последствий бурно прожитой жизни. Этот был одет во всё чёрное. Расстёгнутый ворот рубахи и закатанные рукава показывали миру татуировки, не оставляющие сомнений в его тюремном прошлом. Подтверждалось это и характерным взглядом, и отсутствием двух передних зубов. Взгляд был очень внимательный, пронзительный и колючий. Всё вкупе давало представление о серьёзности тех статей, по которым он отбывал наказания.
– Давайте документы, – безразличным тоном произнесла девушка из-за стойки, обращаясь к очереди.
Человек с обожженным лицом передал паспорт с вложенными в него бумагами и застыл в ожидании. Девушка, глядя в документы, произвела над клавиатурой магические пассы, глянула на пассажира и спросила:
– Место у окна хотите?
– Не принципиально.
– Багаж сдаёте? – Она наклонилась в сторону, чтобы лучше видеть, что у пассажира в руках.
– Нет, это с собой в салон возьму.
– Ой, вы знаете, в салон с такой кладью не пропустят, сдайте в багаж.
– Понимаете, – сказал тот, явно стесняясь, – это очень ценная вещь. Даже не ценная, а гораздо больше. Это купель, она освящённая. Я сам священник и еду в Гоа открывать храм. Негоже её в багаж сдавать, мало ли что, разобьют при погрузке, уж лучше я сам понесу.
– Да как же вы её в салон? – Растерялась девушка. – Где же вы её там пристроить сможете, таких размеров?
– Необходимо так, – ответил священник. – Хоть на руках держать буду, но не могу в багаж сдавать.
Девушка озадачилась и, подумав минуту, взяла в руки переговорное устройство.
– Тут такое дело, – сказала она в трубку. – Батюшка летит рейсом на Гоа. У него багаж негабаритный, сдавать не хочет, говорит, это священная вещь для храма, её нельзя сдавать.
В трубке затрещало и мужской голос пробулькал:
– Чего хромает, повтори, не понял, что там у вас стряслось.
– Подойдите, пожалуйста, сюда, надо вопрос с пассажиром решить. Ситуация нетривиальная, – членораздельно произнесла она в микрофон и далее обратилась к пассажиру. – Извините, сейчас подойдёт представитель авиакомпании, я не в силах своей властью решить ваш вопрос, мы не можем по инструкции пропустить в салон ручную кладь такого размера. Вы с ним поговорите, я думаю, он всё уладит.
Прилично собравшаяся очередь с любопытством наблюдала эту сцену. Некоторые из интереса ожидали развитие ситуации, некоторые смотрели на виновника её с сочувствием, а некоторые как на ненормального. Кто-то отпускал по этому поводу шутки, а кто-то предлагал проверить у товарища документы, ведь должно же быть у священника удостоверение, подтверждающее его принадлежность к «служителям культа». Компания молодёжи в характерных одеяниях, с фенечками и дредами, громко смеялась, незаметно крутя пальцами у виска и высказывала мысли, типа, что «вот только православной церкви в Гоа ещё не хватает, наставлять народ на путь истинный после пати. Там своих Богов немеряно, а батюшка, по ходу, дунул уже, не дождавшись прибытия на Индийскую землю». Батюшка, тем временем, не обращал ни малейшего внимания на подколки и возникшую по его поводу заминку в процедуре регистрации. Он терпеливо ждал представителя авиакомпании, как и подобает человеку его положения. Стоящий за ним пассажир с уголовным прошлым также не сильно реагировал на происходящее. Он иронично наблюдал, лишь только обернулся на высказывание стоящей за ним полной дамы в шубе, смысл которого сводился к тому, что и тут найдётся кто-нибудь, кто испортит ей весь отдых, который ещё даже не начался.
– Мы пока никуда не опаздываем, самолёт без нас не улетит, регистрация только началась, – успокоил он её.
– Да я всё понимаю, – возмущалась дама. – Сама верующая. Но если уж делать благородное дело, так надо его делать профессионально, на хорошем государственном уровне. А не создавать проблем окружающим в их законный отпуск. Ещё бы колокольню с собой попёр в самолёт.
Вскоре появился усталый молодой человек в синей форме, поздоровался и отрекомендовался представителем «Трансаэро». Он глянул на завёрнутую в пластик купель, попробовал её приподнять, состроил озабоченное лицо и произнёс:
– Ну, ничего себе, она килограмм тридцать весит. Чего же мне с вами делать?
– А вы не беспокойтесь, сын мой, своя ноша не тянет, – спокойно, не без юмора, ответил священник. – Вы меня в салон пропустите, а я уж там сам как-нибудь.
– Как-нибудь нельзя, надо правильно и грамотно всё сделать, – он поднёс к уху переговорник. – Алло, это Иванов, старший смены, тут на ваш борт священник регистрируется, у него причиндалы церковные с собой в кабину будут, нельзя сдавать их в багаж… да, объёмные… ну, полметра на полметра и на метр, наверное. Хорошо, хорошо… нет, он не в рясе, в цивильном, да вы его узнаете. Или подошлите кого на помощь. Ок, возле рамки, на досмотре, ок.
Старший смены нажал кнопку отключения прибора связи и улыбнулся батюшке.
– Уж не знаю, как её у вас досматривать будут, через аппарат-то не пройдёт, видимо, придётся раскрывать. А там вас встретит член экипажа и покажет, куда пристроить в самолёте. Самолёт большой, проблем не будет. А кстати, у вас есть документы-то, что вы батюшка?
– Ну, а как же, – священник полез в нагрудный карман.
– Нет, мне не надо показывать, я вижу и верю вам, на всякий случай спросил, вдруг на контроле вопросы возникнут. Вид-то у вас как у… завсегдатая Гоа, – улыбнулся усталый начальник. – И без одежды, традиционной для священников… хотя сейчас ряса не показатель, любой нарядиться может. Вон, тут даже артисты себя в батюшки производят. Давайте-ка, я лучше вас через паспортный контроль и таможню провожу, а то будут приставать, как это вас с таким грузом пропустили. Только давайте побыстрее, я на службе всё-таки.
Священник забрал со стойки документы и посадочный талон, легко, одной рукой подхватил за упаковочный ремень свою ношу и направился в сопровождении представителя авиакомпании в сторону таможенного контроля, куда с тележкой для перевозки багажа уже не пропускали.
Саня. Часть 1
Восточные учения, которым уже не одна тысяча лет, утверждают, что ребёнок, рождаясь, знает своё предназначение. Он видит, каким должен быть его жизненный путь. К чему у него способности и чему он обязан посвятить свою жизнь. Иногда родители тоже видят и понимают это, и тогда это счастливый ребёнок, из которого вырастает ЧЕЛОВЕК. Но чаще они думают, что всё знают и понимают лучше своего ребёнка и решают за него эту дилемму. Потом вмешивается социум. Школа, окружение, среда, в которой обитает ребёнок, корректируют этот путь. Человек растёт и сбивается. Дорога его становится длинной, в обход, через дебри и препятствия. Некоторые, заблудившись, так и не находят свою тропку. Некоторые выходят на неё, поплутав, кто рано, кто ближе к концу. А кому-то предназначен такой путь, что препятствия и лабиринты на нём – неотъемлемая часть того самого пути.
Саня появился на свет в середине шестидесятых прошлого века на Алтае. Как раз недалеко от того места, где рождается река Обь. Обь – правильная река и родителей у неё, как полагается, двое, реки Бия и Катунь. Кто из них мама, а кто папа, люди спорят издавна и к консенсусу так и не пришли. Но то и неважно, две речки сливаются в одну и получается вторая по протяженности в Сибири. Отсюда и название – Обь, то есть обе они становятся единым целым. Закон природы. Воды в реках разные и по температуре, и по минеральному составу. Одна течёт с ледника, вода в ней стылая и лёгкая, вторая уже напиталась солями, илом и песком, прокладывая себе путь среди гор. Даже цвет у них разный. И долго ещё, на протяжении километров они не смешиваются, а текут как бы параллельно, обнимаясь и борясь друг с другом, как милые, пока не сольются воедино. Далее к ним присоединяется река Чарыш, также не менее своенравная. В месте их слияния, образованные основными руслами и протоками, громоздятся из воды острова. Вот на одном из них и приютились несколько деревень, в одной из которых произвели на свет Саню. Как только он родился, его сразу стали хоронить. Дело в том, что мама нашего героя работала в местной столовой и ей часто приходилось поднимать тяжести: то мешок с картошкой подтащить, то котёл с борщом переставить. Когда она была на седьмом месяце, очередной трудовой подвиг спровоцировал преждевременные роды. Их можно было бы назвать выкидышем, как классифицировала это тогдашняя медицина, но Саня был жив и не собирался изображать из себя испортившийся полуфабрикат человеческого существа. Он цеплялся за предоставленную возможность воплотиться в божье создание и даже тужился кричать. Но сил за шесть с небольшим месяцев нахождения в утробе матери он накопил недостаточно, и они покидали его вместе с плачем. Ближайшая больница находилась в шестидесяти верстах на большой земле. Зимой дорога проходила прямо по льду, а летом устанавливали понтоны. Понтонная переправа наводилась в середине-конце июня, раньше было нельзя. Паводок уже спадал к тому времени, но сверху, с «беляка», как местные называли ледник, срывало льдины, которые могли снести понтоны. Поэтому в межсезонье деревня была отрезана от мира. Жизнь в ней продолжалась, но шла она своим, автономным образом, без цивилизованных излишеств, какой бы то ни было власти и указаний сверху. Оно и в обычное время так было, то есть, когда переправа работала. Милицейский пункт в деревне числился, но участковый жил в районном центре и сюда не совался. Во-первых, доверял стихийному самоуправлению, а во-вторых, боялся. Сибирь особое место, народ здесь тоже сложился особый. Места эти, аж с Ермака, как он те края приоткрыл, стали считаться ссыльными да сбеглыми. Среди жителей были и староверы, потомки тех, кто ушёл от преследований в пору насаждения на Руси христианства и последующей неразберихи в истинности учения. Язычники с раскосыми глазами тувинских кровей. И каторжанские отродья царских времён. А уж при советской власти и так понятно, кто тут прижился. Уголовников было немного, зато отпущенных в поселение политических хоть отбавляй. Они настолько сжились с этим краем, что многие остались тут, пустили корни и пообхозяились. До Бога высоко, до власти далеко. Места глухие и потаённые. Затеряться проблем нет, многие и паспортов-то, по привычке, не имели. Жили себе, да жили. Пьянства безрассудного не наблюдалось, но повеселиться народ умел. Да всё как-то по-доброму. Даже если морду друг другу били, всё больше беззлобно или потом устраивали мировую и братались, обмывая это событие и принося взаимные дары. А коли и поминали друг дружке прошлое, так опять же больше со смехом. Не делали разницы, по какой статье сидел, сидел ли вообще, главное, что ты представляешь из себя сейчас. Ведь не прошлым же жив человек. Да и живёшь ты тут на виду перед соседями, люди всё подмечают. А сидел – не сидел, так в то время полстраны осуждённых было, зеков чураться, с кем тогда вообще общаться будешь? Были в деревне непререкаемые авторитеты, были свои блаженные. И веры разные тут пересекались, и породы людские. Жил, к примеру, на удалении старик-китаец буддистского исповедания. Откуда пришёл, когда, какого возраста, рода-племени, никто не знал, потому как не задумывался. А может, кто и задумывался про себя, да спросить стеснялся. А может, и не стеснялся, а боялся. Все к нему привыкли и по-своему уважали, и даже любили. Легенд о нём ходило много. И про возраст его загадочный, по разному разумению от шестидесяти до ста, а кто-то приписывал и больше. О силе его и знахарстве. Говаривали про его исцеляющий дух и колдовские иглы, которыми он лечил людей, втыкая в тело больного. Вот посему, большой нужды в официальном докторе не было. Народ в Сибири по большей части крепкий жил в то время. Ежели хворь какая приключится, лечились настоями да травами, что по тайге собирали. Горшки со свечами внутри на живот устанавливали, чтобы органы на места вставали. По лёгкому неможению обращались к сёстрам, что в деревне являлись травницами и заговорницами. Вера – инвалид с детства, в коляске всю жизнь, и сестра её старшая, которая при Вере ту коляску катала и ухаживала за ней. Имя старшей уже и не помнилось никому, все её Няней звали. Няня и Няня, а коли Вере она няня, так и с другими нянчилась, привычка у неё выработалась такая или Бог ей призвание подобное определил. Ну, а по серьёзной немощи к китайцу шли.
Рожали бабы детей в деревне, когда Бог их на то сподабливал, рожали много. По четыре-пять детей в семье не редкость была. Потому бабы в этом вопросе учёные являлись, вспоможения от официальной медицины не ждали, и, как бы сейчас сказали – рожали на дому, помогая друг дружке.
– Не жилец он, Маша, – озвучила резюме бабского схода Антонина. – Коли и выживет, получеловеком будет. У него и мозги-то не наросли ещё, а мозги тельцем командуют, развиваться ему приказывают. Нет командира – нет и жизни. А командир ущербный, и человек не вырастет. Схоронить его надо, Мария, и тебе так легче будет – с полудурком не возиться – и деревне всей, зачем нам юродивый лишний. У тебя два сына есть, сама молодая, родишь ещё.
Мария, мать Сани, ещё не оправившись от случившегося, и слова вымолвить не могла. Мысли её плясали между материнским инстинктом, горем предстоящей утраты, стыдом перед соседями, болью и печалью мужа. Да ещё червяк гнева точил её душу – как то могло случиться, почему с ней, и что скажет вернувшийся с рейса муж Сергей, что час назад уехал в район. Сергей работал шофёром на колхозном ЗИЛке, возил с района продукты для магазинов всех островных деревень и так, по колхозной надобности. Уезжал он с утра за реку по понтону или, когда встанет лёд, по реке, и возвращался ближе к ночи. Вот вечера-то и боялась неудачная роженица, когда вернётся усталый муж и, вместо радостей семейного ужина, узнает новость и увидит её в таком разорённом состоянии. Бабы взяли Сергееву лопату, завернули народившегося покойника в наволочку, в которой некогда хранились макароны и пошли на край деревни, ближе к Медвежьей горе, схоронить неудачника для всеобщего спокойствия. Свёрток, который ещё кряхтел и подёргивался, доверили Антонине как самой стойкой, а яму вырыть вызвалась молодуха Надя, ибо греха в том не углядывала. Слабую мать решили не трогать и оставить дома пережить утрату украдкой и не лить слёз на могилку недоношенного сына. Бабы рассудили, что раз не крещён и не рождён нормально, так и не стоит ответствовать душу, ибо не человека хоронят, а то, что им могло бы стать, реши Бог его судьбу, дав тому испытание жизнью. Минут через двадцать, по уходу похоронной бабской процессии, в хату вошёл Сергей. Мария лежала на кровати, укутанная одеялом, осунувшаяся и с мокрым лицом. Увидев на пороге мужа в неурочный час, она лишь больше побледнела, и глаза её округлились в пол-лица. Она прокручивала в голове их вечернюю встречу, как она скажет ему о выкидыше, какие слова найдёт, но мысли путались и никак не могли стыковаться в разумные фразы. При появлении мужа сердце её зашлось и перехватило горло, она лишь протянула руку, указывая в ту сторону, куда недавно направились бабы.
– Встала моя телега, карбюратор засрался, а ты, мать, чего в постели, чего с лица сбледнула? – Попытался улыбкой приободрить супругу Сергей, понимая, что у беременной женщины могут быть свои недуги, которые лучше перележать в постели. Он не видел живота женщины, но по глазам вдруг заподозрил недоброе. – А ну-ка, что такое?
Мария опять протянула ослабевшую руку в том же направлении и, силясь прошептать что-то, разревелась навзрыд.
– Выкидыш у меня, Серёжа, – сумел разобрать сквозь рыдания муж.– Бабы закапывать потащили к Медвежьей…
Сергей выскочил из хаты, хлопнувшая дверь распахнулась за ним настежь, и со всех сил ринулся к холму. До начала гор было метров триста, и покрыл он их минуты за полторы. Подбегая, увидел женщин, стоящих в кружок, и ещё издалека закричал:
– Закопали?
Бабы обернулись, отвлечённые от своего дела, и так и стояли, пока не приблизился Сергей.
– Закапываем, Серёжа, надо так… так всем лучше будет, не тужи, вы молодые… – ответил кто-то из баб.
– Живой? – Запыхавшись, вопросил он.
– Живой пока, но не надолго то.
– Дай сюда, – заорал Сергей, отпихивая стоящих и выхватывая из приготовленной ямки свёрток, видимо, бабы тоже ждали, не решаясь присыпать землёй ещё не затихшее существо, ждали, когда признаки жизни совсем покинут маленькое тельце, завёрнутое в старую наволочку.
– Не жилец он, Сергей, – повторилась Антонина. – Лучше так.
– Вы за кого себя посчитали, бабы, вы охренели, под Бога закашиваете? Не вы жизнь даёте, не вам и решать, кто жив, а кто – помер, вы лишь инструмент божий, для жизни даденный, а решать не вам. Пока дышит, хоронить не позволю, – сказал он уже спокойным тоном. – К китайцу пошли со мной, объяснять ему будете, мож он поможет.
Это прозвучало не как пожелание или предложение, тон Сергея был, скорее, приказной. Что явно обрадовало добрую половину женщин, собравшихся на стихийные похороны. Видимо, взятая ими на себя таким образом ответственность, всё-таки сделала в душах прореху, в которую медленно, по мере осознания, закрадывалось чувство греха. Не дело они удумали сотворить, явно не дело. И прозвучавшие слова отца, скорее всего, отрезвили их, а высказанный приказ показал путь к выходу из положения, в которое они сами себя и поставили. Окруженный стайкой приободрившихся баб, Сергей быстрым шагом направился в ту сторону, где в бывшей сторожней хатке, переделанной под свои устои на китайский лад, обосновался «вечный Зен». Прижимая к груди под распахнутой телогрейкой свёрток, мужчина в сопровождении женщин считанными минутами добрались до места. Китаец стоял на пороге с тревожным лицом и внимательно всматривался в процессию, как будто ждал их. Его пронзительный, раскосый взгляд не концентрировался ни на ком конкретно. Он не поздоровался обычным кивком головы, а лишь выставил вперёд руку, останавливая делегацию. Спустился с крыльца, подошёл к Сергею, который пытался начать разговор, прекратил его объяснения, приложив ту же ладонь к своему рту. Взял из рук того свёрток, размотал наволочку, обнажив на свет синеющее тельце. Он перевернул ребёнка спиной вверх, положил на ладонь, так, чтобы голова его покоилась на запястье, а ножки свешивались вниз. И замер на несколько минут. Его китайские глаза затуманились, округлились, как будто он пытался разглядеть что-то в пространстве. Было ощущение, что тело его стояло тут, а мыслями и духом он витал где-то за пределами человеческого понимания. Покоящийся на руке Саня напоминал мороженого курёнка из сельпо в районном центре, коих в народе называли «беговыми». Через время он перевернул «курёнка» и переложил на другую руку животиком вверх. Приложил свой большой палец к запястью мальчика, сначала на одной руке, потом на другой. Лицо его сделалось, как обычно, добрым и хитрым, даже насмешливым, видимо, он вернулся в окружающую его реальность и сказал:
– Молочко у Маши в титьках есть? А нет – козье берите, но быстрее, бегом, бегом к маме, – и отдал ребёнка отцу.
Сергей схватил сына, забыв про мятую наволочку, которую всё это время теребил в руках, развернулся, и молча побежал к своему дому. Очнувшиеся бабы хором охнули и ломанулись за ним, создав полукольцо эскорта и начав одновременно галдеть о том, у кого есть козы и у чьих коз молоко сподручнее для такого случая. Китаец улыбнулся им вслед, порылся в матерчатой сумке на поясе, с которой не расставался никогда, говорят, даже во сне, достал оттуда трубку и пачку «Беломора». Выпотрошил из папиросы табак, упихал его в трубку и закурил, усевшись на ступеньку и глядя вслед удаляющейся шумихе. Он чему-то улыбался и щурился на нежаркое уже Солнце. Почему его звали «вечный Зен»? Возможно, по аналогии с «вечным жидом», а что есть ВЕЧНОСТЬ и что есть Зен, так никто и не понимал до конца. Может, имя такое китайское, а может, просто погоняло.
Вот так и появился на свете новый человек, появился, помаячил, как в реанимации, и всё-таки ускрёбся жить на этой земле, принимая испытания и служа некой цели, коей мы понять не в состоянии, ибо то не нашего понимания дело, а Божьего. И как ты ни бейся, а разгадать тот ребус мало кому при Жизни этой удаётся. А уж как хочется-то, что лезем мы в высшее дело своими грубыми науками да приборами, открываем себе законы, да догмы придумываем. А потом за истину их держим, сотворяя иллюзию понимания, не ведая того, что всё это лишь обложка, картинка, поверхность той большой книги, чем является ЖИЗНЬ и бытиё наше. Вот и вступил на этот путь Саня, вступил, споткнувшись и чуть не упавши, да, видимо, с пинка китайского подлетел обратно, и закружилось-завертелось вокруг него, как и он вокруг жизни этой. Будет ему теперь сполна и детства, и отрочества, а уж университетов – не дай Бог каждому, не все в тех университетах выживали, а те, кто выжил, не все правильные выводы сделали.
Рос Саня как все дети, в любви и заботе родительской. Как все, да не как все. Видимо, урок первый, что при его появлении на свет случился, не прошёл даром. Говорят, дети ещё в утробе материнской всё слышат да воспринимают. А уж когда в свет Божий выходят, и того больше. Наверное, отложились в его душе, в том закоулке её, что подсознанием зовется, и первый страх, и первые невзгоды, и первые препятствия к жизни. Жил он, как говорится, на своей волне. К выстраданным детям и отношение сострадальческое, и любят их больше, ибо через боль та любовь пришла. Его не ругали, не бранили, не поучали насильственно, даже не наказывали. Потому как он особенный был какой-то. До пяти лет всё слушал и как будто бы запоминал себе. Но слова от него услышать никому не доводилось. Так все и решили – немой он, и не больно-то и приставали, считая, что травма родовая да психоз бабский, когда его схоронить пытались, на голове мальчонкиной сказались. Мать больше рожать не надумала, видать, Природа её женская поиссякла. Хотя когда она к китайцу с благодарностью ходила, он ей прямо сказал, что, коли есть желание, поспособствовать в благом деле сможет, не велика наука зарядить её женской энергией.
– Ты, Мария, – говорит, – ношу тяжкую на себя взяла, но нести её надо, как тот крест, что Бог ваш на гору тащил. Кресты и Пути у всех разные и не все выдерживают и доносят. А кресты эти, кому лёгкий, кому тяжёлый достаётся. Твой не из лёгких выдался. Горя хватишь больше, чем радостей, но он твой и удовлетворение в конце пути придёт. Да, через полвека поглядеть бы на твоего Саню. Ох, глянем…