Выбирая свою историю. Развилки на пути России: от Рюриковичей до олигархов
Text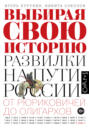


Go to audiobook
- Size: 930 pp.
- Genre: Russian history, General history, политика и власть, popular history
Кочующие «самодержцы»
Несмотря на значительный вес в обществе и важность отправляемых князем функций, он так и не стал в Древней Руси подлинным монархом, государем. Прочная монархическая власть невозможна без земельной собственности, но, как установил еще В. О. Ключевский, в Древней Руси «понятия о князе как территориальном владельце, хозяине какой-либо части Русской земли, имеющем постоянные связи с владеемой территорией, еще не заметно».
В советской исторической литературе, трудами главным образом академика Л. В. Черепнина, была разработана концепция верховной княжеской собственности на землю. Однако трудно представить верховным собственником князя, который, приезжая в ту или иную волость, должен был рядиться с вечем и принимать выдвигаемые вечевой общиной условия. Акт княжеского призвания никак не сочетается со статусом собственника. Как писал авторитетный историк-юрист К. Д. Кавелин, «отношений по собственности нет и не может быть, потому что нет прочной оседлости. Князья беспрестанно переходят с места на место, из одного владения в другое, считаясь между собой только по родству, старшинством».
Действительно, князья Рюриковичи постоянно перемещаются из одной земли-волости в другую. В этом их коренное отличие от князей – племенных вождей древнейшей эпохи. Общеславянское слово «князь», родственное древненемецкому kuning, обозначало первоначально старейшину рода. Воспоминание об этом архаическом значении слова удержалось в русских свадебных песнях, в которых жениха и невесту как основателей нового рода, родоначальников, именуют «князем» и «княгинею». Варяги, подчиняя себе славянские земли вдоль днепровского торгового пути, довольствовались установлением даннических отношений, оставляя подчиненные племена жить прежним бытом со своими племенными князьями.
В уже упоминавшемся договоре, заключенном киевским князем Олегом с греками в 907 г., указывалось, что дань полагалась на все русские города «ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу». Нет никакого основания видеть в этих великих князьях потомков Рюрика. Выделение «Рюрикова рода» из общей массы «княжья» происходит постепенно. По всей видимости, племенные княжеские династии пресеклись, а уцелевшие представители их влились в состав боярства в результате длительного процесса «примучивания» (то есть подчинения) киевскими Рюриковичами окрестных славянских племен. В 945 г. во главе древлян мы видим еще их собственного князя Мала, но к исходу этого столетия во всех русских землях наблюдаем только потомков Рюрика, заметно размножившихся и образовавших несколько конкурирующих династических линий.
Отношения между князьями Рюриковичами довольно сложны. Неоднократно историками предпринимались попытки объяснения их на основании какого-либо единого принципа. Наибольшей популярностью пользуется до сих пор предложенная С. М. Соловьевым и развитая В. О. Ключевским гипотеза «очередного порядка» или «лествичного восхождения» князей. В соответствии с этой гипотезой Русь находилась в нераздельной собственности всего рода Рюриковичей. При этом существовало понятие об иерархии земель (старшим городом считался Киев, за ним шли Чернигов, Переяславль и т. д.) и параллельной иерархии княжеского рода по старшинству. После кончины очередного киевского князя две эти иерархии должны были заново приводиться в соответствие: на киевский престол переходил старший во всей династии Рюриковичей (как правило, это был не сын, а брат почившего князя), следующий за ним по старшинству перебирался в Чернигов и так далее. Однако и этот порядок, по мнению авторов гипотезы, устанавливается только со времени Ярослава Мудрого, а до того, по мысли В. О. Ключевского, «при отце сыновья правили областями в качестве его посадников», когда же отец умирал, «разрывались все политические связи между его сыновьями… между отцом и детьми действовало семейное право, но между братьями не существовало, по-видимому, никакого установленного, признанного права». Эта гипотеза позволяет объяснить гораздо меньшее число фактов, нежели остается фактов, ей противоречащих, так что Ключевскому приходилось признавать, что этот «очередной порядок» «действовал всегда и никогда – всегда отчасти и никогда вполне».
Прямо противоположную гипотезу выдвинул в конце xix в. историк-юрист В. И. Сергеевич. Он настаивал, что все отношения между князьями «Рюрикова дома» носят исключительно договорный характер. Этими договорами, до xiv в. заключавшимися в устной форме, устанавливались вполне произвольно взаимные отношения старшинства князей по «чести» вне зависимости от кровного родства. Князь, испытывая судьбу, считал себя вправе «искати» любого стола и в случае удачи приобретал более «чести». Князь, признававший себя по такому договору «братом молодшим», мог приходиться в действительности своему «брату старейшему» дядей. Средством выяснения взаимного старшинства служили почти непрерывные княжеские «усобицы» (вооруженные конфликты, в которых князь воевал «о собе» – отсюда слово «усобица», – а не за земские интересы).
Несмотря на то что в рамках обеих гипотез было сделано много полезных наблюдений, ни одна из них не может претендовать на полное описание реального механизма междукняжеских отношений. Перемещение князя из одной волости в другую определялось множеством факторов – княжескому стремлению занять определенный стол могло воспрепятствовать как противодействие другого князя-претендента, так и вмешательство интересов главного областного города, мало считавшегося с княжеским старшинством.
Первой попыткой установления наследственности княжеских столов считается предсмертное завещание Ярослава Мудрого. Этот «ряд Ярославль» в изложении Лаврентьевской летописи предписывал:
«Вот я покидаю мир этот, сыновья мои; имейте любовь между собой, потому что все вы братья, от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим; но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались меня, пусть будет он вам вместо меня; а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск». И так разделил между ними города, запретив им переступать пределы других братьев и изгонять их, и сказал Изяславу: «Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают». И так наставлял сыновей своих жить в любви.
Ни из чего не следует, что это предсмертное распоряжение Ярослава – акт частного права – имело значение общегосударственной нормы. Даже собственные дети не исполнили его завещания. Мирное соправление Ярославичей продолжалось недолго. В 1073 г. между ними началась кровопролитная усобица, продолжавшаяся до 1078 г., после завершения которой князья стали предпринимать энергичные усилия к установлению большего порядка в междукняжеских отношениях. Однако известное постановление княжеского съезда, собравшегося в Любече в 1097 г., гласящее: «…каждый да держит отчину свою» (то есть не ищет других княжений, кроме тех, которые занимали его непосредственные предки), – еще долгое время оставалось благим пожеланием. Лишь постепенно происходит закрепление определенных земель за определенными княжескими линиями. Эта общая тенденция отчасти была связана с «оседанием на землю» дружины. Отчасти укрепление княжеской власти и более тесная связь князя с известной волостью возникали вследствие того, что в каждой волости со временем увеличивался удельный вес населения, находящегося под непосредственной княжеской юрисдикцией.
Помимо княжеских «мужей», дружины, под собственной юрисдикцией князя вне власти земских городовых органов оказывались знаменитые смерды – одна из самых загадочных категорий населения древнерусской волости, о статусе которой на протяжении столетия шли в науке ожесточенные споры. Смерды выступают как один из разрядов неполноправного населения, что выражается в пониженном штрафе за убийство смерда и низкой цене его службы. В 1016 г. Ярослав, награждая участников похода, приведшего его на киевский стол, выдал «смердам по гривне, а новгородцам по десять гривен всем». Однако характер неполноправности смерда из юридических памятников неясен. Многие историки трактуют смердов как категорию феодально-зависимого населения, однако смерды не находятся в частной зависимости, а являются княжескими людьми. В частности, выморочное имущество смерда отходит князю.
Ключ к пониманию положения смердов дает наблюдение, сделанное И. Я. Фрояновым: тогда как свободное население волости, «люди», платит полюдье – общегосударственный налог, смерды всегда в источниках оказываются плательщиками дани, которая имеет значение военной контрибуции или платы за несостоявшийся набег. Смерды наших древнейших памятников (с xiv столетия это просто бранное слово) – недавно покоренные и обложенные данью племена, как правило неславянские. Толковать несвободное состояние этих «внешних смердов» как феодальную зависимость не представляется возможным. Они жили традиционным бытом и внутри своих общин были свободны, но община смердов как целое облагалась данью. Помимо них существовали «внутренние смерды», то есть представители тех же племен, переселенные вглубь земли-волости на положении государственных рабов. Князья изначально несли в волости обязанность «блюсти смердов», составлявших тем самым собственную социальную опору князя, со временем увеличивавшуюся.
С тремя политическими силами, которые так наглядно взаимодействуют в легенде о призвании Рюрика, связаны различные варианты исторического пути городов-государств Древней Руси. Постоянная борьба трех политических сил приводила в разных землях к различным результатам. В киевской и северо-западных волостях постепенно усиливаются демократические вечевые институты, в Юго-Западной Руси заметны олигархические тенденции, связанные с усилением положения боярства. Здесь бояре сожгли на костре любовницу князя Ярослава Осмомысла, когда он захотел передать престол сыну от нее в обход сына от законной жены, а на княжеском столе некоторое время сидел боярин Владислав Кормиличич (единственный случай на Руси). На северо-востоке – во Владимиро-Суздальской области – обозначились монархические тенденции. Однако борьба эта была далека от завершения, и условия для становления монархии (и то первоначально только во Владимиро-Суздальской Руси) сложились уже за пределами древнерусского периода отечественной истории.
Подробнее на эту тему
Вернадский Г. В. Киевская Русь. М., 2001 (http://gumilevica.kulichki.net/vGv/vgv2.htm).
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (ix – xii вв.). М., 1999 (http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm).
Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси: Очерки по истории x – xii столетий. М., 1993.
Сергеевич В. И. Русские юридические древности. СПб., 1902.
Фроянов И. Я. Начала русской истории. М., 2001.
1252. Меж Ордой и орденом
24 июля 1252 г. в канун памяти святых Бориса и Глеба под стенами Владимира явилась ордынская рать. Событие было чрезвычайное по многим причинам. Двенадцать лет на Руси не видали вооруженных монголов. К тому же на сей раз пришли они не сами собой, а были «наведены» одним из русских князей на другого. А что еще более существенно, приход войска царевича Неврюя по просьбе князя Александра Ярославича означал, что этот сильнейший из князей Северо-Восточной Руси сделал окончательный выбор в пользу союза с Ордой – выбор, в значительной степени определивший весь дальнейший ход отечественной истории, ибо с прихода «неврюевой рати», собственно, и начинается установление на Руси ордынского ига.
Нашествие и иго
Тринадцатое столетие – век глубокого перелома в истории Руси. Со времени выхода в свет «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина перелом этот связывают с установлением «монгольского ига». Это удивительное слово в значении формы военно-политической зависимости со «страдательным» оттенком, впервые введенное в ученый обиход Карамзиным, пережило в школьных учебниках императорский и советский периоды и удерживается до сих пор.
Иго (латинское jugum от jungere – «соединять») – всего-то навсего воловье ярмо, которое надевали на шею побежденному предводителю варваров во время триумфального входа военачальника-победителя в Рим. Выбирая именно это слово, Карамзин следовал библейской церковнославянской традиции, в которой оно употребляется в двух смыслах: как ярмо, бремя, тяжесть (в прямом и переносном смыслах) и как владение, господство.
Обычно такие художественные образы в научном и школьном обиходе не приживаются, но «иго» живет уже второе столетие. Живучесть слова, по всей видимости, объясняется его замечательными «камуфляжными» свойствами, благодаря которым в массовом сознании россиян двухсотлетние отношения с Ордой представляются едва ли не непрерывным Батыевым погромом.
Если присмотреться внимательно, то окажется, что под игом понимается форма даннических отношений, при которых русские князья обязаны были периодически выплачивать ордынским ханам денежную дань и предоставлять войска для ордынских походов, а взамен получали ханский ярлык на княжение – удостоверение, что предъявитель находится под защитой и покровительством хана. Отношения такого типа были широко распространены как в Западной Европе, так и на Востоке и в своей наиболее известной форме называются вассальными отношениями. Ничего унизительного, по средневековым понятиям, даннические отношения не заключали. Для чего же понадобилось называть эти отношения туманным словом «иго»?
Ответ, по всей видимости, заключается в том, что «иго» позволяет избежать бестактного разговора об обстоятельствах и способах установления этой зависимости. «Иго» продолжает воспроизводиться в наших учебниках, чтобы закамуфлировать тот неприятный факт, что зависимость Северо-Восточной Руси от Золотой Орды есть результат сознательного выбора и целенаправленной политики князей.
Едва ли не во всех доступных широкой публике учебниках и популярных исторических сочинениях дело представляется так, будто пресловутое иго установилось сразу после Батыева нашествия 1237–1240 гг. Беда, однако, в том, что даннические отношения такого рода не «возникают», не «складываются» и не «устанавливаются» сами собой. Это договорные отношения, и они должны быть зафиксированы юридически значимым актом. В Западной Европе вассал должен был, став на колено, произнести формулу присяги – оммажа, сюзерен – нанести ему символический удар мечом плашмя по спине и также произнести свою часть ритуальной формулы; в Монгольской империи был особый ритуал, скреплявший отношения старшего хана с поступавшим под его власть «улусником».
Первым из русских князей совершил этот обряд по монгольскому обычаю великий князь владимирский Ярослав Всеволодович. Старейшее из сохранившихся до нашего времени повествований об этих событиях – Лаврентьевская летопись – эпическим слогом сообщает, что в 1243 г. великий князь Ярослав поехал к Батыю, а сына своего Константина послал к великому хану в Каракорум; Батый же «почтил Ярослава великою честию» и даровал ему старейшинство во всей Руси[3]. То есть князь по собственной воле отправился в Сарай на Нижней Волге – кочевую ставку только что вернувшегося из похода в Западную Европу Батыя, принес присягу, по-монгольски – шерть, и сделался данником хана.
На следующий год его примеру последовали другие князья Северо-Восточной Руси – Владимир Константинович, Борис Василькович, Василий Всеволодович поехали в Орду и получили от Батыя ярлыки на свои «отчины».
Учебники даже если и упоминают об этих поездках, то, как правило, объясняют покорность князей Северо-Восточной Руси непреодолимостью монгольской силы, которой не могли противостоять разобщенные земли и княжества, опустошенные нашествием. Все эти традиционные аргументы имеют силу только с существенными оговорками.
Древнейшие наши летописи при описании нашествия действительно всячески подчеркивают многочисленность, силу и неутомимость «татар». Однако летописный текст не следует понимать буквально, летопись – не столько описание, сколько способ осмысления событий. Нашествие «иноплеменных» рассматривалось книжниками как бич божий, кара господня, а монголам приписывались черты библейских «нечистых» народов, появление которых знаменует начало светопреставления. Летописные фрагменты, повествующие о нашествии, часто буквально совпадают с текстами библейских пророчеств.
Ранние летописи по этой причине не содержат никаких цифр. Единственное точное указание численности монгольского войска находится в позднейшем и недостоверном источнике, знаменитой «Задонщине», где сказано, что «у Батыя было четыреста тысящ окованныя рати», то есть только тяжелой конницы. Это, разумеется, преувеличение, такого множества бойцов не было во всей Монголии xiii в. Противоположную крайность представляет мнение Льва Гумилева, утверждавшего, что «у Батыя и его братьев было всего 4 тысячи всадников». Однако невозможно представить себе, чтобы такое малочисленное войско прошло без единого поражения от Волжской Булгарии до Адриатики, разгромив не только русские полки, но и шестидесятитысячную польско-немецко-моравскую рать в битве при Легнице. Широкое распространение получили расчеты В. В. Каргалова, оценивавшего общую численность Батыева войска в 120 тыс. воинов на том основании, что обычно монгольские ханы командовали в походе туменом (по-русски – тьма, отряд численностью 10 тыс. человек), а вместе с Батыем пришло от 12 до 14 ханов. Но цифра, полученная Каргаловым, по всей видимости, требует уточнения. В современной научной литературе большее доверие вызывает другой способ расчета. В 1235 г. на съезде монгольской знати – курилтае – было решено отправить в Великий поход на Запад половину всех имперских сил, то есть, по расчетам современных демографов, примерно 70 тыс. человек. Войско действительно немалое, но едва ли можно говорить о подавляющем превосходстве монголов в живой силе даже во время кампаний 1237–1240 гг., не говоря уже о времени после 1242 г., когда значительные силы, подчинявшиеся непосредственно императорскому правительству, оставили приволжские степи, где Батый образовал собственное государство – Золотую Орду. Название, кстати, условное, оно появляется в русских источниках xvi в., когда основанная Батыем держава уже распалась на отдельные ханства. Сами монголы называли эту территорию «улусом Джучи», то есть землей, принадлежащей сыну Чингисхана Джучи и его наследникам.
Степень разорения Руси в 1237–1240 гг. также сильно преувеличивается в результате излишнего доверия историков летописным эсхатологическим описаниям. Смоленское, Пинское, Витебское, Полоцкое княжества и большая часть Новгородской земли вообще не были затронуты нашествием. Но и взятие Батыем того или иного города было событием, разумеется, трагическим, однако отнюдь не катастрофическим. Все крупные города, которыми овладели монголы, в дальнейшем продолжали существовать в качестве значительных центров. Летописное известие о том, что «весь Киев разбежался», «не терпя татарьского насилья», относится к 1300 г., то есть окончательный упадок Киева наступил через семь десятилетий после нашествия и под влиянием совершенно иных факторов. Единственная столица крупного древнерусского княжества, на месте которой нет современной городской застройки, Старая Рязань, длительное время претендовала на звание русских Помпеев – города, погибшего в одночасье под ударами монголов. Но это представление не соответствует летописным и археологическим источникам. «Повесть о разорении Рязани» описывает восстановление города непосредственно вслед за нашествием таким образом: «Благоверный князь Ингварь Ингваревич, названный во святом крещении Козьмой, сел на столе отца своего великого князя Ингваря Святославича. И обновил землю Рязанскую, и церкви поставил, и монастыри построил, и пришельцев утешил, и людей собрал. И была радость христианам, которых избавил Бог рукою своею крепкою от безбожного и зловерного царя Батыя». Археологические изыскания последних десятилетий подтверждают, что Старая Рязань в течение по крайней мере столетия после нашествия не только была оживленным городом, о чем говорит обилие керамики второй половины xii – начала xiv в., но и сохраняла статус важного политического центра. Об этом, в частности, свидетельствует обнаруженная здесь медная пластина, украшенная золоченым рисунком поверх черного лака. Эта очень дорогая техника, как правило, употреблялась для украшения парадных дверей главных соборов крупнейших городов. Замечательно, что старорязанская пластина датируется xiv в.
В целом современные археологи убеждены, что упадок многих поселений, ранее приписывавшийся монгольскому нашествию, произошел существенно позже и под действием факторов климатического характера. Появление монголов совпало с длинной чередой чрезвычайно дождливых лет, в результате чего старые пашенные участки в речных долинах были заброшены, зато велась распашка более возвышенных земель на водоразделах. Население перемещалось и вследствие истощения лесных угодий, что негативно сказывалось на лесных промыслах и связанной с ними торговле пушниной, медом и воском. Эти перемены неизбежно должны были привести (и в полстолетия привели) к изменению сравнительной мощи городских поселений, некоторые из которых пришли в упадок, вовсе не пострадав во время «Батыева погрома». Разруха, вызванная собственно нашествием, продолжалась недолго, и «структуры повседневности» были восстановлены в кратчайшее время. Показательно, что уже в 1239 г. великий князь владимирский Ярослав Всеволодович собрал довольно сил для крупного похода и разорил город Каменец на границе Киевских земель, где княжил в это время его противник Михаил Черниговский, а на обратном пути разбил литовский отряд, вторгшийся в пределы смоленской земли, и «урядил» смолян, «посадив» им против их воли князя Всеволода Мстиславича.
Таким образом, современная наука накопила немало доказательств того, что разрушительные последствия монгольского нашествия в традиционной литературе сильно преувеличены. Страна хотя и понесла значительные потери, но сохранила достаточно сил для сопротивления монголам и отстаивания независимости. Так, во всяком случае, считали многие влиятельные современники событий, князья и лидеры городских общин. Ориентация Северо-Восточной Руси на союз с Ордой утвердилась в результате острой внутренней борьбы.
