Выбирая свою историю. Развилки на пути России: от Рюриковичей до олигархов
Text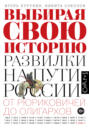


Go to audiobook
- Size: 930 pp.
- Genre: Russian history, General history, политика и власть, popular history
Деревня и город Руси
Мирные и насильственные присоединения московских князей подробно описаны в учебниках, как и конфликты Москвы с Ордой или Литвой. При этом в тени остается тихая повседневная практика создания нового «образа жизни» на просторах Северо-Восточной Руси и порядка, который шел на смену домонгольским обычаям взаимоотношений власти и подданных.
Именно в это время на Руси постепенно меняется культурный ландшафт. Вместо больших прибрежных поселений появились разбросанные на значительном расстоянии деревеньки. Обиход в деревне xiv в. стал беднее по сравнению с домонгольским временем: почти исчезли металлические украшения, стеклянные бусы и импортные товары – Русь переходила к натуральному хозяйству. Такая «перестройка» происходила не только в центре, но и в северных землях, не затронутых монгольским нашествием. Ее вызвали внутренние причины: климат в xiii – xiv вв. стал более холодным и влажным – трудно стало пахать в поймах и на низких террасах рек. Постепенный рост населения и исчезновение ценной пушнины сокращали возможности промыслов и торгового обмена. Выход был один – отрывочные сведения из сохранившихся грамот сообщают, что в xiv в. возобновляется освоение новых земель под пашню, впервые упоминаются водяные мельницы и новая культура – гречиха. Спокойные «залесские» земли привлекали переселенцев из разоренной Южной Руси. На новых местах появлялись деревни и слободы. До xvii в. средневековая община обычно состояла из села (5–10 дворов) и тяготевших к нему 15–20 деревень (по 2–4 двора).
Крестьянская община существовала и на Западе. Там в условиях развития городов и товарно-денежных отношений господа предпочитали получать устойчивую денежную ренту и предоставляли мужикам-вилланам хозяйственную самостоятельность. Недостаток свободных земель заставлял крестьян интенсифицировать свой труд и приспосабливаться к условиям рынка. В xvi в. уже появились настоящие фермеры, скупавшие землю или арендовавшие ее у сеньора. Такой путь развития стимулировал появление частной собственности на землю. Крестьянская община существовала еще долго: обеспечивала соседям пользование угодьями и форму местного самоуправления – для защиты от рыцаря-разбойника, для содержания приходской церкви или школы. Но она не регулировала повседневную экономическую жизнь крестьянина.
В нечерноземной Северо-Восточной Руси рабочий сезон крестьянина был коротким – с мая по сентябрь, в то время как во Франции и Англии на полях не работали лишь в декабре и январе. Бедные почвы и худшие климатические условия обеспечивали низкие урожаи – четыре-пять центнеров с гектара (во Франции – в два раза больше). Хорошим урожаем в Нечерноземье считался «сам-четыре», но при этом около четверти урожая предстояло отдать в виде оброка землевладельцу, а каждый седьмой-восьмой год был в средневековой Руси неурожайным. Особенно тяжело приходилось, когда неурожай совпадал с эпидемией или эпизоотией, как, например, в 1309 г.: «Мор на люди и на кони и на скот; мышь поела рожь и овес, и пшеницу, и всяко жито». Тогда даже в скупых строках летописей прорывалось отчаяние: «О, горе бяше… по торгу трупие, по улицам трупие, по полю трупие, не можаху псы изъедати человецы».
В таких условиях крестьянин со своим неустойчивым хозяйством постоянно нуждался в поддержке общины. Возник обычай крестьянских «помочей» во время страды, при постройке новой избы, на содержание сирот, вдов, увечных и стариков. Община же была жизненно заинтересована в том, чтобы в ней не было нищих, чтобы все земли и сенокосы использовались максимально эффективно, для чего их надо было перераспределять. В деревне начались «поравнения» – передел земель между общинниками в зависимости от количества работников в семье. Русская крестьянская община постепенно стала приобретать важные отличия от западной; пройдет время, и в ней исчезнет частная собственность на землю.
В xix в. получившие университетское образование господа рассуждали о соборности (в смысле христианского единства, противостоящего как западному индивидуализму, так и социалистическому коллективизму) и нравственности природы мужика. Их оппоненты веровали в особую склонность того же мужика к социализму. Вот только мужик об этом не подозревал, что стало сюрпризом и для тех, кто пошел «в народ» звать его «к топору», и для умилявшихся верности народа «престол-отечеству».
Утверждение общинной собственности на землю произошло не само собой и не в силу особого «русского духа». В xv в. общинник еще мог свой участок продать соседу или человеку со стороны, хотя и с согласия односельчан и с условием несения тех же повинностей (тянуть тягло), что и прежний хозяин. Но чем больше требовал от мужиков вотчинник, чем сильнее давил налогами князь, тем больше следила община, чтобы «тягло» несли все поровну.
Князья же в это время раздавали земли светским и духовным слугам. Получавшие новые владения (относительно небольшие вотчины) слуги стали называться «детьми боярскими». Во второй четверти xv в. они уже предстают сплоченной общностью воинов, состоявших на службе великого князя Московского Василия ii Темного. Среди них были потомки князей (например, утратившие титул Волынские, Ржевские), обедневшие бояре (Аксаковы, Апраксины, Румянцевы), совсем незнатные вотчинники и даже выделившиеся из общины и поступившие на княжескую службу крестьяне (Касаговы, Нелидовы-Ракитины) и слуги бояр (Козодавлевы).
В xv в. городовые корпорации детей боярских принимали участие во всех важнейших военных акциях московских князей: они защищали Василия ii от родственников во время борьбы за московский стол, сражались с татарами и литовцами. Их было не очень много: в сражении с татарами 7 июля 1445 г. под Суздалем участвовало 1,5 тыс. воинов, в 1456-м против Новгорода Василий ii послал пятитысячную рать.
Уровень экономического развития страны был невысок: в обычном княжестве xiv в. было два-три города, в то время как в Германии в xiv – xv вв. появились сотни новых городов. В Москве только в xiv в. появились объединения купцов, торговавших со странами Средиземноморья («гости-сурожане», известны с 1357 г.), Литвой и «немцами» («суконники», известны с 1382 г.), в Вильно, Риге и Дерпте находились русские кварталы. У «гостей» занимали крупные суммы даже князья, а иные купцы становились в Москве видными администраторами, как Василий Ховрин – «гость да и болярин великого князя». Вместе с «гостями» городскую общину составляли «черные люди», объединенные в сотни и слободы, во главе их стояли купеческие старосты, участвовавшие в суде вместе с княжеским наместником.
Но в русских городах так и не произошла «коммунальная революция» – создание собственного самоуправления и суда. Представителем городской общины перед князем был тысяцкий. В первой половине xiv в. его власть в Москве была настолько велика, что в договоре Семена Гордого с братьями для тысяцкого отведено место тотчас после великого князя. Назначал тысяцкого князь, но это не мешало тысяцким при поддержке бояр и горожан становиться силой, с которой приходилось считаться, тем более что тысяцкие стремились передать свою должность по наследству. В Твери она сделалась наследственной в роде Шетневых, в Москве – в руках бояр Хвостовых и Воронцовых-Вельяминовых. В Москве в xiv в. вокруг этого поста началась борьба.
В 1356 г. старый московский тысяцкий, боярин Алексей Петрович Хвост, был убит. «Убиение же его произошло как-то удивительно и непонятно, – рассказывает летописец-современник, – точно он был убит неведомо от кого и неведомо кем, только оказался лежащим на площади, некоторые говорят, что на него втайне составили заговор и приготовили западню, и так от всех бояр общею думою был убит». Загадочное убийство вызвало срочный отъезд из Москвы на Рязань «больших бояр» и «мятеж» на Москве.
Должность была опасной для княжеской власти. Не случайно Дмитрий Донской решил ее упразднить. Оскорбленный сын умершего тысяцкого Василия Вельяминова Иван в 1375 г. бежал в Тверь и получил в Орде для тверского князя Михаила Александровича ярлык на великое княжение владимирское, что вызвало новую московско-тверскую войну. Вельяминова же схватили «хитростью», привезли в Москву и публично казнили: «Множества народа стояще, и мнози прослезиша о нем и опечалишася о благородстве его и о величествии его». Можно предположить, что за Вельяминовым и Некоматом стояла группа гостей, для которых мир с Золотой Ордой был чрезвычайно важным. Однако рядовые горожане скорее теряли от уничтожения должности тысяцкого, связанного с посадом и защищавшего его права и интересы.
Загадка Дмитрия Шемяки
Во второй четверти xv в. в Москве вспыхнула война между сыном Василия Дмитриевича Василием ii (1425–1462) и его дядей, князем звенигородским и галичским Юрием, и его детьми Василием Косым, Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным. Юридической основой спора, приведшего к войне, были духовные грамоты Дмитрия Донского, «приказывавшего» свою отчину «всем детем своим» – Василию, Юрию и другим, и противоречившее им завещание Василия i, отдававшее Москву и «великое княженье» не братьям, а сыну Василию ii.
Дважды князь Юрий Дмитриевич лишал соперника московского стола. В 1434 г. Василий ii бежал в Новгород, оттуда в Тверь, но поддержки не встретил нигде и даже собирался… уйти в Орду. Его счастливый соперник уже чеканил монету с изображением всадника, поражающего змия (будущий московский герб), но внезапно умер. Неудачливый Василий ii вернул себе столицу только с помощью сына своего врага – Дмитрия Шемяки. Серия сражений окончилась разгромом Василия Косого. Но Василий Васильевич не чувствовал себя бесспорным главой государства, о чем свидетельствует хотя бы чеканка «деньги» от имени двух «великих князей» – его и двоюродного брата Дмитрия, ставшего в 1444 г. новгородским князем.
В 1445 г. Василий ii вновь был разбит, на этот раз войском казанского царя, попал в плен к татарам и обязался выплачивать огромный «окуп». Тогда Дмитрий Шемяка в 1446 г. вновь захватил Москву, он выколол Василию глаза и взял с него «проклятую грамоту» об отказе от великого княжения. И вновь свергнутый и слепой князь сумел объединить своих сторонников: в декабре 1446 г. его отряд захватил Москву, а в следующем году Василий ii вернул себе великое княжение. В 1450-м начался заключительный этап долгой борьбы: великокняжеское войско двинулось на столицу Шемяки – Галич. Дмитрий отправил жену и детей в Новгород. Будучи наголову разбит, он все-таки не сложил оружия: Новгород по-прежнему признавал Шемяку великим князем, и еще несколько лет его отряды действовали на Севере, захватили и удерживали Устюг, воевали с Тверью.
В июле 1453 г. проклятый церковью Шемяка умер в Новгороде. Ссылаясь на «людскую молву», независимая Ермолинская летопись сообщала, «что будто со отравы умер, а привозил с Москвы Стефан Бородатый» – дьяк Василия ii. Стефан передал зелье «Исаку посаднику, а Исак деи подкупил княжа Дмитреева повара именем Поганка, тот же даст ему зелие [то есть яд] в куряти».
Спустя 500 с лишним лет версия убийства подтвердилась: исследование мумифицированных останков князя показало, что Шемяка был отравлен соединениями мышьяка. Проигравший враг Москвы стал Новгороду не нужен. По иронии судьбы непримиримого противника Василия отправил на тот свет посадник Исак Борецкий, чья жена Марфа и сын Дмитрий будут отстаивать независимость Новгорода от сына победителя в этой драме.
Вплоть до xx в. основным направлением русского исторического процесса считалась борьба между мудрыми строителями государства и сторонниками раздробленности – «удельно-княжеской оппозицией». При этом историки постоянно опирались на традицию, сложившуюся в xvi в., когда летописцы рассматривали события прошлого века с позиции победителя.
Но так ли уж справедливо утверждение В. О. Ключевского, что «все русское общество… духовенство, князья, бояре и другие служилые люди решительно стали за Василия»? Ведь известно, что в 1446 г. московские торговые люди были на стороне Шемяки. Клан Юрия Дмитриевича и Дмитрия Шемяки действительно часто опирался на торгово-ремесленные посады Севера России – на мужиков-солеваров, по выражению А. А. Зимина. Именно на Севере – в Галиче, Вятке, Устюге – тогда развивалась соледобывающая промышленность, существовало свободное крестьянство и намечались пути, осторожно скажем, предбуржуазного развития России.
В одной из последних своих книг замечательный историк русского Средневековья Александр Александрович Зимин выделил «три тенденции, или силы, поступательного развития. Первая – Новгород и Тверь, которые богатели на транзитной торговле с Западом и Востоком. Как в торговле, так и в политике они балансировали между другими странами и землями. Вторую силу составляли Север и отчасти Поволжье, точнее, Галич, Вятка, Углич и Устюг. Север во многом еще смотрел в далекое прошлое, грезил о золотых временах безвластия. В варварстве северян был один из источников их силы. Север и Поволжье этнически были не чисто русскими землями, а многонародными, имперскими. Кто знает, кого там жило больше – русских или пермяков, удмуртов или мари, чувашей или мордвы. Их язычество еще было достаточно сильно и враждебно казенному православию. Северу была присуща ценность, которой не знала Москва, – любовь к свободе…
Третья сила – хлебородный Центр с его холопьей покорностью властям и благочестивостью бессловесной паствы… Его средоточию – Москве – суждено было одержать победу в борьбе за единство Руси. Ключ к пониманию этого лежит в особенностях колонизационного процесса и в создании военно-служилого войска (Двора)… Ненасытные бояре и дети боярские, обнищавшие князья-изгои и пролезавшие в щели ветхого великокняжеского дворца дьяки ждали своего времени, будучи готовы на все, с тем чтобы получить землицу, а еще лучше – варницу за участие в походах великого князя против его недругов… «Оставя грады и домы» служилые князья, бояре и дети боярские создали ядро войска, для которого война стала делом всей жизни… Стоял вопрос, по какому пути пойдет Русь: по предбуржуазному, который развивался на Севере с его соледобывающей промышленностью, или по крепостническому?
(Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России xv в. М., 1991. С. 200–204, 209)
В то же время другие специалисты скептически оценивают шансы «победы» торгово-ремесленных посадов и свободного крестьянства русского Севера над московским военно-служилым и землевладельческим Центром.
(Панеях В. М. Панорама истории России xv – xvi вв. А. А. Зимина // Отечественная история. 1992. № 6. С. 79)
Трудно разделить участников этой войны на «сторонников феодальной раздробленности» и «проводников централизации». Отец Ивана iii не был борцом ни против уделов, ни за освобождение от ордынского ига. Напротив, в столкновениях с Юрием Дмитриевичем, а затем с Шемякой Василий Васильевич не раз опирался на помощь хана. Новгородские летописи сообщают, что успех заговора против Василия ii был обусловлен его неудачей в борьбе с татарами и сбором огромного выкупа, дабы выручить Василия ii из ордынского плена. Дмитрий Шемяка и его союзники схватили великого князя и ослепили его с обвинениями: «Чему еси татар привел на Рускую землю, и городы дал еси им, и волости подавал еси в кормление? а татар любишь и речь их паче меры, а крестьян томишь паче меры без милости, а злато и сребро и имение даешь татаром».
Противники московского князя были энергичными правителями и полководцами. Они не выступали за возвращение к временам раздробленности и, в отличие от Василия ii, стремились к борьбе с Ордой, хотя, когда ситуация вынуждала, за помощью к «царю» Мамутяку обращался и Шемяка. Юрий и его дети яростно сражались за Москву, но скорее стремились восстановить «старину» в виде федерации самостоятельных княжеств под московским руководством и опирались на свои «дворы» и свои провинциальные земли. Дмитрий Шемяка даже успел воссоздать на короткое время ликвидированное Василием i Нижегородско-Суздальское княжество. Потеряв Галич, он пытался создать особое, союзное с Новгородом государство на севере страны с центром в Устюге.
Во всяком случае, на Руси были люди, которые так мыслили. Составленный в 1430-е гг. в Новгороде или Смоленске летописный свод (Новгородско-Софийский) имел общерусский характер. Его главная идея – единство Русской земли и ее князей в борьбе с ее внешними врагами, осуждение внутренних раздоров и усобиц. Свод подробно рассказывал о тверском восстании против татар в 1327 г., Куликовской битве, ее герою посвящено «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского». Но вместе с тем летописец постоянно напоминал о правах новгородцев «вводить» к себе князей и «показывать им путь», если они не соблюдают новгородский «наряд» (то есть порядок, устройство), хвалил мужество тверских и смоленских князей, осуждал предательство Олега Рязанского во время Куликовской битвы. Отмечая заслуги Москвы, он признавал права и независимость отдельных земель, подчеркивал необходимость соблюдения князьями договоров.
В Москве xiv – первой половины xv в., в отличие от западноевропейских королевств, не было выработано правового порядка передачи власти ни по прямой нисходящей линии, ни по «очередной системе» – старейшему в роде. В xiv в. воля хана была законом, спустя 100 лет уже можно было обойтись без нее. В борьбе соперники использовали разные формы легитимизации власти: опору на старейшинство, передачу власти по наследству и по завещанию, а также путем завоевания, дворцового переворота, приглашения на престол, обращения к хану. В такой борьбе могла родиться новая правовая формула монархии, твердый порядок престолонаследия, но этого не произошло: в московском обществе не нашлось ни политического лидера, ни сил, которые бы смогли утвердить новые представления об устройстве государства. Победила в итоге «вотчинная» традиция, когда государь-отец делит государство на уделы с преимуществом для старшего сына.
Не слишком удачливый, хотя и храбрый Василий ii победил потому, что за ним пошел «государев двор» – военно-административная корпорация знатных и незнатных слуг московских князей. В завещании Ивана Калиты среди прочих встречается распоряжение: «А что есмь купил село в Ростове Богородичское, а дал есмь Бориску Воръкову, аже имет сыну моему которому служити, село будет за ним, не имет ли служити детем моим, село отоимут». Неведомый Бориска стал одним из первых русских помещиков, владевших землей только при условии пожизненной и безусловной военной службы. Хитрый князь одним из первых оценил преимущества поместного землевладения.
Эти люди в той или иной мере способствовали принципиальному изменению политического порядка – смене вольной личной службы личной зависимостью всех служилых людей. В последней четверти xv столетия начала создаваться поместная система: на место сравнительно небольшого числа привилегированных вотчинников и их вассалов выдвинулись десятки тысяч помещиков, сидевших на государственной земле (нередко конфискованной у князей и бояр) и обязанных постоянной и безусловной службой своему государю.
Новгород и Тверь, занятые внутренними делами, не вмешивались в борьбу Василия ii и Юрия Дмитриевича. Новгородцы по очереди принимали к себе проигравших князей – сначала Василия, потом Дмитрия. Тамошние летописцы с некоторым превосходством описывали московские неурядицы: «Князь Василей выбежа во Тферь, и приехаша к нему князи и бояри и татари, и слышав князь Дмитрий и князь Иван Можайский, и выехаша за Волгу и Галич и на Кострому и на Вологду, и стоаху [стояли] противу себе о реце о Волге, а новгородци не вступишася ни по едином, а землю Русскую остаток истратиша, межи собой бранячися».
Скоро новгородцам пришлось расплатиться за близорукость: в 1456 г. многочисленное, но нестройное новгородское ополчение было разгромлено профессиональной московской конницей. Статья Яжелбицкого договора 1456 г., подписанием которого завершилась эта война, предписывала «Великому Новугороду… Ивана Дмитреевичя Шемякина и его детей, и его матери княгини Софьи и ее детей и зятьи Новугороду не приимати».
Поражение Новгорода в 1456 г. стало поворотным моментом в его отношениях с Москвой. Но, кажется, тогда бояре этого не поняли. Они «сдали» Василию жену и детей Шемяки, как тремя годами ранее его самого, выплатили огромную контрибуцию и успокоились. В 1478-м сын Василия ii без особой борьбы ликвидировал новгородскую независимость. В 1485 г. настала очередь Твери, столь же напрасно полагавшейся на союз с Литвой и помогавшей Москве в войне с Новгородом.
Наконец, был еще один, никем не планируемый результат многолетней усобицы. Как полагается во время гражданской войны, великие и удельные князья «и воевали, и грабили, и полон имали», людей «безчислено пожигали», «в воду пометали», «иным очи выжигали, а иных младенцев, на кол сажая, умертвляли». Татары продолжали опустошительные набеги «до самого рубежа Тверского». Жителей разоренных городов и сел пугали «лютая зима», «великий мор», частые неурожаи: «Мнозе от глада падающе умираху, дети пред родители своими, отцы и матери пред детьми своими; и много разидошася: инии в Литву, а инии в Латиньство, инеи же бесерменом и жидом ис хлеба даяхуся [то есть продавали себя в холопство] гостем».
В этих испытаниях потихоньку исчезли городские вечевые собрания. Судя по междукняжеским договорам, князья имели право посылать своих наместников в города, чтобы «очищать холопов наших и сельчан», то есть возвращать ушедших в город подданных. Этим русские «посады» отличались от развитых центров Западной Европы, где «городской воздух делает свободным»: по прошествии года и одного дня проживания в городе человека нельзя было вернуть в зависимость от прежнего владельца. Последующее «собирание земель» в одном Московском государстве завершило этот процесс, уничтожило почву, на которой могли действовать вечевые институты. Как писал А. А. Зимин, «градус несвободы повысился». И все же в конце xv – первой половине xvi в. самодержавие не могло существовать без «земства» и местного самоуправления – у него еще не было армии солдат и чиновников. Самодержавно-крепостнический путь развития еще не был предопределен.
Подробнее на эту тему
Борисов Н. С. Иван Калита. М., 1995.
Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России xv в. М., 1991.
Кривошеев Ю. В. Русь и монголы: Исследования по истории Северо-Восточной Руси xii – xiv вв. СПб., 1999.
Лурье Я. С. Две истории Руси xv века. СПб., 1994.
Пашуто В. Т. Голодные годы в Древней Руси // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1962. Минск, 1964.
