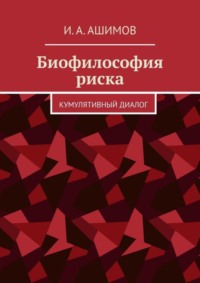Read the book: «Биофилософия риска. Кумулятивный диалог»
© И. А. Ашимов, 2024
ISBN 978-5-0064-5642-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Следует подчеркнуть очевидную важность формирования клинической рискологии и рассмотрения проблем неотложной хирургии тяжелых повреждений организма с ее позиции. На наш взгляд, в ее задачу должна войти не только характеристика риска в широком плане, но и снижение его вероятности и улучшение результатов его разрешения. Целью данного научного труда было освещение сугубо познавательных, методологических и биофилософских аспектов ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента. Проблема выбора решений рассмотрена нами с позиции биофилософии, оптимологии и системологии. По нашему мнению, эти научные направления, сопоставимые по уровню общности с кибернетикой и синергетикой, предлагают свое, особое, оптимизационное мышление, особый подход к разрешению указанных ситуаций.
Логика заставляет нас обратить внимание на процессуальные аспекты выбора оптимального решения как способа разрешения ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента в медицинской практике. В этой связи мы, впервые опираясь на результаты современной методологии, принимая во внимание многообразные свойства ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента, проанализировали их на базе расчленения и группировки свойств, признаков и отношений по признакам сходства и различия, объединив сходные свойства в следующие группы: системно-организационные или программно-базовые; структурно-функциональные; случайные и функционально-ролевые, ситуативные; элективно-аксиологические; интегрально-поведенческие.
В указанном аспекте следует акцентировать вниамание читателей на существование двух механизмов оценки качества организационно-методических и лечебно-тактических мер: сопоставление результатов, достигнутых лечебным учреждением или здравоохранением в целом за некоторый период с моделью конечных результатов; оценка соблюдения стандартов обследования, лечения и качества. Так, на наш взгляд, актуальными являются составление системно-информационного представления о проблеме в целом и построение действий хирурга на этой основе, а также разработка «Территориальной базовой программы» действия хирургов, предполагающей стандарт качества с нормативным значением.
На основании собственных исследований впервые построена шкала оценки наборов решений различных хирургических ситуаций. «Научившись» оценивать качество, мы попытались изучить суть ситуации риска в хирургии. Нами предложены обобщенные критерии оценки свойства риска, крайней необходимости и эксперимента: критерий альтернативности (когда хирург имеет возможность выбора вариантов операции в пользу операции с малым риском); угрозометрический критерий (когда у хирурга есть возможность избежать или снизить угрозу неблагоприятного исхода или осложнения); критерий неопределенности (когда хирург все же имеет возможность разрешить возникшую неопределенность ситуации); прогностический критерий (когда есть возможность предвидеть и разрешить неопределенность ситуации).
С нашей точки зрения, о ситуации эксперимента следует говорить тогда, когда по критерию альтернативности хирург вообще не имеет каких-либо вариантов операции; по угрозометрическому критерию угроза реализована в высокой степени, а хирург не имеет шансов на возможность снизить эту угрозу; по критерию неопределенности хирург находится в полной неопределенности и у него нет возможности ее разрешить; по прогностическому критерию хирург не в состоянии сделать прогноз ситуации. Хотелось бы заметить, что к стратегическому познанию ситуации риска как объекта системно-методологического исследования целиком относится процесс формирования математической модели тяжелых повреждений организма.
Следует отметить существование двух типов моделей: с одной стороны, это модели-механизмы, опирающиеся на причинно-следственные связи наблюдаемого явления (факторная модель), а с другой – модели-экстраполяторы, которые позволяют нам, не зная механизма явления, прогнозировать (экстраполировать) реакцию субъекта на определенные ситуации, важные для субъекта (вероятностные модели). Хирургу важно в своей познавательной деятельности опираться на модели обоих типов, и поскольку они важны при решении тактических задач, которые связаны с достижением текущих целей. Безусловно, неопределенность всегда воспринимается тягостно, а потому естественной реакцией субъекта является активизация программы поиска, которая, как правило, сопровождается чувством страха, неуверенности, тревоги, сожаления. Именно отсутствие модели в этой ситуации (речь идет о территориально-базовой программе действия хирурга при ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента) делает поведение хирурга крайне осторожным, замедленным, неоптимальным.
Риск – это «деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели». Мы считаем нужным заострить внимание на двух моментах: роли количественной характеристики патологии в разрешении ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента; роли оптимизации принятия решений как способа минимизации эмпирического риска. Для хирурга и анестезиолога-реаниматолога важно оценить степень сложности хирургической ситуации, определяющую как хирургическую, так и анестезиологическую тактику. В этой связи целесообразно ориентироваться на такой интегральный показатель, как степень сложности хирургической ситуации (I – II – III ст.), учитывающий зависимость конкретной ситуации от степени неопределенности, степени реализации угрозы, степени прогнозирования последствий выбора той или иной альтернативы оперативного вмешательства.
В ситуациях вынужденного расширения параметров операции хирургическая бригада должны использовать адекватную тактику лечения, направленного на ликвидацию опасных последствий, стабилизацию кризиса. При этом необходимо ориентироваться на интегральные показатели функций жизненно важных органов и систем как показатель изменения когнитивного статуса больного. Книга может привлечь внимание философов, интересующихся как биоэтической проблемой, так и методологической проблематикой клинической медицины, научных работников, интересующихся вопросами теории познания и социализации врачебной деятельности, а также врачей всех специальностей и студентов.
Введение
Проблематизация этики разрешения рисковых ситуаций как объекта биофилософии
Существует выражение: «Есть правила для выбора решения, но нет правила для выбора этих правил». Ход мысли в жизни любого ученого либо мыслителя вновь и вновь будет осмысливаться, но вновь выработанные на основе осмысления правила снова и снова окажутся недостаточными для решения тех или иных проблем следующего уровня. И так до бесконечности. В этом суть процесса бесконечного познания, когда «… всякая деятельность исходит из знаний, содержащих пробелы. При такой неуверенности можно воздержаться от действий либо действовать с риском» [В.Н.Сагатовский,1972].
Человек по своей природе всегда субъективен и конформичен, бессознательно приспасабливается к любым требованиям или условиям. Между тем правильное решение требует от человека прежде всего критической оценки ситуации и мужества сказать: «можно сделать лучше». Следует отметить, что рассудочные знания и умения могут противоречить друг другу [И.Т.Фролов,1981]. Объединение рассудочных знаний в разумную систему направляется не стандартом мышления и действия, не сиюминутным интересом, а более высокими целями добра и человечности. В этом случае человек поднимается на уровень заботы о Человеке и только с этой высоты следует решать дилеммы о том, каким – хорошим или плохим – будет результат такого выбора [В.Н.Сагатовский,1972].
Хотелось бы отметить то обстоятельство, что медицина как никакая область человеческой деятельности насыщена дилеммами [Н. Ардашева,1995]. Это и понятно, поскольку речь идет о сохранении человеческой жизни. Проблема хирургической агрессии во имя спасения жизни больного представляет собой столь многоаспектную проблему, что разрешить ее только на уровне конкретной области невозможно. Необходимо прибегнуть к помощи науки, которая оперировала бы данными на более высоком уровне обобщения, абстрагируясь от частных конкретных явлений [И.А.Ашимов,2002]. Такой наукой выступает биофилософия, предоставляющая другим наукам методы объяснения, понимания и предсказания явлений, связанных с феноменом жизни [В.Г.Борзенков,1998]. Как же хирургам могут помочь философы? Прежде всего выполнением социально-философского анализа и выработкой способов разрешения многочисленных дилемм прежде всего морально-этического плана.
Имеющиеся данные, в том числе собственные, убеждают автора в том, что одной из причин все еще недостаточно оптимальных результатов разрешения клинических ситуаций является отсутствие до настоящего времени подробных исследований методического характера, проясняющих мотивацию диагностических и тактико-технических решений, в особенности при множественных и сочетанных травмах и ранениях органов грудной и брюшной полостей [Б.Э.Альтшулер и соавт.,1974; Б.А.Вагнер и соавт.,1980; Р.П.Аскерханов и соавт.,1987; М.М.Абакумов и соавт.,1989; Jenkinson S.G.,1985, Lewis F.R.,1986]. Восполнить этот пробел в рассматриваемой проблеме автор ставит своей целью в данной работе, а потому думается, что с монографией с интересом ознакомятся как начинающие, так и опытные хирурги.
Хочется надется, что, прочитав данную монографию, хирург, травматолог, нейрохирург, реаниматолог, организатор здравоохранения вновь переосмыслит свой личный опыт, а также опыт многих авторов и с честью выйдет из сложной ситуации. Допускаю, книга многих смутит и озадачит. Здесь и клиника, и философия, а значит конкретика и абстракция вместе, отсутствие ясности и четкости. Миссия данной книги – способствовать умению размышлять над знаниями, для того чтобы они могли послужить выработке правильного решения во имя жизни Человека. В этом и заключается миссия данной книги.
Следует подчеркнуть, что развитие биофилософии связано прежде всего с общей тенденцией поступательного движения знания от прежнего, традиционно-классического, идеала науки к новому нетрадиционному, неклассическому и далее – к неонеклассическому. Если классический подход ориентирован на исследование замкнутой, самодостаточной системы, характеризующейся определенной однородностью строения, равновесностью состояния и линейностью развития, то неонеклассический идеал познания направлен на представления о процессуальности, разнородности, неравновесности и нелинейности бытия.
Безусловно, в связи с постепенной сменой научной рациональности известные трансформации претерпевает и философия. В ней также происходят значительные подвижки, характеризующиеся все большим синтезом философского и научного знания в целом. Развитие биофилософии при этом осуществляется по пути более глубокого взаимопроникновения философии и биологии. Причем биомедицина своим мощным развитием на рубеже XX и XXI веков оказалась самой важной при формировании биофилософии.
До того времени философия, мучительно преодолевавшая односторонность и ограниченность своей методолого-гносеологической ориентации, остро нуждалась в новом ключевом понятии, способном стать центром кристаллизации новых метафизических и мировоззренческих построений. И вот в этих условиях, без слов, биомедицина оказалась мощным эвристическим началом в развитии философско-мировоззренческих исканий.
На наш взгляд, в медицине такой проблематикой является ситуация риска, крайней необходимости и вынужденного эксперимента. Полагаю, в этом аспекте данная монография состоялась как труд, имеющий системно-методологический характер. Допускаю различное восприятие и оценку данного произведения. Счел бы цель достигнутой, если высказанные суждения найдут отклик, стимулируя со-размышления и совместный поиск. Монографии дано название «Рискология: дилеммы, суждения, решения». Методом развертывания мышления выбран диалог. Действительно, осмысление своей науки и сферы профессиональной деятельности и есть постоянный диалог с самим собой. В монографии «Введение в литературоведение» [Г.Н.Поспелов,1983]. подчеркивается: «…диалог с максимальной активностью, риторической „заданностью“ выявляет положения данного момента в их повторимости, „материализует“ ход мыслей и динамику соразмышлений». «Для диалога характерны непринужденный и иерархический характер, отсутствие социальной и духовной дистанции между соразмышляющими» (в нашем случае – хирурга и человека; хирурга и ученого; хирурга и непрофессионального философа).
Общеизвестно, что хирург, травматолог, нейрохирург, как летчики-испытатели, разведчики или диспетчеры крупного аэропорта, вынуждены принимать жизнеопасные решения при остром дефиците времени, а иногда и необходимой информации [В.А.Соколов и соавт.,1998; В.А.Охотский,1998; Haller J.A. et al.,1984]. В указанном аспекте риск есть одна из неотъемлемых сторон хирургической специальности.
Известно, что риск оперативного вмешательства зависит от многих факторов, обусловленных сочетанием разнообразных патофизиологических, биохимических и клинических отклонений, возникающих в результате хирургической патологии, сопутствующих заболеваний, операции, наркоза и послеоперационных нарушений. При множественных и сочетанных ранениях важным и основополагающим является принцип взаимоотягощения, а потому риск операции во многом зависит от характера сочетания повреждений, сроков взаимоотягощения и пр. [А.Н.Нагнимбеда и соавт.,1986; Г.Д.Никитин и соавт., 1986; Н.В.Лашина и соавт.,1988; Ж.М.Маманазаров и соавт.,1999; Lee K.F. et al.,1984].
Подчеркивается, что одни факторы более определенны (характер заболевания, объем операции, возраст больного), другие могут возникнуть или выявиться в процессе самого вмешательства, а поэтому их нельзя учесть заранее (кровотечение, непереносимость наркотических препаратов, острая интраоперационная декомпенсация жизненно определяющих систем и др.) [М.И.Кузин,1963; А.Н.Кишковский и соавт.,1986; З.М.Мамедов и соавт.,1989; Allen J.B.,1981; Bodal B.J, et al.,1983]. Именно при множественных и сочетанных травмах и ранениях непредсказуемость последних бывает особенно выраженной.
Мы переживаем время активного наступления новой научной рациональности – неонеклассической науки. Уже давно идут дискуссии о самой рациональности этой науки. То есть решается вопрос: принимать эту научную рациональность либо ограничиться неклассической наукой? Итак, дилемма существует на таком уровне научной организации, как определение современной научной рациональности. В этой связи нахожу целесообразным изложить сущность новой научной рациональности в первой части данной книги.
На научном симпозиуме «Неонеклассическая наука – наука XXI века» (2006), организованном мною был обсужден круг вопросов становления неонеклассической науки в республике (на примере медицинской науки), связанных с включением субъекта деятельности в схему рациональности и производства теоретического знания. Во всем мире идет поиск ответов на вопросы: чем характеризуется современная мировая наука? насколько идеалы, нормы и методология познания соответствуют современным типам научной рациональности? Реальность такова, что хирургия оказалась методически перегруженной, а методологически – недогруженной. Необходимо сместить акцент в сторону повышения общетеоретического уровня и методологической нагруженности ее парадигм – таково мнение докладчиков и участников симпозиума.
Говорилось и о том, что, когда свободное общество предполагает равные права традиций, важна предсказуемость ценностной ориентации и целеполагающая характеристика науки и хирургии. Нас не может не интересовать вопрос: насколько наша хирургическая наука современна? Отвечает ли она современным идеалам неонеклассической науки? Неонеклассическая наука характеризуется качественным отличием от предыдущих этапов развития науки (классического и неклассического) [В.В.Ильин,1993]. Осмысление особенностей неонеклассического миропонимания представляет собой фундаментальную научно-методологическую проблему, результаты решения которой актуальны для неонеклассического обществоведения, культуры, естествознания, включая медицину, в частности, хирургию.
Мы солидарны с теми, кто утверждает, что назрела необходимость соразмерного развития морального сознания и хирурга, и его пациентов, а также активная гуманизация общества с наращиванием «положительного» баланса во взглядах на ценности [Н. Моисеев,1995]. Программные доклады содержат тезис: новый неонеклассический этап развития науки характеризуется переходом к поиску ценностно-целевого содержания научных работ и ценностно-целевой сопряженности в научной деятельности. Такой подход дает возможность рассмотреть смещение мировоззренческой парадигмы в хирургии в самых широких аспектах: философии, биофилософии, методологии, синергетики, математики, неонеклассического образования, социологии, медицины, религии, психологии.
Хотелось бы отметить следующее: мы не абсолютизируем неонеклассическую науку и не призываем ученых сиюминутно придерживаться ее Канонов. Однако следует понять: мы опаздываем со сменой научных взглядов, хотя по осмыслению методологических проблем хирургической науки и практики занимаем передовые позиции (!). И это благодаря тому, что мы вовремя отреагировали на запросы новой научной рациональности, имя которой – неонеклассическая наука. «Хирургия слишком серьезная специальность, чтобы ею занимались сугубо хирурги» (курсив – наш), поэтому не стоит зацикливаться на банальном прикладном характере этой специальности.
Выстраивая диалог, надеюсь, что научное сообщество сможет верно оценить, до какой степени вышеизложенные взгляды противоречат тому, очень обкатанному и согласованному кругу представлений, которые заслужили право называться классической наукой. Как важно быть понятым в стремлении передать свое убеждение в том, что благодаря осмыслению этого противоречия удастся со временем открыть во благо нашего научного сообщества гармонию неонеклассической науки – науки XXI века.
Глава 1
Диалог о природе ситуативных проблем в ракурсе неонеклассической науки
Мы живем в XXI веке. Это важный аргумент для того, чтобы ученый, научный коллектив или общество провел бы своеобразную ревизию своей научной стратегии: насколько наши познания соответствуют современным типам научной рациональности? чем характеризуется современная мировая наука? Между тем, нас в лучшем случае интересует – насколько наши научные методы и результаты соответствуют уровню мировой науки. К слову сказать, этим озабочено абсолютное большинство ученых, которые убеждены в том, что именно их методы и результаты научных исследований «догоняют» уровень мировой науки. Между тем они безнадежно отстали в отношении осмысления и внедрения в сознание ученых Канонов новой научной рациональности.
Не секрет, что при оценке научных исследований, в особенности диссертационных, у каждого из нас возникали и скепсис, и сомнения, и неудовлетворенность. Допускаем, что их было немало по диссертациям, выполненным с методологических позиций. Это ряд работ, вышедших из стен Проблемной лаборатории клинической и экспериментальной хирургии НХЦ. Между тем они выполнены с позиции новой научной рациональности и направлены на повышение общетеоретического уровня, фундаментальности и методологичности медицинской науки. Многим, возможно, до сих пор кажется, что мы «изобретаем» проблемы, что решаемые нами «такие» проблемы далеки от запросов медицинской науки и практики, что медицинская наука – сугубо прикладная, призванная решать, «как разрезать, зашить и заштопать?». Это ведет к принципиальному неприятию нашей науки. Справедлива ли такая ортодоксальная позиция наших ученых? Мы уверены в том, что смены научных взглядов уже давно продиктована необходимостью. Со сменой научных взглядов в хирургии «напряженка» во всем мире [И.А.Ашимов,2002]. В этом смысле в условиях постепенного диктата глобализации – расширения и увеличения масштаба и интенсивности научных, экономических, культурных связей во всем мире – когда наш мир становится все более единым, бесспорно, актуален призыв осмыслить запросы современного рационального типа науки.
В Концепции по реформированию науки в Кыргызской Республике в качестве основных мер определена адаптация современной республиканской науки к новым экономическим и методологическим условиям для полноправного участия в глобальных интеграционных процессах в сфере научной деятельности. В этой же концепции в качестве основных мер определена и разработка новых стандартизованных методов экспертизы научных исследований, оценки их качества, создания четких индикаторов эффективности и востребованности результатов НИР [И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов,1999]. В 2009 году на научной части годичной сессии Общего собрания НАН КР был заслушан блестящий доклад академика И.Т.Айтматова «О влиянии остаточных напряжений в горных породах на развитие динамических процессов их разрушения». Квинтэссенция его теоретического обобщения заключается в том, что масштаб разрушаемости геологических образований зависит от степени остаточного напряжения в объекте. По мнению автора, эта закономерность универсальна в природе и ее проявления можно экстраполировать даже на социальный процесс, когда постепенное накопление напряжения в обществе даже при минимуме внешнего воздействия может привести к социальному взрыву и последующему переустройству общества.
Исследования И. Т. Айтматова, бесспорно, выполнены в лучших традициях фундаментальной науки с выходом на уровень экоэтики и биофилософии и самое главное, затронутая им проблема осмыслена с позиции неонеклассической науки. Выводы автора подтверждают жизненность такого принципа этой науки, как формирование «организмического» понимания природы. Согласно указанного принципа, в настоящее время природу следует рассматривать как целостный живой организм, а не как конгломерат изолированных механических объектов [А.Л.Никифоров,1998]. Причем изменения в этой системе происходят в определенных пределах, а запредельные изменения ее означают переход в качественно иное состояние, приводящее в конечном итоге к необратимому разрушению целостности системы [И. Пригожин, И. Стенгерс,1994].
Неонеклассическая наука зародилась (конец 70-х и начало 80-х годов XX века) в результате очередной, четвертой по счету, научной революции. Понятие было введено академиком В.С.Степиным, для того чтобы обозначить качественно новый этап в развитии науки, связанный со становлением нелинейного естествознания [В.С.Степин,1992]. Проблема научной рациональности исследовалась многими авторами, среди которых К.-О. Апель, П. Рикер, Р. Гароди, Ю. Хабермас, Р. Рорти, Г. Хакен, К. Хюбнер, Н. Моисеев, К. Поппер, Гемпель, Карнан, Лаудан, Ньютон Смит, Хессе и др. В настоящее время происходит закономерный процесс постепенной смены исследовательских стратегий, задаваемых ее основаниями [В.В.Ильин,1994,1993]: идеалы и методы исследования; научная картина мира; философские идеи и принципы, обосновывающие цели, методы, нормы и идеалы научного исследования [П.П.Гайденко,1991]. Надо признать, что со сменой научных взглядов и научной рациональности во все времена и во всем мире всегда была «напряженка». Как и все новое, она с трудом пробивает себе дорогу и постепенно находит свое законное место под солнцем. В условиях наращивания диктата глобализации, когда наш мир становится все более единым, особенно актуализируется призыв ученых и к ученым более быстро и более полно осмыслить запросы этого современного рационального типа науки [В.С.Швырев,1997].
Сейчас никто не сомневается в том, что изменился облик современной науки, ее идеалы и нормы. Она стала не только более политеоретичной, полидисциплинарной, полисинтетичной, но и «человекоразмерной» [Р. Рорти,1997]. В этой связи, вполне понятно, что на исходе первого десятилетия XXI века, безусловно, наступает актуализация соответствующей ревизии взглядов и убеждений каждого ученого, научного коллектива или научного сообщества касательно научной стратегии [К.А.Свасьян,1990]. Как отмечалось выше, мы не отдаем отчета тому, насколько наши научные методы и результаты соответствуют уровню мировой науки; конкурентоспособны ли они в мировой практике; сопоставимы ли с теоретическими и методическими подходами, принятыми в научных центрах стран СНГ и мира? Если, по их мнению, они «догоняют» уровень мировой науки, то этим они безусловно горды и это для них большое утешение. На таком фоне приходится констатировать, что мы пока отстаем в плане осмысления и внедрения в сознание канонов новой научной рациональности. А между тем в настоящее время классическая и неклассическая наука все чаще становится не адекватной для исследования сложных процессов протекающих в природе, человеке, обществе [В.В.Ильин,1993].
Начиная с 2001 года по нашей инициативе (Проблемная лаборатория клинической и экспериментальной хирургии) был проведен ряд научных конференций и симпозиумов под общим лозунгом: «Неонеклассическая наука – наука XXI века». Говорилось о том, что неонеклассический этап развития науки характеризуется переходом к поиску ценностно-целевого, то есть аксиологического содержания научных работ и ценностно-целевой сопряженности в научно-практической деятельности. Была попытка убедить нашу научно-медицинскую общественность в том, что назрела необходимость внедрения подхода, позволяющего рассмотреть сдвиг мировоззренческой парадигмы в науке и медицине в самых широких аспектах: философии, методологии, синергетики, математики, неонеклассического образования, социологии, медицины, религии, психологии и пр. Многим кажется, что мы «изобретаем» проблемы, что решаемые нами «такие» проблемы далеки от запросов современной науки и медицины. Между тем не может не насторожить тот факт, что ученые-медики, которые имеют дело со сложнейшей системой – больным человеком, ученые-биологи, которые заняты исследованиями биосферы, пока проявляют неприятие к новой научной рациональности в своей науке.
Из стен нашей лаборатории вышла серия работ, выполненных с позиции новой научной рациональности и направленных на повышение общетеоретического уровня, фундаментальности и методологичности медицинской науки, мы и сегодня не можем с уверенностью сказать, приживается ли эта наука в медицине Кыргызстана. На наш взгляд, выполненные нами исследования отвечают традициям и требованиями именно неонеклассической науки, так как впервые «медицинская» начинка медицинской науки приобретает новый облик, новое ценностное значение, а это и есть знание-инструмент, способный постичь не только природу конкретной болезни, «душу» пациента, но и самого себя, свое профессиональное сообщество, внутри которого мы работаем и действуем [И.А.Ашимов,2002].
Для многих из ныне работающих докторов наук неонеклассическая наука является ровесницей их научной жизни. По логике вещей, если мы уважаем свое время и свою научную жизнь, должны реагировать на запросы этой науки. К сожалению, реальность такова, что мы оказались в плену старых традиций и сложившихся стереотипов. Между тем на дворе XXI век, а это серьезный аргумент для пересмотра своей позиции. Неонеклассическая наука имеет дело с системами особой сложности, требующими принципиально новых познавательных стратегий [Н. Моисеев,1995]. Это касается многих наук, но прежде всего наук, объектом которых является человек как сложнейшая биосоциальная система [М.А.Розов,1977; Р. Рорти,1997]. Но кто может утверждать, что такая комплексная интегрированная наука, как экология или биотехнология «заняты» менее сложными объектами познания? В этой связи, нам надо уяснить, что классическая и неклассическая науки уже не могут претендовать на адекватность в познании объектов большинства современных наук [В.С.Швырев,1997]. На наш взгляд, именно неонеклассическая наука должна реализоваться во всех без исключения современных науках как более эффективная рациональность. Без осмысления принципов и основ этой науки нам угрожает безнадежное отставание в осмыслении таких научных направлений, как клонирование, крионика, нанороботизация, сеттлерика, фантоматика, цереброматика, пантокреатика и пр.
Хотелось бы отметить отличия и своеобразную эволюцию основ и принципов классической, неклассической и неонеклассической науки. Если познавательными принципами классической науки были однозначный характер научных законов и эмпирическая проверяемость научного знания; логическая доказательность научного знания, то познавательными принципами неклассической науки являются: субъективность научного знания; гипотетичность научных законов и теорий; частичная эмпирическая и теоретическая верифицируемость научного знания; антифундаментализм [Современная западная философия. Словарь. – М., 1989. – С.210; Философия и методология истории. – М., 1977. – С.37]. Таким образом, появляются некоторая размытость границ науки, политеоретичность знаний, интегрируемость различных теорий. В настоящее время речь идет о формировании Сверхнаучного знания, уточнения его критериев: «если установлено, что знание, содержащееся в источнике, будучи достоверным, не соответствует знаниям своей эпохи, то его можно отнести к сверхнаучному знанию» (Л.М.Гиндилис).
Познавательные принципы неонеклассической науки имеют кардинальные отличия: проблемность; коллективность научно-познавательной деятельности; контекстуальность научного знания; полезность; экологическую и гуманитарную направленность научной информации. То есть любой научный факт приобретает проблемный характер, содержит ряд подтекстов, имеет ценностное значение [Б.С.Грязнов,1982]. Аналогично происходит и с методологией наук. Если методологической основой классической науки являются: количественные методы исследования; эксперименты; математическая модель объекта; дедуктивный метод построения научных теорий; критицизм, то методологическая основа неклассической науки – отсутствие универсального научного метода; плюрализм научных методов и средств; интуиция; когнитивный конструктивизм [И. Лакатос,1978]. На таком фоне методологические основания неонеклассической науки имеют кардинальные отличия: методологический плюрализм; конструктивизм, коммуникативность и консенсуальность принятия научных решений; эффективность и целесообразность научных решений [История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – СПб.:Лань,1997. – С.71]. По сути имеет место синкретизм, когда наряду с достоверно-фундаментальным знанием ставка делается и на социально-прикладное работоспособное знание. Это направление науки обозначено инновацией и инновационной деятельностью. Речь идет об экономике знаний, получающей все большее признание во всем мире [И. Пригожин, И. Стенгерс,1994].