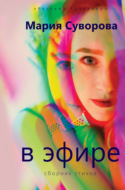Read the book: «Времена года»
Font::
© Г. Власов, 2025
© Русский Гулливер, издание, 2025
© Центр современной литературы, 2025
Первое
«Мне кажется, стихи это хлеб…»
Мне кажется, стихи это хлеб.
Огромная сумеречная зона. —
со стула поднялся Глеб,
стоял у двери Иона. —
Мозаики произвол, полотно. —
И раньше нас лес был создан…
Потом приоткрыл окно
и зачерпнул свежий воздух.
Скорее, судьбоносный нектар. —
спичка высветила их лица. —
То, что мы называем дар —
элемент ускользнувший таблицы.
Рассвет, выжигавший ил
застолья, бил прямо в сердце.
Борис, добывший чернил,
помог Марине одеться.
Друзья спустились во двор —
неприбранный, полуспящий.
Арсений вёл разговор
с Иосифом о настоящем.
Я их проводил в метро,
мы шли в тумане по пояс.
Кассир, назвавшись Петром,
пустил их на первый поезд.
«оттолкнись от невесомого…»
оттолкнись от невесомого
и на правильной скользи
на подобранной от сомова
до чюрлениса мази
от сассеты или тернера
до белинни и назад
слишком многими кручеными
тропкой ввинченною в ад
там качелей ход ритмический
шатунов полозьев скрип
эвридики лоб девический
к мутному стеклу прилип
и уже не видит зрение
бологое ли ямал
но ложится озарение
черной ниткой на эмаль
истопник неразговорчивый
встал спиною к январю
и снегирь и ангел створчатый
вострубившие зарю
Эклога
Завидя изогнувшуюся спину
подумаю, что так сминают глину
и держат чашку дымную в руке;
гончар проводит глине по щеке
ладонью. Рядом истекает кровью
сентябрь, пока соседи чинят кровлю
и берегут уют перед приходом
дождливых дней. Заметишь мимоходом —
как изменивший цвет орешник вырос,
как сарафана полосы и вырез
тебе к лицу. Грядущий выходной
быть обещает ветреным, но теплым.
Тут планов громадье и нужно топнуть:
чтоб, планы не спугнув, побыть одной.
Покинешь огород и снимешь боты,
достанешь с полки горький шоколад.
Жизнь состоит из Бога и работы,
а щеки от смущения горят.
«Как солнце бывшее всегда…»
Как солнце бывшее всегда
и времена, где нас любили,
день утекает как вода
и масло из большой бутыли.
Свет октября не уберег
себя, темнеет золотое;
и сам он больше как упрек,
где место гения – пустое.
Здесь ангел месяца разут,
унынием обезоружен:
вокруг него дожди, мазут,
листва и лужи вместо кружев.
Но как прощалось небо с ним,
с какой чайковской сильной грустью —
так белокрылый серафим
для гения из захолустья
внушает: Друг, не надо ныть,
в молчании опустим лица;
тебя бы досками закрыть
как в нашей в северной столице
в саду. Мы движемся к зиме,
нешкольный мел грозит обоим.
Ты растворяешься в земле,
её приправишь ты собою;
но, умерев, уже растешь,
ростком зерна расправишь спину.
Зима. Зимой, пока ты ждешь,
ты жив, попомни Прозерпину.
«вот дерево…»
вот дерево
все выдохи его
лицом меняясь в осень пламенея
и не умея обогнать кого
собралось абрисом в аллее
верней волчком точней в плаще худом
уже души лоскутья а не кожи
но продолжает двигаться с трудом
пугать прохожих
поскольку ветер сильный и колюч
его напор бездомная собака
он ищет имя нужное и ключ
но пониманья не было однако
я капюшон надвину затяну
веревку горизонт событий сужу
я ветру в душу нет не загляну
другому пусть другому пусть послужит
как парусу на море ветряку
на суше где без голоса они же
и с черной ветки пятую строку
не оборвет но чек пустой нанижет
мне близок дом и близость дорога
а не дорога где меня не слышат
скорей бы снег и месяца рога
пар изо рта когда у кромки дышат
балкона когда кончили курить
поспешно и декабрь обжигая
ведет в тепло где снова говорить
но тема разговорная другая
«Можно устроить быт в мысленном словаре…»
Можно устроить быт в мысленном словаре —
с буквами Брута плыть, вынырнуть в январе:
где ты, весна-красна,
вызолочена, неясна?
Или, забыв букварь, азбуку ртом ловить:
Тот ли январь, как встарь, где не мог говорить?
Но от потока букв —
станешь прямой, как труп.
Нет, мне ближе сентябрь, поползень, его клюв,
гроздь калин, канделябр. Стилус, грифель мне люб.
Я пером вывожу:
Ладно, и я вожу.
Я вывожу слова – пленных, скотчем слепых:
Вот он вам, котлован, поздно участь лепить.
Выстрел – ответом страх,
крик – безотчетный взмах.
Превозмогая боль, вскользь кувырок, чебурах.
Выскочка, си бемоль, скрип вощеных бумаг.
Видишь – скворцы пищат
гвоздями на хвощах.
Слышишь, осень идет каинами осин;
Чуешь, как правда льнет выговором мужчин.
Будто дырка в клозет,
любят они глазеть.
Да, но зачем варить в сыворотке словари?
Стекла бить и кричать, жабу с розой венчать?
Славить бандер и малют? Речь о том, что уют —
спичечный коробок,
Кладезь, клюв и лобок.
Все же, милый мне серп, строгость школьная карт —
в небе, а здесь офсет астрономии. Кант,
где ты? Прийди, изгладь
линиями тетрадь.
Красная полоса – каллиграфии сплин.
Выговор в волоса, вдумчивый пластилин.
Лучше в тепле лепить кров московских рябин.
И по капле их кровь
выдавить на Покров.
«Мы прошли мужчину с горном…»
Мы прошли мужчину с горном,
с проволокой вместо ног,
слова сглатывая горлом
невесомый холодок.
Полуспиленные в парке
липы, шебурша листвой.
И старухи, будто парки,
открывали рот пустой,
черный, как асфальт. У будки
асфодели не цвели.
Ждали мы чужой попутки,
мы своей не завели,
личной. Обретая личность,
мялись, мерзли, как никто.
И цветное, как античность,
подхватило нас авто.
И водила с длинным носом
и кудрявой головой
посмотрел, и без вопросов
мы отправились домой
от Коцита и Нимфеи,
Персефоны и вина,
ибо всякого орфея
ждет в Сокольниках жена.
Узнавали город снова —
с тленьем смешанный елей;
и держали в горле слово,
от которого теплей.
слаще, проще, глубже, тоньше;
берегли, как дефицит,
твердо веруя, что больше
не переступить Коцит.
«Он с письменной вязью говорит…»
А. Т.
Он с письменной вязью говорит,
на палимпсест прищуриваясь будто,
и речь его не вязнет, но парит,
выуживая гусеницу-букву;
он окрыляет целые слова
шиповника цветением горячим —
в бутонах многоока голова,
удел паренья не знаком незрячим;
он осуждает пламени войну,
но дым ему приятен сухостоя;
еще он любит чай и тишину,
печенье юбилейное простое
в то редкое беспамятство секунд,
когда они не заняты друг другом,
когда он синим красит рыжий кунг,
войдя в закатный контражур за лугом;
волос и глаз меняется состав,
он – ангел, не умеющий обидеть —
из гусеницы бабочкою став,
слова умеют говорить и видеть.
«хочешь пойдем наверх…»
хочешь пойдем наверх
просыпайся иди
с пятницею в четверг
где сегодня дожди
там дождей полоса
и опять голоса
крики ранних скворцов
руки поздних отцов
осени клавесин
на рябине висит
так рябит без конца
что слепит от вершин
и не видно лица
мерзлый фут за аршин
принимаешь и врозь
видишь осень и гроздь
здесь с балкона обрыв
он сегодня овраг
а назватра арык
обороток бумаг
набросал книгочей
и качает качель
ветер ветер ночной
над постелью речной
«Чубушник – белый сарафан поблек, с теплицы целлофан…»
Чубушник – белый сарафан поблек, с теплицы целлофан
шуршит, как на морозе куртка.
И длинный листопада сон, тот, чей рисунок невесом,
дымок перечеркнет окурка.
Под тусклым небом октября войти, его дремоту для,
штакетника огладив спину.
По склизким листьям в тусклый двор войти, в дом
щитовой, как вор, как ветер входит в окарину.
О чем мелодия твоя, что может ветер изваять?
Возвысится волной и тонет.
Железом кровельным стучит, обидится и замолчит, тепла
не удержав ладоней.
Осенний ветер бедный Фирс сравнить бы мог с волной
о пирс, сном падчерицы, отрезвленьем,
твердящим, что спасенья нет, но солнца обернется свет
и пахнет яблоневым тленьем.
Нет, есть в отечестве пророк и жизнь, спеленута в комок
печатной желтой целлюлозы,
запахнув серой, задрожит и – пламя весело бежит
по вырванным страницам прозы.
«Я не грущу о перелеске…»
Я не грущу о перелеске,
шуршащей листьями ходьбе,
где на закате от железки
наощупь двигался к себе;
о ватнике и дранке в стенах,
окне, веснушках на щеках —
всё видимое только сцена,
живые в ней любовь и страх.
И дверь, и желтые обои,
и в парке дева без весла,
и осень – видели такое,
чего не знает мир числа.
И от кровати шарик медный,
как в море унесенный буй,
найдя, скупое солнце медлит
и длит воздушный поцелуй.
Есть ужас в банковской купюре
где тучный профиль лысоват,
перегоревшей в абажуре
вольфрама нити в сорок ватт.
Но если гул эпохи тоньше
и вишням больше не цвести —
идти к себе немного дольше,
но больше некуда идти.
«Смотрящий изнутри невидим…»
Смотрящий изнутри невидим
себе – он вышел далеко.
Он зорок – потому и беден,
как белый хлеб и молоко;
парной и теплый и пшеничный
в суть проникающий черничной.
Милейший, а скажи, Корейша
где обозначен, где лежит;
каким топонимом свежайшим
сухую прорастает жизнь
и будет голыми руками
толочь стекло и черный камень.
Смотри: с ночного этажа
вираж светящийся вопроса;
дождь безымянный ходит босо,
парит сусальный дирижабль.
Труд и часы всё перетрут,
Черкизовский замёрзший пруд.
Преображенка спит под снегом
разбита, сожжена, разъята.
Но от земли восходит к небу
овальный ангел и крылатый,
бросая удивлённый свет
на то, чего на свете нет.
Во всяком мире без войны
избыток тишины матросской;
вольно деревьям, переросшим
себя, – как флоре из каймы,
заглядывать за окоём:
тут родились мы и живём.
Здесь время не горит свечой
и ветер – бестелесный флюгер —
все время крутится и любит
над безголовой каланчой
выть: Сколь немилостлив Создатель…
Здесь твой топоним – наблюдатель.
«Когда он рядом, но не хочет…»
Когда он рядом, но не хочет
опять попасться на глаза,
а ретивое – рвёт, клокочет;
как из ладони стрекоза,
вдруг выпорхнет с шафранным шумом
навстречу синеве глухой —
ты понимаешь: он не умер;
он – для тебя живой, живой…
Он мой! – ты думаешь и счастье
отметится в твоей руке,
и мира целого участьем —
слеза сбегает по щеке.
Пройдя сквозь влагу удивленья,
как сквозь игольное ушко,
ты принимаешь смерть и тленье
с каким-то радостным смешком.
И начинаешь верить в чудо,
ты снова слышишь через шум:
друзья, осенняя простуда,
слова, идущие на ум.
«Взять себя в кулак, разжать…»
Взять себя в кулак, разжать
и – расплакаться, влюбиться;
птицу взглядом провожать,
с птицею летящей длиться.
И на станции одной
оказаться на платформе
в будни или выходной
выросшей сосны покорней
и решительней тропы
цвета извести, суглинка.
Все мы беглые рабы
городского поединка.
Скройтесь в темные леса,
птицы, звери и народы —
первой влаги полоса
на двойном окне природы.
Так скрывайся и молчи,
сетуй, не греми вещами.
Не нашел впотьмах ключи —
разговаривай ключами.
«то ли бабочкой то ли сном…»
то ли бабочкой то ли сном
или ласточкой в январе
отрок сделался невесом
он проливом па де кале
видит солнце и острых ос
и шуршанье над ним стрекоз
и подходит к дереву где
лик сияющий из дупла
лик сворачивающий тень
кружевные бубнит слова
станешь пастырем будешь муж
будешь пластырем гнойных душ
станешь раны гнева лечить
перековывая мечи
чтобы в ниве зацвел восторг
или в ниле тонул восток
и охотник упрям и рыж
наблюдал как искренен стриж
как сшивает кривой иглой
ветер тучу озеро зной
а еще по-русски сказал
городок твой жд вокзал
имя упражненья уму
ни к чему они ни к чему
лучше волны и сердца плёс
солнце птицы шорох стрекоз
биться правою стороной
прорасти в стороне иной
«Он видит нас во сне, Он ложечкой мешает…»
Он видит нас во сне, Он ложечкой мешает
густой настой. Почти не говорит.
Он, будто листопад, вдыхает нас, листая
и серебром звенит.
И если крепкий чай, и если нужный градус,
характер у крутого кипятка, —
просыпет Он в стакан нечаянную радость
и станет жизнь сладка.
А, если беден сбор и вкус его несносен —
скривит свой рот, отставит серебро.
Он в круглое окно оценит взглядом осень
и выплеснет в ведро.
Он – Диоклетиан, но стены дома шире
Иллирии; не просочится мышь
в дубовый кабинет и ты в его квартире
карандашом лежишь
поверх счетов, бумаг. Вот стародавний свиток,
вот с проволокой общая тетрадь.
Но если ложки нет – тобой густой напиток
возьмется размешать.
The free sample has ended.
$7.20
Genres and tags
Age restriction:
0+Release date on Litres:
15 August 2025Writing date:
2025Volume:
60 p. 1 illustrationISBN:
978-5-91627-297-0Copyright Holder::
НП «Центр современной литературы»Part of the series "Поэтическая серия «Русского Гулливера»"