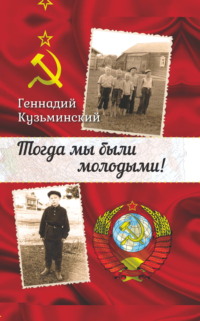Read the book: «Тогда мы были молодыми!»
Фотографии взяты из личного архива автора и из открытых источников

© Кузьминский Г.А., 2017
© Оформление. ИПО «У Никитских ворот», 2017
Тогда мы были молодыми!
Как мы жили в СССР
Середина двадцатого века для жителей средней полосы России, где расположилась и моя Малая Родина – деревня Семёнково, мне казалась счастливым периодом жизни населения страны. И сейчас, во втором десятилетии XXI века, то время воспринимается с такой же приятной ностальгией. Деревня моя находится в 55 километрах от старинного города Углича, что в Ярославской области, в 30-ти труднопроходимых километрах от города Калязина, что в Тверской области и в семи километрах от села Заозерья, бывшего имения великого русского писателя и государственного деятеля Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, а раньше князей Волконских и Оболенских.

Вот она, деревня. Дома с огатами, белый снег, деревенский транспорт в праздничном убранстве, деревья под окнами домов, печные трубы над крышами.
Война закончилась. С фронта и из армии, кто дослуживал «недостающие» годы, возвращались мужики. Соскучившись по мирной жизни, они женились, обзаводились хозяйством, в семьях рождались дети. Вдовы потихонечку забывали и переставали оплакивать не вернувшихся с войны мужей, а матери сыновей. Фронт до этих мест не докатился, и разрухи, которая огненным валом прошлась по оккупированным землям Советского Союза, здесь не было. Трудовая и иная повинность, тяготившая население в период войны, поэтапно отменялась. Репрессии перестали быть такими жестокими и беспощадными, как в предвоенные и военные годы, и можно сказать, прекратились. Народ перестал голодать и нищенствовать. Все, кто хотел и мог, имели возможность работать и зарабатывать средства к скромному, но безбедному существованию.
Семёнково – самая широкая деревня на российских просторах. Летом это место превращалось в футбольное поле. Играли, никому не мешали, мяч до окон не долетал, и стёкла сохранялись целыми. Напротив этого луга жили братья Шаманины: Иван и Николай – они любили мяч погонять даже тогда, когда были уже совсем взрослыми, а также здесь был дом моего дяди – Крылова Бориса Павловича. За спиной брата дома Насти Вавиловой, Павла Камутина, Ильи Наумова и Ивана Осокина.

Несмотря на перемены в общественной жизни, бед и трудностей оставалось, как говорится, «хоть отбавляй». На самом деле это время было не таким уж радостным, как казалось нам, детям, ведь детство всегда счастливая пора и трудности своих взрослых родных дети не замечают и не понимают. Понимание приходит с годами. А в детстве что, если есть крыша над головой, кусок хлеба с солью, кружка молока, одежда по сезону, возможность проводить время со своими сверстниками, ходить в школу – значит, всё прекрасно.
Сейчас ведётся много разговоров и жарких споров о том, как мы жили в Советском Союзе, хорошо или плохо, лучше, чем в настоящее время, или хуже? Мнения спорящих кардинально расходятся. Каждый может привести в подкрепление своей позиции не один довод, как ссылаясь на собственный опыт, так и на мнение других, авторитетных и не очень авторитетных источников. У меня на этот счёт мнение своё собственное, как и у каждого из нас. То, о чём я хочу написать, я видел собственными глазами, слышал собственными ушами и испытал на своей шкуре. Хорошо, что этой шкуре испытания выпали не очень тяжкие, хотя и простыми их не назовёшь. Но то время, когда мы были молодыми, было, по-моему, хорошим. Жаль только, что много его, времени, пропало как бы зря. Лень – неотъемлемая черта молодости и никуда от этого не денешься.
А сейчас на дворе 2016 год. В стране кризис, война на Украине и в Сирии, сплошные санкции и провокации в отношении России по всему миру и по всему фронту. Народ недоволен чиновниками, взяточниками, коррупцией, дорогами, олигархами, развалом промышленности, сельского хозяйства, образования и науки, медицины, правоохранительной системы, безработицей, нищенскими пенсиями и пособиями, падением культурного, образовательного и нравственного уровня молодёжи, засилием иноземцев и иноверцев. Климат, и тот изменился не совсем понятно в какую сторону. На Новый год дождь, а летом то засуха, то искупаться в воду ни разу не зайдёшь, холодно. А позапрошлым летом столько белых бабочек летало, что сравнение с зимней метелью кажется слабым. Откуда они взялись?
Значительная часть населения с трудом справляется с дороговизной продуктов и промышленных товаров, бензина и автомобилей, мебели и электронной техники, жилья и другой недвижимости, коммунальных и других услуг, постоянным ростом цен на всё это. На фоне сплошного беззакония граждане чувствуют себя совершенно не защищёнными от произвола сильного или чиновника, наделённого властными полномочиями. Народ обложили налогами и штрафами, всякими ограничениями, а порядка в стране нет. Расплодились всякого рода мошенники и кидалы, государство от которых свой народ совершенно не защищает.
Наше прошлое и нашу тысячелетнюю историю всякие Сванидзе, Гозманы, Новодворские и им подобные настолько изгадили, что многие граждане совершенно не понимают, кто они такие, откуда взялись и куда идут? За что надо радоваться, чем гордиться, а за что каяться? Кто герой, а кто предатель? Кто враг народа, а кто благодетель? Чему учить детей, а от чего оберегать? Кто друг, а кто враг? Всё в головах перемешалось.
А с экранов телевизоров по всем каналам и программам, за исключением двух-трёх каналов, сериалы про гламурную жизнь русских красавиц, их успешных мужей и любовников, обязательно со сценами массовых убийств, насилия и разврата, разные шоу мелкого пошиба. Новости в основном про то, что сгорело, упало, обрушилось, утонуло, разбилось, украдено или пропало невероятным образом. А ещё про личные трагедии россиян, как их обманывают, калечат, уничтожают физически и морально. Как люди, доведённые до крайности, лишают жизни своих близких, детей и родителей, сами сводят счёты с жизнью. Вот сегодня: в Дагестане взорвали пост полиции, есть погибшие и раненые; в Ярославле обрушился дом от взрыва бытового газа, есть погибшие и раненые; из Доминиканы вернулась туристка, заражённая смертельным вирусом Зика; в Москве из окна выпрыгнула молодая мама со своим четырёхмесячным ребёнком, сама погибла, ребёнок в реанимации; на Украине заблокировано более ста фур с российскими номерами; Греф спрогнозировал 15-летний застой; Сельхознадзор предупредил о заражении «кровяной болезнью» от бананов; города затопило февральским дождём, а завтра гололёд; женщину, застрелившую из автомата своего родственника, осудили на девять лет; в шахте на глубине более тысячи метров остаются заблокированными восемь горняков; в Москве столкнулся рейсовый автобус с фурой, водитель автобуса погиб; в Забайкалье сошёл с рельсов товарный поезд, о пострадавших не сообщается; с первого апреля повысятся цены на бензин, на Северо-Западе Москвы в квартире обнаружены два изуродованных трупа, мужчины и женщины, и так далее. Где позитивная информация? Нету.
В Советском Союзе было всё несколько иначе.
Как мы питались
Голодающих не было, сыты были все. Бомжей тоже не было, а в девяностых годах они повсеместно появились в огромных количествах. По помойкам люди не ходили и объедки в авоськи не собирали. А если кто-то и интересовался пищевыми отходами, так это нормальные люди. Например, муж моей тётки Натальи Павловны частенько ездил на велосипеде или на мотоцикле на скотобойню, где набирал мясных отходов, которыми кормил своих двух охотничьих собак. Он с женой и собаками жил в Угличе в собственном доме с участком, имел возможность содержать мелкую живность. И такой он был не один, собак многие держали. Другие забирали пищевые отходы от объектов общественного питания. В столовых, кафе и ресторанах, шашлычных, пельменных и чебуречных, в воинских частях, учебных заведениях на теплоходах и самолётах несъеденных продуктов набиралось много. Люди ими кормили домашний скот и птицу. Наиболее предприимчивые заранее приносили к таким объектам свою пустую тару, а потом забирали наполненную всякой всячиной.
Не забывало государство и о самых незащищённых слоях населения. Немощные старики и инвалиды помещались в дома престарелых. В округе я помню несколько таких заведений, находящихся в сельской местности, не в городах. Это Леонтьевское, Сольба, Епихарка. А в районных центрах дома престарелых были обязательно. Дети из многодетных семей и сироты помещались в детские дома. Рядом с нами детский дом был в Заозерье вплоть до 1967 года. Директором там был еврей, участник Великой Отечественной войны Беркимблит Зиновий Константинович, отличный, умный, добродушный, чернобородый мужик. В девятом классе он учил меня немецкому языку, который, как мне кажется, он знал в совершенстве. К тому времени с беспризорным детством было покончено и Заозерский детдом закрыли и перевели в Углич, объединив с местным. Здание этого детдома в настоящее время занимает Заозерская средняя школа.
Сельские жители в основном питались продуктами со своего подсобного хозяйства, а также из реки и из леса. У каждого сельского дома был большой земельный участок. Причём эти участки не имели топографически точных координат и кадастровых номеров. Придут, бывало, представители местной власти, отмеряют двухметровым циркулем длину и ширину участка, поставят деревянный колышек и уйдут. Пользуйся. Я не знаю земельного участка в моей деревне, который был бы меньше или равен тому, что отмеряли. Каждый, если хотел, мог прибавить в ту или другую сторону дополнительный кусочек, не за счёт соседа, конечно. На нашей усадьбе, например, стоял колхозный сарай, в котором хранилось колхозное сено, и к нашему участку была добавлена площадь сарая и площадь подъезда к сараю. А таких построек в деревне было полно – сараи, склады, амбары, риги.
Вдобавок ко всему, во многих деревнях были общие картофельники, покосы, капустники. В более южных областях страны общими были площади для посадки овощей и корнеплодов, сады и ягодники, пасеки. Если чего и не хватало порой, так это покосов. Скотины в некоторых домах было много, а зимы бывали ранние, суровые и долгие. Чтобы скотина не голодала, сена и овощей старались заготовить с запасом. Но и в этом случае о народе власти заботились, как могли. Предоставляли право в конце лета косить траву три дня и три ночи, кто где хочет и где может. Выкашивали каждый клочок земли подчистую, бурьяном, как теперь, округа не зарастала, про деревни я даже не говорю. Около домов животные и птицы «обрабатывали» газон ровно и чисто. Поэтому весной от сухой травы деревни не выгорали. На болоте, что на заднем плане, ни кустика.

Границы участков на усадьбах были, в основном, условными. Где стоит прясло, там всё ясно – это твоё, это моё. Межу, где ставить прясло, с соседом обязательно согласовывали. Споры, конечно, возникали из-за склочности кого-нибудь одного из соседей. Такие люди были везде и во все времена, которым вечно все мешают и всё вокруг не так, не по-ихнему. В таких случаях приходил бригадир с циркулем, отмерял каждому своё, и споры прекращались. Траву на усадьбе делили очень просто. Прежде, чем косить, тот, кто раньше начинал, проходил пешком по границе усадьбы, оставлял след в виде примятой травы, это и была граница. Из-за этих несчастных сантиметров друг друга не убивали, не калечили и по судам не ходили. Зачастую покосы и огороды по несколько штук огораживали одним пряслом, чтобы не городить лишнего, а внутри делили межой, как говорится, «на глаз».
Огороды были таких размеров, которые семья в состоянии обработать. Главным продуктом на огороде была картошка. Белая, красная, синеглазка. Её заготавливали сотнями килограмм и даже тоннами. Картошкой кормили домашнюю живность и ели сами. Очень вкусный продукт. Варили картошку исключительно в русской печке, естественно, «в мундире». Моя бабушка Анна Константиновна варила картошку в двух чугунах. В большом – мелкую, для куриц, коровы и прочей живности, а в маленьком – крупную, для себя.
Бывало, только достанет бабушка чугунок из печки, сольёт воду, поставит на шесток, чтобы пар от неё в трубу уходил, а мы с Витькой уже тут как тут. Выберем самую запёкшуюся, с румяной, чуть подгорелой кожурой, соскоблим угольки ножом, или не соскабливая, разломим, посыплем крупной солью и ещё горяченькую в рот. Вкуснотища.
А ещё мы любили кушать, и сейчас любим, холодную картошку. Совсем неважно из какого чугунка, из большого или из маленького. Почистим, порежем в глубокую алюминиевую или обливную тарелку, туда же покрошим солёных огурчиков из деревянной кадки, порежем несколько луковиц, сняв со связки, что висит над печкой, немного соли и заправим обильно пахучим подсолнечным маслом. Объедение! А если под водочку, то вообще язык проглотишь. Под водочку это теперь, а раньше под молоко от своей коровки.
В народе знали ещё массу блюд из картошки или с картошкой. Как говорится, и жарили и парили. Картошка давала гарантию народу от голодовки.
Ещё одним продуктом-гарантом была капуста. Её заготавливали тоже немало. Семёнковский капустник находился на берегу реки Работки, каждая семья имела там грядку или две. У нас в доме на зиму заготавливали две бочки квашеной капусты, большую и маленькую. Ели капусту в разном виде. Основное блюдо, конечно, щи. А мне нравилась она и в сыром виде. Я помню, как брал косарь с шестка, тарелку металлическую и шёл на мост (ударение в предлоге на букву «а»). Снимал с бочки покрывало в виде старого одеяла или старой «одёжины», убирал камни, выполняющие роль гнёта, отрывал от капусты, если примёрзли, деревянные «донечки», так бабушка называла дощечки, закрывающие капусту, и начинал ковырять содержимое. Иногда вместо косаря применялся обыкновенный топор.
Эту самую капусту, мороженую, ёжиками, мы посыпали сахарным песком, поливали немного маслом и ели вместо лимонов, бананов, ананасов и прочих заморских деликатесов. Вкуснятина! Многие заготавливали капусту отдельно белую и зелёную, с яблоками и клюквой, хранили и в подпольях в кочанах. Овощи и фрукты деревенские жители не покупали, разве что апельсины на Новый год.
В городах недостатка в овощах тоже не было. С фруктами всё было сложнее – хранить не умели. Химикатами не обрабатывали, вот и не доживали они до весны. Многие горожане закупали овощи осенью и хранили в погребах, которые строили рядом с домами или оборудовали в гаражах. Но и в магазинах овощи были всегда: картошка по 10 копеек, капуста – по 7, свёкла – по 9, морковь – по 12, огурцы солёные – по 7 копеек за килограмм.
Деревенский люд много работал, поэтому на картошке и капусте жить было тяжеловато, требовалось мясо.
Скажу сразу – мясо в деревнях было и ели его ежедневно, возможно, не все, но большинство.
Курицы были в каждом доме, а весной появлялся выводок цыплят, а то и не один. Кроме куриц многие держали гусей и уток. В двух-трёх домах были индюки, красивые, как павлины, и злые, особенно злой индюк был у Ивана Шевякова, мы специально его дразнить ходили, любил он за нами побегать, а Марфа ругалась. В летние месяцы деревенские пруды были для водоплавающих птиц местом обитания. Они питались тем, что росло и жило в прудах, от этого все пруды были чистыми от водорослей и лягушек, а берега унавожены.
Корова и телёнок тоже были почти в каждом доме. На нашем конце деревни коровы не было у Степановых и Насти Ненилиной (настоящие фамилии у обоих – Цыплёнковы). Антонине Цыплёнковой (все её звали Тонька Степанова) с сыновьями Пашкой и Васькой корова была не нужна, так как она всю жизнь проработала на скотном дворе, и ей хватало колхозных коров, да и молока, наверное, тоже, хотя в те времена с этим было строго. Пашка, сколько я его помню, был пастухом. Настёнка жила одна, и держать корову ей было тяжело. Молоко брала у родственников и соседей. Держали люди в подсобных хозяйствах, кроме коров и телят, свиней, овец, кроликов, а вот коз в Семёнкове не любили, хотя они тоже были.
Вся эта живность и была тем мясом, которым народ питался круглый год. Всякие там щи, супы, похлёбки обязательно были с мясом. Летом рубили головы домашней птице и кроликам, а осенью забивали бычков, свиней, овец. На столах появлялись котлеты, сало, студень и прочие вкусности, и всё это из настоящего, чистого мяса. В магазинах, а их в колхозе было три (в Вякиреве, Путчине и Старове), покупали из мясных продуктов колбасу и тушёнку. Колбаса была не всегда, скорее из-за отсутствия холодильников, чем дефицита. За колбасой, кому очень хотелось или к празднику, ездили в города. Настоящая варёная колбаса стоила 2 рубля 20 копеек за килограмм, а ливерная – 46 копеек. Цыплята стоили 1 рубль 5 копеек. «Чайная» колбаса продавалась за 1.90, а «Докторская», считавшаяся очень хорошей, стоила 2 рубля 30 копеек.

Корову на селе всегда называли кормилицей. Таковой она была и на самом деле. У нас разводили коров ярославской породы. Они довольно крупные, давали хорошие надои молока, ежегодно приносили приплод, были неприхотливые и выдерживали наш переменчивый климат. Паслись на лугах, на полях в лесах и болотах.
Молоко по праву было одним из основных продуктов питания. Молоко пили вместо воды и чая, а также «ели» с хлебом, с булками и порогами, с преснухами и лепёшками, с пряниками и халвой и вообще со всем, что съедобно. Из молока делали простоквашу, называлась она в Семёнкове почему-то не только простоквашей, но и «стятухой», сейчас это кефир, наверное. Стятуха – это молоко, с которого «сняли» сметану. А если от стятухи отделить жидкость, которая называется сыворотка, то получится творог. Вот и выходит, что молоко кроме всего прочего даёт сливки, сметану, простоквашу, творог, сыворотку, а также сыр, брынзой назывался, и сливочное масло. Сыворотка – это такая жидкость желтоватого цвета, на вкус немного кисловатая, но приятная и очень хорошо жажду утоляет, особенно когда холодненькая. Но мне более всего нравились сливки, впрочем, как и моему любимому коту Рыжику. Очень вкусным было топлёное молоко из русской печки, особенно пенка, что образовывалась сверху.
Воду пили из колодцев. Они были как личные, так и общественные, на несколько домов. Личным колодцем, с большой натяжкой, мог считаться лишь тот колодец, что находился в огороде. Нам с братом надоело носить воду от соседского дома, и мы выкопали свой, на месте старого и когда-то давно заброшенного и обвалившегося. Воду в дома носили вёдрами, насосов не было. Воды в колодцах хватало и людям, и животным, и на полив. В городах вода на все нужды бралась из водопровода. Если в дом заведена, то из крана, а если нет, то из колонок, что стояли вдоль улиц и во дворах. В последние годы всё чаще раздаются голоса об истощении водных запасов. Вероятно это так, но раньше мы об этом не задумывались, питьевой воды хватало.

Молоко в городах продавали в бутылках, картонных пакетах и разливали из бочек. Всё молоко было натуральное и имело особенность прокисать. Литр молока из бочки стоил 20 копеек.
Пол-литровая треугольная упаковка (пирамидка) стоила 16 копеек.

Творог и сметану продавали на развес из алюминиевой тары, чаще всего из бидона. Этот 40-ка литровый бидон так и назывался – молочный. Очень удобная посуда для приготовления браги. Творог заворачивали в лощёную бумагу, что не очень намокала, а сметану в стеклянную банку, которую покупатели приносили с собой. Были эти продукты и фасованные, но народ любил на развес, считал, что это вкуснее, потому что натуральные, без «химии» и дешевле.
Молочные продукты продавались в специализированных магазинах «Молоко». Оно разливалось в бутылки объёмом один литр и пол-литра, с широким горлышком. Закрывалась такая бутылка крышкой из алюминиевой фольги. Открывать её было очень удобно, нажал пальцем сверху, и готово. Эти крышки были разноцветные для каждого продукта. Для молока – серебристая, для топлёного молока – тёмно-жёлтая, кефир закрывался зелёной крышкой, ряженка – фиолетовой или розовой, сливки – жёлто-серебристой в полосочку. В стоимость содержимого включалась и стоимость посуды. Пол-литровая бутылка молока стоила 28 копеек, а литровая – 46. Топлёное молоко продавали за 30 копеек, кефир за 28, ряженку за 29. Маленькая пустая бутылка стоила 15 копеек, а литровая – 20.
Тесто для выпечки в деревне тоже приготавливали на молоке, а не на воде. Хотя и вода была чистая. Пили её прямо из колодца, из речки, ручья и лужи на дороге, если пить хотелось. Не боялись ни отравиться, ни расстройства желудка, а если мутная, то фильтровали её через кепку, снятую с собственной головы или с чужой, если свою намочить жаль.
В огородах, кроме картошки и капусты, сажали: лук, чеснок, морковь, свёклу, репу, редьку, редиску, огурцы, помидоры, горох, тыкву, брюкву, бобы, подсолнухи, а укроп, хрен, мак росли самостоятельно, как сорняки… Всё это заготавливалось впрок, что-то перерабатывалось и убиралось на хранение для зимнего периода. Вот и бабушка моя с топором в руке пошла в огород, петуху тоже туда хочется. Всегда хочется туда, куда нельзя.

Летом и осенью питались овощами, фруктами и ягодами прямо с грядки. Для выращивания урожая химикаты не использовали. Удобряли почву навозом, торфом, перегноем. Колорадские жуки у нас не водились, а когда они появились, не травили, а собирали и уничтожали, заливая в стеклянной банке водой или керосином. Стволы деревьев красили обыкновенной известью, а с вредителями боролись настоями крапивы, табака, лука, чеснока или чем-то подобным. Грядки поливали из лейки водой из пруда или колодца.
Как известно, русский человек не может сесть за стол без хлеба. Хлебобулочные изделия пекли в русской печке сами. Чёрный хлеб из ржаной муки, смолотой на мельнице из зерна, собранного на колхозном поле. Это был заварной хлеб, который не портился неделями. Если он черствел, то его можно было разогреть в печке, обернув во влажное полотенце, после чего он становился снова мягким и вкусным. Пшеничная мука тоже была своя, она называлась «белая», но покупная значительно лучше, чем из своей пшеницы. Покупали муку, как пшеничную, так и ржаную, мешками. У нас в горнице всегда стояло несколько мешков муки разных сортов, охраняемые от мышей и крыс кошкой Муркой. Мешок белой, мешок ржаной и пара мешков низкосортной муки для домашней живности. Мука в магазине из мешка стоила 16 копеек за килограмм, мука высшего качества в упаковке с колосками стоила 41 копейку.

Из белой муки пекли разные вкусности. У нас в доме, да и у других, в чести были булки, ватрушки, пироги разные, преснухи с творогом и ягодами, баранки, лепёшки, караваи. Всё это елось с молоком, а лучше со сливками, кому молоко надоело, тот с чаем. Наша бабушка, царствие ей небесное, Анна Константиновна могла всё это так испечь, что просто язык проглотишь. Испечёт, бывало, преснух, пирогов, ватрушек и булок, переложит с металлических протвиней на деревянные, и поднимет на верхнюю полку в чулане. Мы с Витькой то и дело подставляли стул и карабкались к этой полке, брали, до чего дотянуться могли, и уплетали за обе щёки. Случалось, опрокидывали, поднимали с пола, пока никто не видел, и ели, желудками не болели. Мама тоже хорошо печь умела, но когда пришёл её черёд это делать, до полок мы уже с пола дотягивались, стул не подставляли.
Когда оказывались в городе, то перекусить шли в столовую или в чайную, которые были также и на селе, например, в Заозерье, и в Нагорье, и в Загорье, и в Ильинском, и даже на Путчинском льнозаводе. В городской столовой можно было перекусить стаканом сладкого чая за 2 копейки, добавив к нему булочку кунцевскую за 3 копейки, пирожок с ливером за 4 копейки, бублик или пирожок с повидлом за 5 копеек. А если сдать пустую бутылку за 12 копеек, то можно побаловать себя бубликом с маком за 6 копеек, фруктовым мороженым за 7 копеек или французской булочкой за те же 7 копеек, или съесть тульский пряник за 8 копеек, а можно и беляш с мясом за 11 копеек. Кто находил бутылку из-под вина, считался богачом, она стоила 17 копеек, а из-под шампанского вообще 20.
Если не было пустой бутылки на сдачу, то можно было зайти в столовую и, купив несколько кусочков хлеба по 1 копейке каждый, намазать их горчицей, посыпать солью и перцем, которые были вообще бесплатные, и поесть. (Одно время и хлеб в рабочих столовых был бесплатным.) Потом выйти на улицу и купить опять же за 1 копейку в автомате стакан газированной воды без сиропа и запить съеденное. А если пошарить по карманам и найти 3 копейки, то с сиропом. Вкусно! Сироп был настоящий. Кстати, медяками можно разжиться прямо на месте. Надо подолбить кулаком по этому автомату и он, вполне вероятно, может «отрыгнуть» съеденные им ранее монетки. Так же можно добыть монетки и из телефонного автомата. Там были специальные ячейки с «дверкой», куда они проваливались, если соединение срывалось. Если повезёт, могла высыпаться полная горсть. Когда я был курсантом, этот метод добычи двушек мы использовали частенько. Разговор по городскому телефону-автомату стоил 2 копейки. Эти монетки специально копили и держали при себе. Без неё не позвонишь. Эти монетки на земле не валялись, их всегда поднимали, и не из жадности, а для дела.
Бутылка газировки типа «Буратино» или «Колокольчик» стоила 10 копеек без посуды. Кафе, пивные бары и рестораны по ценам были доступны большинству взрослого населения. В них было не попасть. По вечерам очереди выстраивались у дверей на улице. За один стол сажали разные компании. Если ты один, а столик на четверых, то к тебе могут подсадить ещё троих совершенно разных людей. В таких заведениях полезно было иметь «своего» человека или дать официанту денег, как бы упущенную выгоду, чтобы он никого не подсаживал. Или наоборот девушку подсадил, если своей нету. А откуда ей взяться в далёком портовом городе?

Повсеместно на Руси разводили пчёл. Ульи стояли во многих деревенских и городских огородах. Мёдом делились с родственниками, соседями, продавали. Кто держал пчёл, тот мог обходиться без сахара и конфет. В соседнем с нашим огороде ульи стояли при всех хозяевах. Пчёлы летали, но кусали редко, только в очень жаркую погоду или когда у них мёд отбирали, но об этом соседей, как правило, предупреждали.

Рыбалка была и есть не только удовольствие для души, но и для желудка. Рыбы в Советском Союзе вылавливали очень много. Страна со всех сторон омывается богатейшими морями и океанами. В стране множество внутренних водоёмов. Советский рыболовный флот был одним из крупнейших в мире. В деревенских магазинах, где не было холодильников, всегда можно было приобрести рыбные консервы. Особой любовью пользовалась килька пряного посола, а попросту – хамса. У нас её называли «гамза». Привозили её в деревянных бочонках небольшого размера. Она «плавала» там в рассоле и продавалась на развес. Стоила такая килька 33 копейки за килограмм. Продавалась она и в металлических баночках, которые вскрывались обыкновенным перочинным ножом. Кстати, перочинные ножи имели и специальный кривой нож для вскрытия консервных банок.
Селёдка тоже присутствовала не только на праздничном, но и на обеденном столе. «Атлантическая», «Тихоокеанская», «Каспийская» «Иваси» – вкуснятина, особенно копчёная.
Нашу деревню, в отличие от страны, омывают не океаны, а две маленькие речки – Сабля и Работка. В те времена обе были рыбные. Весной и в начале лета рыбу ловили езами, неводами и сетями. Когда щука шла на нерест, её можно было поймать голыми руками в любом ручье, впадающем в реку, например, в Ониконском или Сальковском, что мы частенько и делали. В наших речках водились и раки, и было их немало. Свежую рыбу в основном жарили. Те, кто налавливал рыбы много, солили её впрок. Летом любители, а их было много, продолжали рыбачить черпаками, спиннингами, жерлицами, удочками и просто голыми руками. Чтобы просто поесть, наловить мог каждый, умеющий держать удочку, если не сегодня, то в другой день. А что касается Ивана Князева, так тот не жил без рыбалки и рыбы ни одного дня.
Это в нашей местности рыба не была основным продуктом питания, и ловили её в основном летом, у тех же, кто жил вблизи крупных водоёмов, ели её во всех видах круглый год. И не только щук, карасей, плотву и окуней, но и стерлядь, осетров, белуг и прочих ценнейших пород, а также икру красную и чёрную, как говорят, ложками. И всё это было бесплатно, если не подпадало под признаки браконьерства. Чтобы заставить народ есть не только мясо, но и рыбу, государство учредило в стране «рыбный день», это был четверг. Объяснялось это необходимостью насыщения организма фосфором, которого в рыбе значительно больше, чем в мясе.

А это керосинка, на ней готовили пищу. Не микроволновка, но была очень полезной и необходимой вещью, ведь печь топили зимой один раз в день, а летом один раз в несколько дней, «а кушать хочется всегда». Готовили и на электроплитах, но керосин был дешевле электроэнергии.
Бесплатно пользовались граждане и дарами леса. Ягоды сушили или делали из них варенье. Варенье варили некоторые неохотно. Требовался сахарный песок, который стоил 90 копеек, а высший сорт все 94 копейки. Как и в большинстве семей, в нашем доме ягоды были свежие, сушёные и варёные. Сушёная малина была обязательно, ей лечились при простудных заболеваниях, заваривая вместо чая. Сушёную чернику мы с Витькой таскали из белого мешочка, что стоял в чулане на полке, и ели вместо лакомства.
А ещё на зиму я заготавливал красную рябину (черноплодной рябины тогда в огороде не было). Ломал ветки с кистями ягод или обрывал только кисти и подвешивал их на чердаке к крыше. Она немного высыхала, сморщивалась, но оставалась довольно сочной и вкусной. Зимой залезал на чердак и ел, пополнял организм витаминами. А калина так и оставалась на дереве до весны, пока её птицы не склёвывали. Эти две ягоды и в лесу оставались на всю зиму.
В лесах было тогда, да и теперь, много грибов. За грибами в лес ходили и стар и млад. И удовольствие получали, и пропитание добывали.

Благородные грибы сушили, жарили, варили с ними суп, а пластинчатые солили. Солили их в деревянных кадках. В некоторых местностях это были не просто кадки, а большущие бочки. Зимой из сушёных грибов делали грибную икру, варили вкусный суп, а солёные ели с картошкой под водочку.
В лес ходили не только за грибами, ягодами и орехами, но и поохотиться. На еду добывали зайцев, уток, гусей, куропаток, рябчиков, тетеревов, глухарей, вальдшнепов. В северных и восточных местностях водились и другие съедобные птицы. Когда я работал на Севере, то мы стреляли странных птиц с клювом курицы и перепонками на ногах, как они назывались, не помню, и были не очень вкусные.