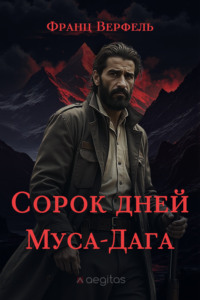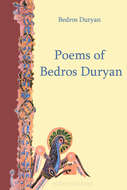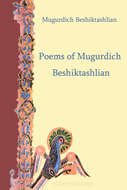This book cannot be downloaded as a file but can be read in our app or online on the website.
Read the book: «Сорок дней Муса-Дага»
В 1933 году Франц Верфель создал монументальный роман "Сорок дней Муса-Дага" – произведение, которое не только рассказывает о трагических событиях прошлого, но и служит мощным напоминанием о вечных вопросах геноцида, исторической памяти, сопротивления и человечности. Эта эпическая сага, основанная на реальных событиях геноцида армян 1915 года, повествует о героической самообороне жителей армянских деревень, расположенных у подножия горы Муса-Даг, в Османской империи. В год, когда исполняется 110 лет со дня начала этой чудовищной трагедии, роман Верфеля приобретает особую актуальность, напоминая нам о необходимости помнить и учиться на ошибках истории.
Ключевая фигура романа – Габриел Багратян, армянин, получивший образование в Париже, который возвращается на родину, охваченную пламенем геноцида. Он, неожиданно для себя, становится лидером сопротивления, направляя усилия сотен своих соотечественников, оказавшихся на грани смерти и полного уничтожения. Верфель с неподдельной искренностью и дотошностью воспроизводит быт, культуру, традиции и духовный мир армянского народа, подчеркивая его богатую историю и культурное наследие, которому грозит полное исчезновение.
Читатель становится свидетелем не только физических страданий и ужасов войны, но и глубокой психологической травмы, которую переживают герои. Они вынуждены принимать тяжелейшие решения, выбирать между покорностью и отчаянной борьбой, между надеждой и отчаянием. Верфель раскрывает человеческие характеры в их крайнем проявлении, показывая как низменные черты, такие как предательство и жестокость, так и высочайшие примеры мужества, самопожертвования и солидарности.
Роман пронизан духом национального самосознания и нравственного выбора. Он исследует глубины человеческой души, ее способность к состраданию и милосердию в условиях бесчеловечности. Верфель проводит параллели с другими историческими трагедиями, задавая непростые вопросы о природе насилия, о причинах войн и о последствиях ненависти. Роман ставит под сомнение саму возможность бездействия перед лицом несправедливости и призывает каждого читателя к личной ответственности за происходящее в мире.
"Сорок дней Муса-Дага" – это не просто историческая реконструкция, это глубокое философское размышление о ценности человеческой жизни, о справедливости, о важности сохранения памяти и о том, как противостоять любым проявлениям нетерпимости и дискриминации. Верфель создал трагедию, которая до сих пор звучит актуально, предостерегая нас от повторения ошибок прошлого. Книга написана в напряженном, захватывающем стиле, который не дает читателю ни на минуту расслабиться. Она побуждает нас не только к сопереживанию, но и к размышлению, к осознанию своей роли в современном мире. Это важный роман, который стоит прочитать каждому, кто интересуется историей конфликтов и трагедий XX века, а также для тех, кто стремится понять смысл жизни в тяжелых обстоятельствах и кто небезразличен к судьбам других людей. Роман также напоминает о том, что правда и справедливость должны быть целью, к которой стоит стремиться, несмотря на все трудности. По прошествии 110 лет, «Сорок дней Муса-Дага» продолжает оставаться памятником героизму и трагедии, призывая нас не забывать и не повторять ошибок прошлого.
Франц Верфель: Жизнь, отраженная в литературе

Франц Верфель (1890–1945), автор романа "Сорок дней Муса-Дага", был выдающимся австрийским писателем, поэтом и драматургом, чье творчество стало отражением непростой эпохи и его личных переживаний. Как он сам говорил, "Все ожидаемое на этом свете, как правило, наступает обычно самым неожиданным образом…". Он родился в Праге в обеспеченной еврейской семье, принадлежавшей к миру промышленников. Верфель получил образование в университетах Праги, Лейпцига и Гамбурга. В годы учебы в лицее он завязал дружбу с Францем Кафкой и Максом Бродом, что оказало значительное влияние на его литературное становление. Знакомство с Куртом Вольфом, издателем писателей-экспрессионистов, привело к тому, что Верфель получил работу в его издательстве.
Накануне Первой мировой войны Верфель активно участвовал в пацифистском движении, сотрудничая с Мартином Бубером и Максом Шелером. Однако в 1915–1917 годах он был вынужден воевать в австрийской армии на русском фронте, что оставило глубокий след в его душе. В 1929 году Верфель совершил путешествие по Сирии, где впервые возник замысел его эпохального романа "Сорок дней Муса-Дага". Книга вышла в свет в 1933 году, в тревожной атмосфере надвигающейся нацистской диктатуры в Германии. Это произведение стало не только художественным памятником трагедии армянского народа, но и предостережением о надвигающейся катастрофе. Через 25 лет после геноцида армян в Турции один из советников Гитлера предупреждал его о последствиях политики уничтожения евреев для будущего поколения немцев. На что Гитлер ответил: «Кто помнит сегодня об армянах?». В основу романа Верфеля легла реальная история жителей семи армянских деревень, которые отказались подчиниться приказу османских властей о депортации в 1915 году и полтора месяца героически оборонялись на горе Муса-Даг против превосходящих сил полиции и турецкой армии.
Всеволод Михайлович Розанов

Всеволод Михайлович Розанов (1915–1985) родился в семье писателя и педагога Михаила Григорьевича Розанова (псевдоним Николай Огнев). Учился в Литинституте (1937–1941). Во время войны был переводчиком и инструктором-литератором Политуправления Карельского фронта, где подружился с Борисом Заходером, оба были награждены медалью "За боевые заслуги" за организованное перемещение детей в бомбоубежища. В 1945–1949 главный редактор Берлинского радио. "Штатный" советский переводчик произведений Германа Гессе, Томаса Манна, Бертольда Брехта, Франца Верфеля и др. Один из первых переводчиков, взявшихся за "Сагу о Нибелунгах" (рукопись утеряна после смерти).
Одним из самых значимых переводов Розанова является работа над романом «Сорок дней Муса-Дага» Франца Верфеля. Этот роман рассказывает историю армянского народа, который в годы Первой мировой войны оказал сопротивление турецким войскам на горе Муса-Даг. Перевод этой книги был выполнен Розановым с особой тщательностью и вниманием к историческим деталям. Он сумел передать всю трагедию и героизм армянского народа, что сделало книгу доступной для русскоязычного читателя.
Работа над «Сорока днями Муса-Дага» стала важной вехой в карьере Розанова. Она показала его способность справляться с сложными темами и передавать их на русский язык так, чтобы они были понятны и близки российскому читателю. Благодаря этому переводу, книга получила широкую известность в России и стала одной из любимых у читателей.
Больше всего любил переводить детские книги, выход которых праздновался вместе с Борисом Заходером прогулками по Птичьему рынку и выездами на рыбалку. Переводы Розанова хороши тем, что их интересно читать как глазами, так и вслух и детям, и взрослым: "… сценарий для спектакля писать не нужно", как говорила его первая супруга автор и исполнитель коротких рассказов Елизавета Ауэрбах.
Всеволод Михайлович Розанов оставил после себя огромное наследие в виде многочисленных переводов и учеников, которые продолжают его дело. Его имя навсегда останется в истории российской литературы как одного из лучших переводчиков своего времени.
Поделитесь своими мыслями и впечатлениями о книге
Благодарим вас за покупку и прочтение «Сорок дней Муса-Дага». Мы очень признательны и надеемся, что вы нашли в ней что-то ценное. Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или семьёй и оставьте отзыв в интернете. Мы всегда будем рады вашим отзывам и поддержке и сможем продолжать заниматься любимым делом.
Оставить отзыв довольно просто, это не займет много времени.
Отзывы читателей
Ольга Васильева
"Сорок дней Муса-Дага" – это не просто роман, это погружение в трагедию, которая не должна повториться. Верфель с огромной силой и точностью воссоздает картину геноцида, показывает страдания, но и подчеркивает невероятную стойкость и героизм армянского народа. Книга, которая бьет в самое сердце и заставляет задуматься о хрупкости мира.
Сергей Алексанян
Если вы хотите прожить войну глазами солдата, прочувствовать ее изнутри, то эта книга для вас. Мой дед, прошедший ад Второй мировой, назвал ее уникальной, подчеркнув ее поразительную правдивость. Она о тех, кто отказался быть жертвами, о тех, кто поднялся на защиту своего народа. Это не история победы, это история выживания, где в конце остаются лишь те, кто смог уцелеть. Она вскрывает суть лидерства в бою и показывает, какой шрам наносит душе убийство.
Anonymus
Роман Верфеля – это страшная и прекрасная симфония о трагедии и мужестве. Автор, не жалея слов, рассказывает о жестокости и бессмысленности войны, но в то же время дает надежду, показывая, что даже перед лицом смерти люди способны на подвиг. Книга, которая остается с тобой навсегда.
Семён Керченский
"Сорок дней Муса-Дага" – это глубокое и пронзительное исследование человеческой природы, которое ставит перед читателем сложные моральные вопросы. Это не просто историческая хроника, а размышление о ценности жизни, о справедливости и о том, как важно бороться за свои убеждения. Потрясающая книга!
Алексей
Эта книга – памятник героизму и трагедии. Верфель показывает нам ужас геноцида во всей его неприглядности, но при этом не теряет веры в человеческий дух. "Сорок дней Муса-Дага" – это не просто чтение, это опыт, который меняет тебя, оставляя глубокий след в душе и заставляя переосмыслить многое.
С вершины мужества
Путь художника всегда не прост.
И чем больше художник, тем сложней и трагичней этот путь, потому что художник, оперируя всем миром, отвечает за все, – это его обязанность перед совестью своего убеждения, его судьба, его сочувствие и помощь, его познание и предупреждение, подкрепленные опытом своих собственных синяков и шишек, опытом своей собственной трагедии.
Художник бьется в одиночку, но судьба его индивидуальности – глобальна.
Такой мне представляется и высокоодаренная индивидуальность Франца Верфеля во всех его прозрениях и терзаниях на пути к вершине творческого подвига своей беспокойной и мятущейся жизни в кровавых водоворотах нашего двадцатого века.
Франц Верфель родился в Праге в 1890 году в богатой купеческой еврейской семье. После окончания гимназии он учился в Лейпциге и Гамбурге.
Его друзьями в поисках истины были Кафка и Эгон Эрвин Киш.
Он очень рано заболел неизлечимым беспокойством «о перемене мира путем духовного обновления всех людей».
Он бросался от христианства к марксизму. Он так до последнего затухания своего творческого гения и не нашел твердой почвы для своих беспокойных поисков.
Он писал стихи и драмы: очерки и эссэ, романы и памфлеты и во всех жанрах оставил свое слово, свою незаурядную индивидуальность, интересную и сейчас не только историку литературы.
Он умер в Калифорнии в 1945 году, и сумрак разочарований изгнанника, подсвеченный салютом победы, замкнулся над его прахом на чужой земле.
Он был ищущей натурой, обладавшей редкостным локатором предчувствия и озаренности прозрения.
Он в числе лучших умов европейской культуры двадцатого столетия в одно и то же время с Роменом Ролланом и Томасом Манном, Лионом Фейхтвангером и Пером Лагерквистом первым начал свою личную войну с фашизмом. Это была жестокая борьба, борьба не на жизнь, а на смерть.
И как у каждого художника, пытавшегося судьбой своей понять свое время, связать своей творческой индивидуальностью прошлое с грядущим, у Франца Верфеля была своя трагедия и своя вершина.
И этой вершиной он заслужил бессмертие.
Я говорю о его эпическом романе «Сорок дней Муса-дага».
Эта книга была написана в 1933 году. Она была одним из первых выстрелов, одним из первых предупреждений и самой Германии и всему человечеству о появлении реального фашизма во всей его омерзительной, кровавой сущности.
Она ясно и убедительно говорила о том, что у Гитлера и Муссолини были в двадцатом веке свои предшественники, она предупреждала Европу и весь мир о том, что эти ученики пойдут дальше своих учителей и в масштабности и в изощренности своих кровавых дел.
Она учила людей бдительности. Она была не только памятником Геноциду, а прежде всего учебником сопротивления. Она разоблачала и самих палачей человечества и их кровавую философию.
Франц Верфель знал, что палач, кроме всего прочего, отвратителен и опасен тем, что имеет свойство, когда у него нет дела, придумывать и выискивать его, что, однажды попробовав человеческой крови, он уже не может жить без нее.
Полвека книга Франца Верфеля боролась с палачами человечества и продолжает свою историческую благодарную миссию по сей день. Она была переведена почти на все европейские языки, она воспитывала умение человека в трудный час своей судьбы жертвовать собой ради своих братьев. Она учила этому высшему подвигу, и в разгроме фашизма, этого самого отвратительного и страшного зла двадцатого века, есть ее еще, быть может, не оцененная по достоинству заслуга.
Эта книга в строю. Она продолжает благородное дело души Франца Верфеля, и горизонты ее действия пока еще безграничны. И слова Фридриха Шиллера о том, что человек, который нужен был лучшим людям своего времени, – нужен для всех времен, целиком относятся и к судьбе самого Франца Верфеля и к его вершинной книге «Сорок дней Муса-дага».
Я уверен, что сегодняшний читатель поймет всю ее великую современность, ее боль, глубину постижения противоречивости нашего времени и будет обрадован ее пронизывающим душу сочувствием.
Мне кажется, что последние слова Юлиуса Фучика, сказанные им всему миру: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» – звучат как самая точная рецензия на книгу его старшего соотечественника Франца Верфеля, потому что рукой того и другого водило одно и то же убеждение, одна и та же верность человеческому братству, одна и та же уверенность в том, что палачи побеждаемы, какими бы жестокими они ни были, тем более что жестокость есть не что иное, как оборотная сторона трусости.
Есть в Ереване, на крутом берегу Раздана, печальный памятник жертвам Геноцида, памятник позору истории Турции. Памятник чудовищному преступлению разнузданного национализма, можно сказать, первого реального действия фашизма в двадцатом веке, уничтожившего в 1915 году половину армян, памятник жестокости. Памятник предупреждения всем народам всей нашей земли.
И когда я там бываю, я слышу плач Комитаса, пронзительный плач недоумения и тревоги, плач человеческой души и космоса, обращенный вечным своим звучанием ко всем человеческим душам будущих времен. Этот плач сливается в моей душе с плачем Майданека и Освенцима, Клооги и Бухенвальда, с криком детей Лидицы и Хатыни.
Но Франц Верфель обратился в своей книге не столько к жерт вам, сколько к героям, не к пассивному подчинению жестокости, а к сопротивлению, к примеру активного противостояния палачам.
Герой его книги Габриэл Багратян, армянин по происхождению, сын богатых родителей, получивший блестящее гуманитарное образование в Европе, офицер турецкой армии, имеющий награды за храбрость, полученные на Балканском театре военных действий, вместе с француженкой-женой и сыном возвращается из Парижа как наследник в имение своего умершего брата в Турцию, к подножию горы Муса, в страну своего детства, в мир своих сородичей-армян.
У него есть все. Деньги. Семья, прекрасный дом, своя земля и устойчивое положение в обществе.
Но весь этот мир мнимого благополучия, шатаясь, рушится под натиском непредвиденного события.
Один из руководителей тогдашнего турецкого правительства, Энвер-паша, обманом отнимает у армян оружие и, объявив их вне закона, обрушивает на них ненависть фанатиков, и огнем и мечом в этом разгуле национализма начинается планомерное и хорошо разработанное поголовное истребление армян.
И с блестящего офицера турецкой армии Габриэла Багратяна, отмеченного турецкой наградой за храбрость, слетает лоск европейского космополитизма, и он становится сыном своего народа. И сами события ставят его во главе сопротивления. Он знает военное дело. Он собирает армянское население окрестных деревень и ведет из долины на гору Муса.
Он находит единомышленников и оружие и организует оборону по строгим правилам фортификации.
Ему некогда было думать, как он превратился в Леонида,1 а его сородичи стали похожи на греков в битве при Фермопилах.
По всей Турции идет резня армян. Их грабят и насильно сгоняют с их родины, давным-давно обжитых мест и гонят по всем дорогам Турции в гиблые места, где они будут умирать от голода под беспощадным солнцем пустыни.
Так же через четверть века эсэсовцы по приказу Гитлера будут сгонять в Бухенвальд и Освенцим, в Равенсбрюк и Клоогу евреев и поляков, русских и цыган – всех неугодных – к газовым печам, к ямам и будут жечь, расстреливать в упор женщин и детей, стариков и старух и над всей Европой воздух будет пахнуть паленым человеческим волосом.
По всей Турции идет резня армян, но стоит Муса-даг, неприступная гора армянского мужества. Ее гарнизон отбивает атаки регулярных батальонов Талаата. Истекает кровью, но держится гора Муса – у ее гарнизона нет другого выхода. И он стоит на своих рубежах. Он отбивается и наступает. Один среди всей земли, охваченной огнем безумия, не сдает высоты мужества своего человеческого духа.
С таким же упорством будут стоять четверть века спустя защитники Бреста и Гангута, защитники Аджимушкия и Одессы, защитники Ленинграда и Москвы. Все братья по мужеству, все герои битвы за человеческое достоинство.
Стоит гора Муса сорок дней и ночей на голодном пайке – без хлеба и пороха. Стоит и будет стоять как пример стойкости для всех народов всей земли, для всего человеческого братства.
И нет смерти героям Муса-дага, их подвиг остается на века в душе самого времени.
Его, этот подвиг, для всех времен и всех народов оставил сочувствием сердца своего, мужеством души своей, мастерством таланта своего писатель Франц Верфель.
Он написал эту книгу в 1933 году. Написал как предупреждение всей Европе и всему миру о том, что на земле появился Гитлер, что за ним идет беда, крупнее по масштабам и коварнее по изощренной жестокости.
И Франц Верфель не ошибся и самой судьбой своей поплатился за это откровение. Гитлер выгнал Верфеля из Австрии. Он переехал в Париж. Гитлер выгнал его из Парижа, он вместе с Томасом Манном тайно перебрался в Испанию, потом через Португалию в Америку. Гитлер хотел превратить его в изгоя, а он стал сыном Земли, певцом людей, которым ничего не страшно, если они готовы умереть друг за друга каждую минуту.
Книга Франца Верфеля «Сорок дней Муса-дага» – это песня мужеству. Она написана абсолютно талантливо. У каждого героя этой книги свой характер и свой голос. Она умна и дальновидна.
У нее будет завидно долгий век, потому что от души идущее слово, слово, наполненное страстью, долговечнее даже мрамора, на котором оно высечено.
В этой книге живут и действуют мудрость познания, горечь опыта и беспощадность предвидения, причем написана она, как это и подобает большому художнику, не назойливо, а с той долей естественной правдивости, которая делает ее духовным явлением времени.
На берегу Раздана стоит печальный памятник Геноциду. Там внутри склоненных колонн как в каменных ладонях вечности, горит вечный огонь памяти и звучит пронзительная музыка, просвещающая человеческую душу.
Но кроме этого памятника, за городом, по дороге в Эчмиадзин, у деревни Мусалер, у той самой деревни, в которой живут потомки защитников горы Муса, есть другой памятник, – памятник героям Муса-дага. Он стоит как башня бесстрашия на взгорье, сооруженный из красного туфа, на лицевой стороне просматривается означенный рельефом орел – символ смелости и красоты человеческого духа.
Этот памятник построен самим народом. И каждый год здесь в день Победы на Муса-даге собираются наследники героев и молча клянутся нести эстафету мужества по дороге человеческого братства.
На красной кладке добротно обтесанного туфа еще пока не выбито ни одного имени героев Муса-дага. Они будут выбиты, эти имена. Все до одного. И среди этих имен мне хотелось бы увидеть имя Франца Верфеля. воссоздавшего этот подвиг для всех людей на все времена.
Он достоин этого.
Михаил Дудин
К публикации размышлений Любищева о книге Верфеля
Публикуемые размышления о книге Франца Верфеля об армянской трагедии, геноциде 1915 г., типичны для творческой манеры и стиля биолога-эволюциониста и философа Александра Александровича Любищева (1890–1972). После прочтения почти каждой заинтересовавшей его книги, статьи, кинокартины он сразу писал развернутый критический комментарий. При этом главным для него были не столько стиль и художественная манера, но мировидение, философско-идейные устремления автора. Так появились развернутые эссе о творчестве Лескова, Толстого, Достоевского, Сент-Экзюпери, о книге А. Веркора «Люди или животные», о фильме «Нюрнбергский процесс».
Комментарий к роману Верфеля был написан в 1968 г., когда Любищеву было 78 лет. Поэтому многого стоит его заключительное признание: это «один из самых интересных романов, которые я читал» (Любищев читал в подлиннике по-немецки). Роман Верфеля впервые вышел в Берлине в 1933 г., в ноябре 1934 г. уже был издан в Америке издательством «Викинг Пресс» тиражом в 200 тыс. и далее регулярно печатался в разных странах. В 1965 г. его тираж превысил 1 млн. экз. Однако в СССР на русском языке роман был напечатан лишь в 1984 г. в Армении. В кратком вдохновенном предисловии ленинградский поэт М. Дудин назвал книгу Франца Верфеля песней мужества. «Она написана абсолютно талантливо. У каждого героя этой книги свой характер и свой голос. Она умна и дальновидна. У нее будет завидно долгий век, потому что от души идущее слово, наполненное страстью, долговечней даже мрамора, на котором оно высечено. В этой книге живут и действуют мудрость познания, горечь опыта и беспощадность предвидения, причем написана она, как это и подобает большому художнику, не назойливо, а с той долей естественной правдивости, которая делает ее духовным явлением времени».
Естественная правдивость – результат пристального изучения Верфелем армянской истории и связанных с трагедией событий в библиотеке армянской конгрегации в Вене: «я прочел у венских мхитаристов сотни томов, восемь месяцев работал день и ночь». Верфель совершил поездку в Сирию, на него произвели незабываемо тяжкое впечатление хранившие ужас прошлого лица детей-сирот, работавших на ковроткацкой фабрике.
Композиционный стержень романа составляют три напряженных диалога немецкого пастора Лепсиуса с влиятельными участниками событий 1915 г. Первый из них – военный министр правительства младотурок Энвер-паша (1881–1922), второй – главный советник Министерства иностранных дел Германии, в союзе с которой Турция была в Первой мировой войне, третий – глава ордена «истинных мусульман», находящихся в идейной оппозиции к младотуркам – проводникам чуждой Востоку европейской культуры.
При чтении диалогов возникает тягостное ощущение безнадежности отчаянных усилий пастора как-то предотвратить или хотя бы смягчить задуманную массовую гибель народа. Под видом депортации в 1915 г. младотурки планомерно обрекли на смерть более 1,5 млн. армян, отторгли или разрушили многосотлетние центры их культуры. Геноцид начался с призыва в армию в феврале 1915 г. армянских мужчин. Затем солдат-армян разоружали и просто убивали или использовали на принудительных работах до тех пор, пока они не умирали от истощения. Потом в ночь с 24 на 25 апреля 1915 г. в Константинополе было арестовано около 600 армянских политических и культурных деятелей, из которых в живых осталось всего 15. Все армянские газеты были запрещены, армянские предприятия и магазины закрыты. Своего рода антиармянская «Хрустальная ночь».
Армянское гражданское население осталось беззащитным, и во всех вилайетах Османской империи было объявлено о его переселении «своим ходом» в пустынные районы за Евфратом. В пути происходила массовая резня. «По осторожным оценкам, в результате этого тщательно осуществленного плана погибло 1,5 миллиона армян», – писал комиссар Лиги Наций Ф. Нансен.
В 1915 г. США еще сохраняли нейтралитет в войне. Посол США в Турции, опытный дипломат Генри Моргентау (1856–1946), встречался с младотурецкими лидерами Энвером и Талаатом, выражал беспокойство, приводил свидетельства массовой гибели армян, включая женщин и детей. Не помогло. Когда же в беседе с Энвером на данные Моргентау сослался пастор Лепсиус, последовал высокомерный ответ: «Мистер Моргентау – еврей. А еврей всегда фанатически становится на сторону меньшинства». Любищев отмечает, что такого рода фанатизм – достоинство, а не недостаток. В книге Верфеля есть
важная мысль об истоках еврейской чувствительности: «Преследуемые, угнетенные народы – хорошие проводники страдания. Боль одного разделяют все».
Описанию самой катастрофы посвящено множество исторических работ и воспоминаний. Об этом нельзя говорить мимоходом. Приведу лишь ответ пастора Лепсиуса на циничную реплику Энвера-паши: «Дело не в Моргентау, ваше превосходительство, а в фактах. А факты вы не станете и не можете опровергать. Сотни тысяч людей уже на пути в ссылку. Власти говорят о переселении. Я же утверждаю, что это, мягко выражаясь, – злоупотребление словом. Можно ли действительно народ, состоящий из крестьян, ремесленников, горожан, культурных людей, одним росчерком пера выселить в месопотамские пустыни и степи, в бескрайний песчаный океан, из которого бегут даже племена бедуинов? Но вряд ли вы задались такой целью. Слово «переселение» – постыдная маскировка. Депортация организована властями так, что несчастные через неделю погибают в пути от голода, жажды и болезней или сходят с ума. Курдам и бандитам, да и самим солдатам разрешено убивать юношей и мужчин, оказывающих сопротивление, а девушки и женщины обречены на бесчестие или угон… Район военных действий – вот единственный новый аргумент. Все остальное – государственная измена, интриги – уже было. Такие средства мастерски использовал еще Абдул Гамид, и вы хотите, чтобы армяне всему этому верили?.. Речь идет не о защите от внутреннего врага, а о планомерном истреблении другого народа».
Трагедия изгнания и поныне в памяти и в сердце каждой армянской семьи. О ней каждодневно напоминает и величественная снежная вершина горы Арарат, поднимающейся над Ереваном, – горы, являющейся символом армянской цивилизации и запечатленной на гербе Армении. Арарат и долина озера Ван и поныне отторгнуты, находясь в стране, до сих пор не признающей преднамеренное осуществление армянской Катастрофы. Позволено указывать лишь на нежелательные, но «неизбежные» жертвы среди армянского населения, вызванные военным временем, – знакомый довод военного министра младотурок Энвера-паши.
Причины того, почему слово «геноцид» вызывает ярость в современной Турции, проанализировал живущий в изгнании (во Франции) турецкий журналист Танер Акчам. Казалось бы, современная Турция могла признать массовые убийства, могла сказать, что все это было в Османской империи, когда Турции как государства в его нынешних границах еще не существовало, и что создатель Турции Мустафа Кемаль («отец турок» – Ататюрк) решительно порвал с прошлым, упразднил и султанат, и халифат, провел вестернизацию и неоднократно требовал осуждения виновных младотурок; некоторые из них даже были казнены.
Акчам указывает на три причины, мешающие Турции признать и осудить геноцид, как это сделала Германия в отношении евреев. Первая – резкий разрыв традиций, провал в исторической памяти турок в связи с революционными реформами Ататюрка, включая переход в письме на латиницу в 1928 г. Реальное прошлое было заменено мифологемами, официальной историей, написанной по заказу (так в СССР «подлинная» история начиналась лишь с 1917 г.). Вторая причина – социально-психологическая. Османская империя, где главенствовали турки, до Первой мировой войны и после нее претерпела ряд поражений и унижений и уменьшилась, как шагреневая кожа. Армяне как бы олицетворяли собой врага, удовлетворяя стремление толпы к мести.
Существен и «первородный грех» рождения Турции, который влечет к подавлению национальных меньшинств – армян и греков – после поражения Османской империи в первой мировой войне. Ряд лиц в окружении Ататюрка, считавшихся героями, были активно причастны к геноциду. В свое время они, как замечает Акчам, «разбогатели на грабеже и опасались, что армяне вернутся, попытаются вернуть захваченное и отомстить». Наконец, признание геноцида может поставить вопрос о репарациях. Эти обстоятельства помогают понять, почему в Турции тема Катастрофы армян табуирована. Лишь в последние годы это табу ослабевает, начала работать «Турецко-армянская кoмиссия по примирению».
Любая социальная трагедия, как известно, сначала происходит «в головах». И поэтому Любищев детально анализирует «головные доводы» собеседников Лепсиуса, где противная сторона излагает и искусно защищает «свою правду». Верфель дает оппонентам Лепсиуса полностью высказаться. Это-то и привлекает Любищева. Он демонтирует оправдывающие террор селективные конструкции, указывает на фальшь или прорехи частичной правды и кажущихся государственно-разумными доводов Энвера, перед которыми Лепсиус почувствовал себя опустошенным.
«Ужасен не «чистый разум», – пишет Любищев, – а несовершенный разум, подкрепленный неосознанным чувством и слепой верой, особенно когда эмоциональные истоки веры или суеверия не осознаются». Пантюркизму, который исповедовали младотурки, мешали христиане-армяне, которые многие сотни лет жили в Восточной Анатолии и как бы вклинивались между западными и восточными турками (азербайджанцами). Именно это обстоятельство мотивировало доводы младотурок о необходимости массового изгнания армян, в том числе с территорий, отстоящих на сотни километров от военных дейcтвий (вокруг горы Муса Даг на побережье Средиземного моря). Отсюда и совершенный Энвером в 1918 г. в нарушение Брестского мира захват Баку с последовавшей резней тысяч армян. Отсюда тянется нить и к сравнительно недавней резне армян в Сумгаите, когда в СССР ослабла сдерживающая сила федеральной власти.
В оправдании убийственной депортации военными обстоятельствами или «антитурецким» поведением армян легко прослеживается аналогия с обвинениями Гитлера против евреев. В этом же ряду стоят недавние юдофобские упражнения на темы еврейской истории академика И. Шафаревича. Он ведь договорился – совсем в стиле Энвера-паши – до оправдания погрома «Хрустальной ночи» 9-10 ноября 1938 г., ибо, по его словам, гитлеровская Германия «должна была найти ответ на террористический акт, направленный против ее граждан». Математик и культуролог Борис Кушнер достойно ответил на эти и подобные им «младотурецкие» доводы и дал справедливую оценку соображениям г. Шафаревича о том, что «евреи сами ответственны за нацистские изуверства».