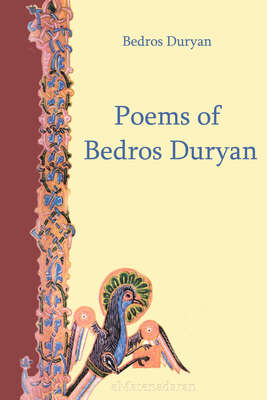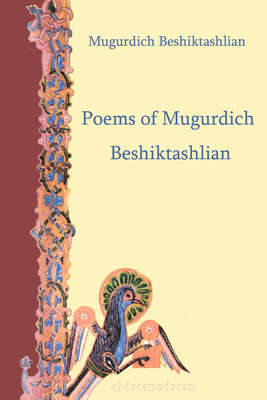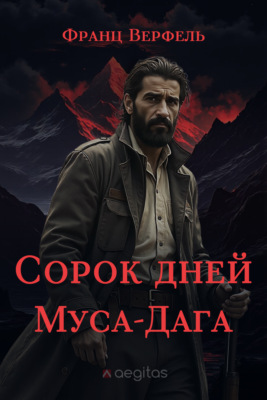This book cannot be downloaded as a file but can be read in our app or online on the website.
This book cannot be downloaded as a file but can be read in our app or online on the website.
About the book
В 1933 году Франц Верфель создал монументальный роман «Сорок дней Муса-Дага» – произведение, которое не только рассказывает о трагических событиях прошлого, но и служит мощным напоминанием о вечных вопросах геноцида, исторической памяти, сопротивления и человечности. Эта эпическая сага, основанная на реальных событиях геноцида армян 1915 года, повествует о героической самообороне жителей армянских деревень, расположенных у подножия горы Муса-Даг, в Османской империи. В год, когда исполняется 110 лет со дня начала этой чудовищной трагедии, роман Верфеля приобретает особую актуальность, напоминая нам о необходимости помнить и учиться на ошибках истории.
Ключевая фигура романа – Габриел Багратян, армянин, получивший образование в Париже, который возвращается на родину, охваченную пламенем геноцида. Он, неожиданно для себя, становится лидером сопротивления, направляя усилия сотен своих соотечественников, оказавшихся на грани смерти и полного уничтожения. Верфель с неподдельной искренностью и дотошностью воспроизводит быт, культуру, традиции и духовный мир армянского народа, подчеркивая его богатую историю и культурное наследие, которому грозит полное исчезновение.
Читатель становится свидетелем не только физических страданий и ужасов войны, но и глубокой психологической травмы, которую переживают герои. Они вынуждены принимать тяжелейшие решения, выбирать между покорностью и отчаянной борьбой, между надеждой и отчаянием. Верфель раскрывает человеческие характеры в их крайнем проявлении, показывая как низменные черты, такие как предательство и жестокость, так и высочайшие примеры мужества, самопожертвования и солидарности.
Роман пронизан духом национального самосознания и нравственного выбора. Он исследует глубины человеческой души, ее способность к состраданию и милосердию в условиях бесчеловечности. Верфель проводит параллели с другими историческими трагедиями, задавая непростые вопросы о природе насилия, о причинах войн и о последствиях ненависти. Роман ставит под сомнение саму возможность бездействия перед лицом несправедливости и призывает каждого читателя к личной ответственности за происходящее в мире.
"Сорок дней Муса-Дага" – это не просто историческая реконструкция, это глубокое философское размышление о ценности человеческой жизни, о справедливости, о важности сохранения памяти и о том, как противостоять любым проявлениям нетерпимости и дискриминации. Верфель создал трагедию, которая до сих пор звучит актуально, предостерегая нас от повторения ошибок прошлого. Книга написана в напряженном, захватывающем стиле, который не дает читателю ни на минуту расслабиться. Она побуждает нас не только к сопереживанию, но и к размышлению, к осознанию своей роли в современном мире. Это важный роман, который стоит прочитать каждому, кто интересуется историей конфликтов и трагедий XX века, а также для тех, кто стремится понять смысл жизни в тяжелых обстоятельствах и кто небезразличен к судьбам других людей. Роман также напоминает о том, что правда и справедливость должны быть целью, к которой стоит стремиться, несмотря на все трудности. По прошествии 110 лет, «Сорок дней Муса-Дага» продолжает оставаться памятником героизму и трагедии, призывая нас не забывать и не повторять ошибок прошлого
Reviews, 16 reviews16
40 дней Муса Дага первый раз прочитала лет в 17. Осталась под большим впечатлением. Это была большая книжная любовь- после этой книги другое казалось бессмысленно) Второй раз уже перечитала тут, в приложении. Более вдумчиво, останавливаясь, думая. Написано легко, живо, подробно. Спасибо за то что есть возможность прочитать это великое произведение. Жаль что мне не с кем обсудить, мои друзья не такие книжные черви)
Много лет не могла прочитать эту книгу. Принималась за нее, но не могла. Так больно было читать. Так пронзительно написано. Как смог этот человек так понять то, что происходило тогда и там с армянами, не будучи армянином? Наверное, потому что такие вещи, как настоящее горе и настоящий героизм – это общечеловеческое. Хотя еврею, конечно, понять такой масштаб трагедии и боли проще. И ведь все – и описанные события, и работа над книгой – было еще до Холокоста. Но века страданий откладываются в подсознании, в генах.
И ничему история не учит…
Прочитала на одном дыхании. Читается легко, герои все запоминаются, не теряются в памяти. У кого с психикой слабо- лучше не читать, подробности издевательств над людьми долго мучают голову. Потрясающая книга, соглашусь с высказыванием, что после неё трудно переключиться на другое чтиво.
прекрасная книга! невозможно было сдержать эмоции в конце чтения. книна напоминает нам о том, что определяет смысл жизни человека, как сложно пройти свой путь, следуя добру и любви.
Обязательна к прочтению для всех, кто не чужд проблемам общечеловеческим и увидеть пример несгибаемого человеческого духа
Ага двигался будто в облаке благословений, криков о помощи, слезных просьб. Он с трудом прокладывал себе путь. Никогда еще, даже в депортационных лагерях, Рифаат Берекет не видел таких лиц, как здесь, на Дамладжке. Почти у всех детей были большие головы рахитиков, нетвердо державшиеся на тоненьких шейках, и огромные глаза, словно знавшие что-то, чего человеческим детенышам знать не должно. Рифаат подумал, что и самый ужасный этап, вероятно, не действует так обесчеловечивающе, как эта отрезанность и отверженность. Сейчас ему открылось, насколько разрушительные силы, калечащие душу, превосходят силы, умертвляющие плоть. Самое страшное — это не истребление целого народа, а истребление лика божьего в целом народе. Меч Энвера, разя армян, поразил самого аллаха. Ибо и в армянах, как и во всех людях, живет аллах, хотя они и неверующие. Но тот, кто уничтожает достоинство в живом создании, уничтожает в нем Создателя. А это преступление против бога, грех, который не прощается до конца времён. Перед духовным взором благочестивого дервиша Рифаата Берекета, в своих медитациях и упражнениях столь часто приближавшегося к миру иному, к судьбам ушедших душ, предстали сейчас чудовищные картины. Даже там, пред вратами благости, пред дверьми гармонии толпились депортационные колонны, не получая доступа. Набитые битком пересыльные лагеря душ — душ, которым не дано возвыситься, ибо бесконечные муки и долгое изгнание отняли у них способность летать. И там, как и здесь, на Муса-даге, обжигающие взгляды голодающих, коим и на том свете суждено вселенское нищенство. Старцу казалось, что он шагает сквозь густое облако пепла, облако смерти армянского народа, клубящееся между этим и тем миром. (Не. замечая этого, он действительно вдыхал пепел от догорающего лесною пожара, который горный ветер гнал на запад). Неужели этому пути через армянскую судьбу никогда не придет конец? Рифаат Берекет ступал, опираясь на палку, и с каждым шагом еще больше старел и горбился. Теперь он видел перед собой только землю, все это породившую и все это терпевшую.
Габриэлу Багратяну посчастливилось. Вторая турецкая пуля пробила ему висок. Падая, он ухватился за деревянный крест и увлек его за собой. И крест сына лег ему на грудь.
Что соль в глазу был Зейтун для турецкого национализма. Ибо если есть в мире священные места и реликвии, привлекающие паломников и погружающие их в благоговейное созерцание, то наряду с этим есть и такие места, которые возбуждают лютую злобу и ненависть фанатиков-шовинистов.Причины такой ненависти к Зейтуну были совершенно ясны. Во-первых, в этом городе почти до конца девятнадцатого века существовало свободное самоуправление, такой порядок вещей, который господствующей нации напоминал о кое-каком неприятном опыте, полученном в старину. Во-вторых, в зейтунских армянах сохранилось искони присущее им на протяжении всей их истории стремление к независимости, подчас оборачивающееся заносчивостью и спесью. Но непростительней всего было неожиданное поведение армян в 1896 году; оно осталось неизгладимым воспоминанием, постоянным источником ненависти турок. Именно тогда «добрый» султан Абдул Гамид сформировал, в числе других добровольческих отрядов, и «гамидие» — банды солдатни, навербованной из временно выпущенных на волю каторжников, разбойников и кочевников, — создание таких банд преследовало лишь одну цель: иметь в своем распоряжении лихих головорезов, готовых без зазрения совести спровоцировать события, с помощью которых султан надеялся заткнуть рот взывающему о реформах армянскому населению.Добровольцы эти всюду весьма успешно справлялись со своей задачей, а вот в Зейтуне схлопотали по шее и поплатились немалой кровью, вместо того чтобы устроить веселый и прибыльный погром. Но мало того — зейтунцы жестоко всыпали на узких улочках города и регулярным батальонам, поспешившим на выручку гамидие. Батальоны эти тоже понесли большие потери. Никакого успеха не принесла после этого и осада города силами крупных военных частей. Зейтун оказался неприступным. Когда же в конце концов европейская дипломатия вступилась за отважное армянское население и послы при Высокой Порте, которая не знала, как выйти из позорного положения, добились полной амнистии для Зейтуна, вот тогда и возникло у турок это взывающее к мести чувство безмерного унижения. Все воинственные нации — не только османская — мирятся с поражением, если оно нанесено сходным с ними противником; но быть побитым представителями расы, чуждой воинскому идеалу, — книжниками, торговцами и ремесленниками, этого душа вояки никогда не забудет. Таким образом, новому правительству от старого досталось в наследство и позорное воспоминание о поражении в Зейтуне, и лютая ненависть. А где, как не на большой войне, представится случай отомстить?
О массовых убийствах и погромах он знает только из книг и по рассказам.
Человек, одержимый навязчивой идеей, способен заразить ею других и может даже подчинить себе многолюдное сборище. На этом и основана сила воздействия ораторов-политиканов, у которых за душой нет ничего, кроме скудного запаса слов и демонически проникновенного голоса.