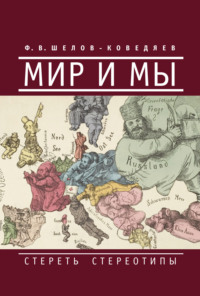Read the book: «Мир и мы. Стереть стереотипы»
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Фонда «Российский общественно-политический центр»

© Ф.В. Шелов-Коведяев, 2012
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012
Обращение к читателю
Некоторое время тому назад мы с автором предлагаемой вниманию читателя публикации были в течение нескольких лет участниками одного методологического семинара.
Уже тогда меня приятно удивила неординарность подхода Фёдора Шелова-Коведяева, известного с 1980-х годов учёного и общественного деятеля, работавшего в переломное время Первым заместителем Министра иностранных дел России, к обсуждаемым вопросам. Особое внимание обращало на себя то, что его мнения были основаны на редком в эпоху «клипового» сознания фундаментальном знании деталей истории, культуры, антропологии, солидном политологическом анализе, предстающих, кроме того, в несомненном философском обрамлении. Эти же качества в полной мере проявлены им и в его нынешней работе.
Книга «Мир и мы: Стереть стереотипы» была ожидаемой. Но мне, в то же время, представляется, что для многих она явится неожиданной по своим установкам и открывающей несомненно новую глубину понимания того, что обсуждается в четырёх её разделах – Глобальное и национальное, Контрапункты истории, Социальная антропология, Россия в мировом контексте.
Каждый исследованный автором сюжет представляет собой отдельный этюд, и потому представляет интерес уже сам по себе. Но поскольку все они плотно увязаны между собою, книга читается как неразрывное целое, объединённое сквозным замыслом преодоления с нашем сознании устоявшихся шаблонов, будь то оценки собственного или стороннего прошлого и настоящего, Востока и Запада, политики и общественной жизни, или же, например, рисков и вызовов модернизации, которые особенно обострились к концу 2011 года.
Мне особенно близки мысли Фёдора Шелова-Коведяева о сопричастности каждого человека к происходящим событиям и его ответственности за их протекание и их результаты. Важно, что это написано человеком, который едва ли не со студенческих времён демонстрировал такую сопричастность и такую ответственность.
Ведь слишком часто многие склонны отторгать от себя ответственность и пытаться найти кого-то другого, внешнего «ответственного» за нас. Автор же, довольно деликатно касаясь этой ключевой темы, подводит читателя к главному выводу о возможности успеха России только в том случае, если любой из нас будет ответственен за себя самого, свою семью и страну. При этом исключительно важна и значима именно такая последовательность, так как безразличие к семье, а на ней строится общество, влечёт за собой и пренебрежение Отечеством.
Книга содержит богатый материал о современных вызовах и целях, стоящих перед страной, исторических факторах, социальных, политических и экономических проблемах, о требованиях, предъявляемых нынешним временем к человеку, обществу и власти.
Я благодарен автору за его фундаментальный труд и возможность сказать о нём несколько слов и хочу пожелать ему в следующих книгах ещё раз вернуться к неисчерпаемости понимания того, что представляет собой русская власть и страна Россия.
ВЛАДИМИР ИЛИГИН
Депутат Государственной Думы Председатель Комитета по Конституционному законодательству и Государственному строительству доктор юридических наук адвокат 14 января 2012 года
Вводное слово
Новая книга Фёдора Шелова-Коведяева подводит на сегодня итог его размышлениям в столь разных, на первый взгляд, областях политической аналитики, как взаимосвязь внутрироссийских и глобальных процессов, ключевые развилки прошлого и настоящего, социальная антропология и шансы России в меняющемся мире. Автор рассматривает их как части одной системы, имя которой – культура, и предлагает анализировать происходящее с нами в контексте неразрывного единства и глубокого взаимовлияния всех её сторон.
Автор известен как возмутитель спокойствия, мастер формулировать парадоксы, нарушающие плавное течение дискуссии по правилам комфортных стереотипов. Данная книга – очевидное тому подтверждение.
К тому же, Шелов-Коведяев имеет репутацию убеждённого правого либерала, – когда экономический либерализм сочетается с требованием соблюдения нравственных ценностей в публичной и частной сферах и следования национальным традициям. В своей книге он не только подчёркивает позитивные стороны опыта 1990-х годов (что сейчас не слишком модно), но и резко оценивает приверженность нынешних властей ограничению политической и экономической активности в стране и жёстко критикует отечественный политический класс за его незрелость и неспособность видеть, формулировать и обеспечивать национальные интересы России.
В равной степени автор подвергает суровой критике общества и лидеров Запада за противоречия их демократии, за их неумение выд-ти за устоявшиеся шаблоны политики, прав человека, предложить новые идеи вместо устаревших механизмов социальной инженерии и моделей управления обществом и миром, за нечувствительность к базовым культурным кодам.
Ф. В. Шелов-Коведяев пишет в ярком публицистическом стиле, что облегчает восприятие книги и заставляет читателя по-новому взглянуть на многие привычные вопросы вне зависимости от того, соглашается он с автором или нет.
СЕРГЕЙ КАРАГАНОВ
14 ноября 2011 года
К философии мироустройства
(Вместо предисловия)
Системный кризис, продолжающийся с осени 2008 года, ускорил формирование этой книги. Мне давно хотелось свести вместе свои размышления, которые на первый взгляд могут показаться мало связанными между собою, но которые объединяет главное – уход от шаблонов. Но то время представлялось неудачным, то приходилось отвлекаться на темы, выглядевшие более актуальными. И вот глобальные потрясения всё расставили на свои места.
Россия столкнулась с очередными жёсткими вызовами в ситуации, которая предъявляет к нам, помимо всеобщих, ещё и специальные требования. Болезнь, если её правильно лечить, закаляет организм. В противном случае она его убивает. Кризис – тот же недуг, но в других масштабах. Он либо укрепит страну, либо её уничтожит.
Размеры мировой депрессии заставляют всех усиливать государственное регулирование экономических процессов. Россия следует общей тенденции, исходя из рыночной природы своей нынешней экономики. Но на нашем рынке и так действует избыточное количество (и этим вызвано немало национальных трудностей) монопольных и государственных игроков. Поэтому простое усиление их роли и/или увеличение количества, если учесть, что коррупция в стране приобрела системный характер, не решит наши проблемы.
Кардинальная модернизация всей социальной, политической и экономической системы России – не вопрос чьих-либо настроений или дискуссий. Ситуация требует коренной трансформации сложившейся в отечестве на сегодня общественной модели.
В отличие от периодов стабильного роста всеобщего благосостояния, в эпоху испытаний люди оказываются обязаны взять на себя принципиально больше, чем они обычно привыкли, ответственности за будущее, как своё и своих близких, так и народа в целом. А для этого иметь возможность пользоваться значительно большей свободой, чем прежде – от открытости информации о реальном положении дел и выражения своей позиции, энергичного участия в улучшении социальной инфраструктуры, честного обсуждения шагов правительства и их корректировки до доступа к легальной хозяйственной активности – и осуществлять больший контроль над действиями властей, чем те готовы были бы принять в иной обстановке.
Иначе граждане не будут чувствовать сопричастности решению стоящих перед нацией задач, не будут воспринимать его как общее дело. Без солидарности же разных социальных групп здесь и сейчас стране не выжить в кризис и не выдти из него.
Мы не впервые стоим перед историческим выбором, когда от лидеров нации требуется выход за стереотипы. В значительно худших условиях конца существования СССР Борис Ельцин сумел это сделать. Теперь у страны есть всё, чего ей тогда недоставало: и резервы ЦБ, и дееспособные субъекты бизнеса, и опыт, позволяющий избежать издержек, сопровождавших возвращение экономики на естественные рельсы в начале 90-х годов, и административный ресурс Кремля. У большинства политиков, занимающих ответственные позиции, есть понимание долгосрочных пагубных последствий предпринимавшихся в прошлом мер мобилизационной модернизации. Есть пример ставшего Именем России Александра Невского, пошедшего, когда Русь оказалась меж двух огней, вопреки всему, на союз с непреодолимой силой, дабы одолеть преодолимую.
Не смотря на это, исходящий от официальных источников казённый оптимизм не убеждает. Потому, что в обществе нет понимания того, что положение, в котором очутился Святой Благоверный Князь, повторилось теперь не буквально, а с обратным знаком. Ведь, хотя страна снова на перепутье между Востоком и Западом (грубо говоря, между США и Китаем), их потенциалы для будущего России поменялись местами. Кроме того, в переломный момент нас постигло и отсутствие политического класса, чей дефицит никогда ранее не ощущался столь драматически.
Внутренние трудности усугубляются внешними. Стало очевидно, что философия мироустройства не сводится к архитектуре мирового порядка. Однако, действующие на мировой арене игроки, без исключения, не готовы отказаться от устаревшего инструментальноприкладного, технического подхода к абсолютно новым глобальным проблемам. Как будто для предотвращения худшего достаточно одних управленческих решений.
Системность кризиса означает, что он поразил системообразующие опоры существующей поныне мировой системы, то есть сами её несущие конструкции. Следовательно, тут требуется не косметический ремонт, а их полная замена на новые, исходя из инновационных взглядов, концепций и механизмов. Вместо этого международные эксперты, бизнесмены, чиновники и политики продолжают оперировать искусственными конструктами «Север-Юг» и т. п., увлекаться безжизненными умозрительными схемами подновления наличествующих финансовых инструментов, выращивания новых мировых валют, расчётных центров и торговых площадок, а также административного снятия наиболее острых вызовов. Которые, что самое опасное, рассматриваются в полном отрыве друг от друга.
Надо понимать, что дело идёт о кризисе определённого типа культуры, где экономический интерес занял гипертрофированное место. Где стимулирование потребления привело, в частности, к снижению качества товаров, так как пропала заинтересованность в их долгосрочном использовании. Поскольку кризис поразил культуру, а экономика является лишь её частью, он имеет комплексный характер, охватывая, кроме той, все политические, социальные и прочие культурные параметры, а также факторы безопасности.
Одно из его проявлений – опасности и ограничения, с которыми сталкиваются демократия и права человека по всему миру вследствие борьбы с терроризмом или за лучшее будущее, и которые нередко отзываются в новых демократических государствах нестабильностью политической системы. В эту же тенденцию укладывается и кризис лидерства, переживаемый Соединёнными Штатами.
Происходящее воспринимается там настолько серьёзно, что вице-президент США и признанный знаток в области международной политики, обороны и безопасности, Джозеф Байден ещё в декабре 2008 года предвидел, что если мир оперативно не справится с навалившимися на него проблемами, то летом 2009-го его ждёт крупный конфликт. Действительно, на такую возможность указывал, в частности, военный опыт Европы в XX веке.
Америке для выхода из Великой Депрессии тоже потребовались – новый курс Рузвельта (давший миллионам американцев, кроме всего прочего, рабочие места в СССР), время (оно ушло, по мере восстановления покупательского спроса, на распродажу перепроизведённой, накануне краха, продукции длительного пользования, после чего стало возможным перейти к новому, включая технологии, её производству) и война, шедшая от неё вдалеке. Проводя такую параллель, Мартин Гилман, не так давно известный международный финансовый чиновник, касается ныне только первых двух моментов, тоже оставляя соответствующим экспертам вопрос о военной угрозе.
Системный характер культурного кризиса выдвигает на первое место его ценностное измерение. Здесь наблюдается тревожный вакуум, поскольку лидирующие до сих пор нации не готовы обсуждать фундаментальные ценности, привыкнув оперировать исключительно их инструментальными производными. Данное положение придаёт новое измерение дилемме «Восток-Запад», поскольку Восток лучше сохранил представление о главной роли в человеческой жизни именно базовых, неизменяемых ценностей.
Ещё недавно казалось, что прямолинейные механистичные социальные инженерии будут эффективны всегда. Со времён первых социалистов считалось, что общественным организмом можно манипулировать так же, как техническим средством. Уже до кризиса стало ясно, что в таком случае человеческое сообщество и начинает вести себя, как бездушный агрегат. Например, перестаёт себя само воспроизводить. Но именно кризис сделал демографическую проблему одной из ключевых и заставил внимательнее относиться к моральным аспектам стимулирования рождаемости и заботы о детях.
Глобализация превратила мир в сложную систему, где одновременно действует слишком много игроков с чересчур разными интересами. Управлять им по-старому стало невозможно. Человечество стоит перед дилеммой: либо выработать приёмы (саморегулирования этой новой сложности, либо заново её упростить. До сих пор оно всегда шло по второму пути. И здесь Россия может внести свою лепту, приняв активное участие в формировании трёх-четырёх суперакторов, опирающихся на нетривиальную конфигурацию взаимных союзов. Если же будет избран первый вариант, то и для его реализации потребуются наши фундаментальные знания.
Я назвал важнейшие качества глобального кризиса, которые сразу прояснили структуру книги и её наполнение. Стало очевидно, что её крупные разделы должны быть посвящены современным вызовам, историческим факторам, социальным и экономическим аспектам и целям, стоящим сегодня перед Россией, а внутри них акцент надо сделать на явлениях, лежащих в основе ведущих мировых процессов, на преодолении фантомов исторического сознания, на социокультурных характеристиках и на требованиях, которое обществу следует предъявлять к себе, к русской власти и к поведению и положению страны на мировой арене.
Москва, март 2011 года
Раздел I
Глобальное и национальное
Глава 1
Магистрали мирового развития
Глобализация наложила свою печать на всё происходящее на планете. В ближайшие десятилетия её влияние будет постоянно нарастать.
Это естественно. Сама по себе универсализация, понимаемая как распространение на земле навыков, знаний и обмена между различными группами людей, устанавливающее между ними тесную взаимосвязь, далеко не новое явление со времён неолитической революции. Римские дороги, караванные тропы и морские маршруты всех эпох – вот некоторые её пути в прошлом.
Нынешний её этап отличается «всего лишь» качественным скачком интер- и транснационализации большинства сторон жизни доминирующего числа людей, где бы они ни находились. Информационная революция, интеграция народов и социальных групп через информационные технологии, принципиальное ускорение протекания процессов, определяющих мировое развитие, и их интеллектуализация породили эффект «сжатия» на земле реального пространства и времени. Тем более фундаментальный в силу того, что он имеет не физическое, а сугубо психологическое измерение, и действует независимо от того, осознаёт та или иная личность его существование и понимает ли истинное значение состоявшегося перехода либо нет. Безумства рядовых альтерглобалистов – тому доказательство.
Как следствие – невиданная доселе взаимозависимость субъектов международных отношений. Здесь кроются положительные моменты не только для лидеров, но и отстающих, которые в результате получают оперативный доступ к достижениям мирового прогресса. И уж от них зависит, чем из них они воспользуются, в какой степени, и как применят к собственному продвижению в более благоприятное положение. Примеры – прорыв Индии в электронные технологии в последние годы и подтягивание ряда стран Латинской Америки к своим северным соседям. Но тут же содержатся и серьёзные вызовы, в равной мере адресованные всем участникам происходящего. Ведущие валюты несут на себе основной груз ответственности за стабильность мировой финансовой системы. Открытые же экономики, включая Россию, должны быть кровно заинтересованы в позитивной динамике развитых (и не только финансовых!) рынков. Ибо от самочувствия последних в немалой степени зависит и их здоровье. 1998 и 2008 годы, при всём своеобразии ситуации в нашей стране, показали это со всей очевидностью. Наконец, слабые и рушащиеся государства, а также разнообразные экстремисты и преступные сообщества оказываются в силах всё изощрённее и успешнее негативно воздействовать на общемировой климат и состояние форвардов.
Одним из лейтмотивов глобализации стала, и будет далее наращивать темпы, открытая регионализация. То есть «слипание» открытых экономик в субрегиональные, региональные и суперрегиональные рынки. За ними выстраиваются и политические институты.
США вовремя приняли и правильно оценили два главных сигнала, полученных вскоре после победы в «холодной» войне. Выросшие экономики Европы и Азии требуют кардинального увеличения своей роли в решении важнейших вопросов. А положение единоличного флагмана свободы и демократии становится всё более обременительным, прежде всего, в материальном аспекте. Поэтому Америка первая заговорила о продуктивности распределения ответственности между собой и союзниками по всему свету.
Философская установка быстро переходит в практическую плоскость. В разных стадиях формирования находятся три плотно связанных новых центра силы: США – НАФТА – Американская зона свободной торговли; ЕС – Средиземноморский союз – Восточное партнерство; Япония+АТР – АТЭС – АСЕАН. На очереди проект НТР, Нового трансатлантического рынка, на базе НАФТА и ЕС. Пока доморощенные идеологи разглагольствуют, многополярный мир уже почти сыгрался. Но не по их нотам. Он капсулировал (с юга – посредством ЮАР) генерирующую риски часть суши – раздробленные вкраплениями ассоциированных с ведущими экономиками и демократиями режимов – исламский пояс нестабильности и чёрную Африку.
Геополитическое положение и сделанный после 11 сентября выбор дают России уникальный шанс полноценно включиться в ход открытой регионализации в Европе и Азии, от принципиального углубления отношений с ЕС, НАТО и США (как обоюдной стратегии перевода урона от террористов в позитив объединения вместо раскола, к чему толкают и сотни миллиардов долларов наших граждан, так или иначе, там работающие) до резкой активизации участия в группе АСЕАН+3 (кроме нас, ещё Индия и Китай) и т. п., заодно втягивая сюда в качестве транзитного звена между ними структуры СНГ, что, наконец, вдохнёт в них настоящую, то есть интересную всем, жизнь.
Неотрывная от универсализации нивелировка многих форм бытия закономерно интенсифицирует обратный сдвиг в сторону возрождения поиска личностной и групповой самоидентификации.
Отсюда всплеск национализмов, в том числе в паранойяльных вариантах, в качестве ответа на превращение (как то давно происходит в Европе) национальных культур в элементы фольклора для туристического потребления. Непаханое поле всеобщего сотрудничества во имя элиминации возникшего напряжения в конструктивном русле терпимости и защиты дарованного нам Богом многообразия!
Параллельно возникают, наряду с привычными этнорелигиозными, новые идентичности – на профессиональной или другой основе. Образцом, несколько лет назад, стала единодушная реакция интернационала не только программистов и хакеров, а и пользователей Internet, на арест доселе никому не известного, кроме узких кругов специалистов, Дмитрия Склярова в Лос-Анджелесе.
Последнее важнейшее свойство глобализации из тех, кои надо непременно назвать, поскольку оно будет оказывать мощное воздействие на практику межгосударственных контактов, – персонификация внешней политики. Её заметными фигурами всё чаще становятся не национальные официальные институты, а международные и внутренние организации, не только финансовые и экономические, но гуманитарные, неправительственные и общественные, корпорации, в частности, транснациональные, профессиональные ассоциации, партии, индивидуальные лидеры бизнеса и общественного мнения. Фактически, теперь каждый житель земли с той или иной степенью осознанности и вовлечённости участвует в эволюции всемирных тенденций. И любой, так или иначе, отвечает за направление их векторов.
Россия, мало сказать, что почти не использует настоящий золотой резерв. А давно пора. Ведь даже глобалисты и антиглобализаторы ищут, пусть и разными путями и не всегда отличными методами, решение одних и тех же проблем.
Обратная сторона дела – разная легитимация игроков на мировой арене. Притом, что авторитет постепенно, но неуклонно перетекает к тем, кто не получил к тому ни от кого никакого мандата. Вот ещё один стимул для всестороннего объединения усилий!
Одно из самых ярких последствий глобализации, заслуживающее самого пристального внимания русского истэблишмента, – переформулирование на обозримую перспективу привычных ориентиров. Оно выражается, прежде всего, в следующем.
Национальный интерес перестал быть синонимом приоритетов правящей бюрократии. Ныне он – результирующая разнообразных предпочтений членов того или иного общества.
Очевиден кризис традиционных концепций границ, национального государства и федерации. Недаром Европа ищет выход в создании новых надэтатистских конструкций с параллельным развитием трансграничного сотрудничества институций гражданского общества. И России следует искать снятия территориальных споров за пределами трафаретных решений из прошлого, на путях превращения пограничья в сектор обоюдовыгодной кооперации и добрососедства.
Обычно прагматику в осуществлении внешнеполитической линии было принято считать уделом слабых. Однако, после того, как США добились лидерства, без лишнего шума решив сугубо практические задачи, например, – оседлав ключевые узлы сначала транспортных, а затем финансовых и информационных потоков, – воззрения на прагматизм были радикально пересмотрены.
Безопасность не столько отражает возможность задавить военной мощью всех либо наиболее вероятных противников. Главное, – она сама продукт устойчивости рынка, социальной стабильности, передовых технологий, уровня образованности, политического баланса, прав и свобод… Последние в борьбе с террором были повсеместно урезаны, и это надо исправить. Нужно всячески укреплять ту иерархию ценностей, где первую скрипку играют качество и цена жизни и труда, пропорция творческого и механистического в экономике, суверенитет ответственной за судьбу свою, своих близких и общества личности, а не государственной машины.
Изменилось само содержание иностранной активности всякой здоровой страны. Она и прежде никогда не была свободна от экономической составляющей. Сейчас же и вовсе почти исключительно поставлена на службу обеспечения максимально комфортных условий эволюции национального хозяйства и экспансии его продукции за рубеж. Тем самым грань между внутренней и внешней политикой превратилась почти в фикцию. Они более не две стороны одной медали, а ровный сплав одного и того же качества.
Ресурс простого решения противоречий – сила и деньги, – если не исчерпан, то всерьёз подорван. Обратно пропорционально возрастает значение соблюдения норм международного права и обеспечивающих их неукоснительное исполнение институтов. На повестке дня новое мировое регулирование и его механизмы.
Их востребованность многократно усиливается совпадением глубокого кризиса устоявшихся структур безопасности с вызовом, брошенным расширению области свободы и демократии в мире, полностью ещё не пришедшем в себя после столетий войн и десятилетий глобального разлома и противостояния систем. Отчего обретение народами цивилизованных атрибутов нередко сопровождается политическими, военными и социальными взрывами. А резкое снижение дееспособности, из которого никак не может выпутаться ООН и завязанные на неё регуляторы – не пустая риторика и не тщательно спланированное прикрытие чьих-то коварных замыслов, но объективный результат разрушения вслед за Берлинской стеной Ялтинско-Потсдамского каркаса, который лежал в основе Организации. Более двадцати лет она висит в воздухе. Удивляться стоит не тому, что она работает плохо, а тому, что вообще в таком состоянии хоть как-то функционирует.
Чётче и чётче проступают неустранимые пороки доктрины откупа постиндустриальных стран от аутсайдеров и явственнее – нарастание угроз первым от вторых. В среднесрочной перспективе будет идти интенсивный поиск эффективного инструментария компенсации этого отставания, а также прекращения региональных конфликтов, устранения социального напряжения в ассоциированных с клубом развитых государств обществах, вытеснения агрессивных национализмов и религиозного экстремизма, примирения втянутых в противостояние сторон, беспощадной борьбы с проявлениями терроризма на любом уровне и криминальным оборотом оружия, наркотиков, расщепляющихся и прочих материалов, представляющих опасность для жизни и благополучия человечества.
Современный комплекс безопасности будет базироваться на расширении ответственности ЕС и НАТО, их взаимовыручке, в том числе при помощи укрепления евросоюзной оборонной компоненты, сотрудничества с ними и трансформации ОБСЕ. России надлежит найти в этой тенденции своё место, вплоть до полного присоединения к обеим организациям ради образования единого заслона северной четверти земного шара от угроз, исходящих для него с юга.
Модификация затронет деятельность и устройство не только ООН и её подразделений и инструментов, но и ВТО, МВФ, МБРР, ОЭСР и проч. Миссия умиротворения продолжит отходить к более динамичным и эффективным в политическом, административном и военном плане региональным объединениям и новым коалициям, при большем, как позволяют надеяться разворачивающиеся процессы, внимании к позиции ООН и участников распри. Общий баланс – постепенно сдвигаться в сторону «большой двадцатки» и аналогичных им конфигураций, с периодическим привлечением к консультациям части бедных наций.
Грядущая архитектура безопасности неясна во многих деталях. Но размышления о ней мировых лидеров не стоит недооценивать. Равно как пренебрегать присутствием России во всех названных выше процессах. Хороший задел налицо. Важно не отступаться от начатого. А подобная опасность далеко не минула: в нынешней нашей элите достаточно персонажей, жаждущих отката назад и легковесно относящихся к его катастрофическим последствиям.