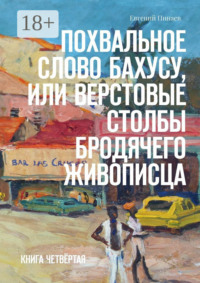Read the book: «Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца. Книга четвёртая»
Редактор Борис Евгеньевич Пинаев
Корректор Борис Евгеньевич Пинаев
© Евгений Иванович Пинаев, 2025
ISBN 978-5-0060-8494-0 (т. 4)
ISBN 978-5-0051-8175-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Если вам нужны искусство и литература, читайте греков. Для того, чтобы родилось истинное искусство, совершенно необходим рабовладельческий строй. У древних греков рабы возделывали поля, готовили пищу и гребли на галерах, а горожане в это время предавались стихосложению и упражнениям в математике под средиземноморским солнцем. И это было искусство.
А какой текст может написать человек, посреди ночи роющийся в холодильнике на пустой кухне? Только вот такой и может.
Это я о себе.
Харуки Мураками
Часть первая.
«Кузьма»
Здесь хорошо помечтать о минувших днях и канувших в прошлое лицах и о том, что могло бы случиться, но не случилось, чёрт подери!
Джером Клапка Джером
Как быстро пролетело короткое уральское лето! Впрочем, я его, в сущности, не видел, так как превращал хлев в «башню из слоновой кости», где мог бы, отгородившись от внешнего мира, предаваться пачканью холстов, умственности за книжками и письменным столом, а иной раз и общаться с Бахусом, буде старый хрыч заглянет ненароком.
Подруга задумывалась о последствиях, однако даже помогала в строительстве по мере возможности и наличия сил. Были и другие помощники, но главный вклад в завершении великой стройки индивидуализма внёс мой друг Умелец. Без него не загорелась бы «лампочка Ильича», не появилось бы множество полезностей, без которых немыслимо существование хомо сапиенса даже в эпоху перемен, когда приходится отказываться от этого и того, а то и от того и этого, а порой даже наступать на горло собственной песне, похожей на стон по определению поэта—демократа, изображённого Крамским «в период „Последних песен“».
Конечно, строение имело все признаки так называемой «малухи», но когда к большому окну добавились иллюминаторы, много лет ждавшие своего звёздного часа, когда у камелька повис судовой колокол, а прочие морские инструменты разместились на отведённых им местах, когда акула—молот, которую я некогда выпотрошил и набил опилками на поисковике «Прогноз», повисла под потолочной балкой, бывший хлев завершил метаморфозу и обрёл имя собственное – Каюта.
Первым делом я начал перетаскивать библиотеку. Между делом заглянул в книжку Вэ Вэ Конецкого «История с моим бюстом» и наткнулся на фразу: «Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земледелием и промышленностью. Благодаря рабству произошёл расцвет древнегреческого мира, без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы. В этом смысле мы имеем права сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма». За эту фразу, выписанную на листочке и попавшую на глаза бдительным органам, лейтенант Конецкий получил вздрючку, хотя и пытался объяснить, что слова принадлежат не ему, а сподвижнику Маркса Фридриху Энгельсу.
Прочитав сие, я подумал, что японец Мураками вряд ли читал нашего замечательного писателя—мариниста. Он всё-таки больше интересовался русской классикой и довольно часто ссылался на её корифеев. Но Фридрих Энгельс тоже классик в своём роде, так может Харуки заглядывал в его труды, после чего и написал то, что я вынес в эпиграф? Эта цепочка растрогала и позабавила меня, и я, воспользовавшись временным отсутствием подруги, немедленно поднял тост за связь времён и мыслей, запечатлённых в печатном слове, за почивших Вэ Вэ и Фридриха и за здравствующего Мураками: он, хотя и японец, но тоже человек, вдобавок пишущий так, что это позволяет мне время от времени цитировать его. Во всяком случае, чаще, чем Вэ Вэ.
Тост меня размягчил и даже погрузил в сентиментальную истому, из которой вернуло к реалиям жизни настойчивое бряканье в ворота.
Прохор Прохорыч Дрискин, заглянувший ко мне на новоселье, опустил губы ниже подбородка: «Зачем ЭТО тебе?» «Затем, что ЭТО – мне, а не тебе!» – ответил ему с восторгом, и он, заткнувшись, подтянул губы к носу. Обиделся его сиятельство! Неужели за то, что не продал ему свою избёнку и не позарился на предложенные в обмен хоромы, которые он собирался купить мне где-то у леса, в комарином краю на окраине посёлка?! Всё-таки не исчезло в людях стремление к стяжательству, стремление собрать свои владения в единый кулак и образовать эдакое удельное княжество.
Убыл господин Дрискин восвояси, а я начал обживать новодел.
Недавно попалось мне на глаза греческое слово «агорафобия», которое переводится как «страх перед рыночной площадью». И это якобы болезнь. Автор, в романе которого я наткнулся на словечко, называл заболевание «тоской по дому» и считал, что оно не приличествует взрослому человеку. Это почему же, позвольте спросить? Не спид же заклятый, не сифилис и не заурядный трепак. Приличная, я бы даже сказал благородная, интеллигентная болезнь. Даже полезная для некоторых особей с шилом в заднице. Что может быть приличнее желания уединиться, исчезнуть из поля зрения «общества потребления»? Тем более, что моя «агорафобия» – плод не страха, а равнодушия к «площади» с её нынешними ценностями. Христос изгнал менял из храма, но где он, нынешний, который мог бы турнуть эту братию из храма жизни?! Нет его. Это они заняли его место, хотя и прикрываются именем Христа. Поэтому Каюта, ставшая оборонительной башней против засилья пошлости, хлынувшей из «ящика» и с газетных листов, действительно стала, в некотором роде, твердыней, у подножия которой плескались мутные волны житейского моря.
«Как ни крути, у каждого человека есть в жизни своя вершина, – заметил Мураками, любящий порассуждать о подобных коллизиях. – И после того, как он на неё взобрался, остаётся только спускаться вниз. Ужасно, но с этим ничего не поделаешь. Никто ведь не знает, где будет его вершина». И если японец имел в виду что-то другое, то я – именно это: сынов произвёл, деревья посадил, а построив при доме Каюту, могу сползать к подножию и доживать, сколько осталось из отпущенного мне судьбой—индейкой, цена которой – копейка в нынешний базарный день. Так что агорафобия – тоже фобия. Защита от базара.
Карабкаясь на вершину, я время от времени получал известия, что кто-то из друзей уже взобрался на свою, успел спуститься, а то и сорваться вниз на середине спуска. Я прощался с ними и продолжал лезть. Назад дороги всё равно не было. Можно было только оглянуться и вспомнить тех, кого успел обогнать. Однако смерть Стаса Варнело меня потрясла. Почему? Мы не были друзьями, что называется, неразлей вода. Добрыми товарищами и хорошими приятелями – да. Но Стас как бы олицетворял собой лучшие годы моей жизни, пришедшиеся на баркентины. Для меня он был бессмертен. Годы и расстояния делали его таким. Я старел и усыхал, покрывался мхом, а из далёкого Кёнига неизменно слышалось: Стас ходит под польским флагом, Стас боцманит на греческом сухогрузе, Стас там-то и там-то.
Наша переписка, и без того не слишком оживлённая, оборвалась давно и сама собой. Последнее письмо я получил от него после возвращения Стаса из Нигерии на рефрижераторе «Туркменистан». Была в конверте и фотография с надписью: «В устье реки Бенин». Все такой же могучий Стас, голый по пояс, босой, с подвёрнутыми штанинами, стоял у релингов на фоне кудрявых береговых зарослей. О себе – два слова, и ещё два слова о том, что повстречался ему на подходе к Лагосу английский банановоз «Ибадан Палм». Дескать, может это будет интересно для меня. Ещё бы – далёкое эхо, родное и приятное!
На фотографию я наткнулся, когда ворошил, перебравшись в Каюту, свой архив. Что-то сортировал и рассовывал в папки. «А почему бы не написать Стасу?» – подумалось мне. Написал и получил ответ от Бэлы, его… вдовы:
«Здравствуйте! – писала она. – Пишет вам жена Стаса Бэла. Очень грустно об этом писать. Стасика уже нет с 2001 года 17 октября. Он утонул у китайских берегов, под флагом Либерии. Он решил сделать ещё рейс, последний, чтобы достроить дом. Была ночь, сильное течение – и его не смогли спасти. Сын Вадим говорит, что во всём виноват капитан. Мне очень плохо без Стасика. После случившегося у меня был инфаркт, а потом инсульт. Похоронила пустой гроб, поставила памятник и себе выкупила место рядом с ним. Просто не хочется жить, но стараюсь ради детей. Сын Вадим ходит капитаном от американской фирмы. На днях улетел в Японию. Дочь Регина работает в Польше, так что я доживаю одна.
На днях перебирала бумаги Стаса и вспомнила о вас. И тут получила письмо. Спасибо, что не забываете старых друзей. Почти никого не осталось. Все ушли [в] тот мир. Высылаю последние снимки. Это мы со Стасом сфотографированы перед отходом. Ему тут 66 лет. До свиданья. Варнело Хелга. По паспорту я – Хелга».
Вот такое письмо…
Я вспомнил о Стасе – написал письмо, Бэла… нет, Хелга вспомнила обо мне – получила его и прислала весточку. Вот что значит перебирать старые фотографии и бумажки!
Пятьдесят лет в морях! Не всякому мариману удаётся такое. Редкому. Стасу выпала эта карта. Жаль, без козырного туза. Океан его не отпустил. Забрал целиком. Это я вздыхаю и распускаю сопли, толкую о романтике, сидя за тысячу миль от Нептуньих владений. Стас просто трудился. Работяга и вечный пахарь. Ему было не до красивостей: изо дня в день, из года в год – волны, шторма и ветер… Океан ежедневно забирает сотни жизней, так почему бы ему не прибрать к рукам самого достойного, который с шестнадцати лет вверял себя только ему? Полвека в море – с ума сойти! В голове не укладывается это количество лет. А каково Бэлке (для меня она, как ни крути, так и останется Бэлой)? Встречать и провожать, провожать и встречать, снова провожать и ждать, ждать, ждать… Подруга говорила, как было ей тяжко оставаться одной, ждать и однажды не дождаться. Она дождалась, а на долю Бэлки выпало иное. Море, увы, вносит свои коррективы, потому как оно – стихия. А ей всё равно, ждут ли тебя или не ждут, плачут ли по тебе на берегу, опуская пустой гроб в могилу.
Я сидел над письмом и ломал голову в поисках самых нужных слов утешения – и не находил их. Да и что – слова? Всё пустое. И тут появился Бахус. Он меня и утешил. Мы справили горькую тризну. Бахус утирал свою стариковскую слезу, я плакал о прошлом, с которым, наверное, простился только сейчас.
А потом из города нагрянула команда «МЧС» – Командор и три бравых экс—полковника: Поэт, Афганец и Телохранитель. Вспомнили о существовании анахорета и прикатили на здешние берега в помятой «копейке». Друзья разгружали багажник, я кудахтал рядом, а ландскнехт Сёма, решивший засвидетельствовать почтение своему соседу, разглядывал автомобиль пилигримов с пренебрежением, достойным слуги олигарха, который катается на крутых авто. Для Сёмы средством передвижения, стоящим внимания, был только джип. На худой конец «шестисотый». Именно на худой конец, потому что джип у Прошки угнали лихие люди, когда он ревизовал самый шикарный сортир в центре города, вот и пришлось снова пересесть в «мерс». Сёма даже качнул «копейку», поставив копыто на бампер.
– Нравится лошадка? – спросил Афганец.
– Кляча! – дал оценку ландскнехт.
– Да, не Рио—де—Жанейро, – согласился владелец «клячи». – Скорее Росинант, зато служит хозяину верой и правдой.
– А вида никакого! Настоящее авто – это шик и блеск! – Глаза у Семы блеснули хищной кошачьей желтизной и сразу покрылись мечтательной плёнкой, мутной, как у курицы. – Главное – пустить пыль в глаза. По машине судят о владельце. Увидит конкурент крутую иномарку и почувствует в кармане кусок жидкого дерьма.
– В конкурентной борьбе главное быть незаметным, – пустился Афганец, ставший недавно директором винокуренного завода, в профессиональную дискуссию.
Мне всё это надоело.
– Сёма – наёмник сортирного олигарха Дрискина и владельца вон той Бастилии, – пояснил я. – А к кому наймёшься, от того и наберёшься. Один дерёт деньгу с обкакавшихся соотечественников и кормит этого борова, а боров поставляет хозяину субпродукт для биотуалетов, которые тоже дают доход. Оранжерея у них! А деньги, в отличие от роз, не пахнут.
– Придёшь за опохмелкой, не дам самогонки, – пообещал обидевшийся ландскнехт. – «Субпродукта» отвалю! – и отвалил к себе.
– А ты, Миша, никак загудел? – спросил Командор.
– Есть маненько. Потом объясню, в Каюте.
– Мы и приехали, чтобы взглянуть на неё и отметить завершение стройки века, – пояснил Телохранитель причину их появления, а Поэт тут же разродился экспромтом:
Творец без водки, как без ветра парус.
Известно это испокон времён:
Сосуд, который не наполнит Бахус,
Употребит, чтоб вымыть кисти, Аполлон.
– Спиши слова, – улыбнулся я.
– В Каюте, – пообещал он.
От Каюты гости были в восторге. Оглядели все углы, всё ощупали и обнюхали. Я же, увидев, что Телохранитель принялся откупоривать бутылки, вскрывать консервы и шарить глазами по полкам в поисках стаканов, подал ему стопки и вручил Командору письмо Бэлы—Хелги. Афганец, самый немногословный и неторопливый, как и положено деловому человеку, даже слегка застенчивый и скромный, как и положено сугубо положительному человеку, к тому же не пьющему, потому как за рулём, с улыбкой следил за неугомонным Поэтом, который разразился новым экспромтом:
Служил ты Бахусу исправно,
А нынче пишешь почём зря
Машинописные творенья —
В них все смешалось в долях равных:
Земля и небо, и моря.
Вдохновение неудержимо тащило его по поэтическим кочкам, и он, заряженный им, вещал, уставив в моё лицо возбуждённый взгляд:
И приключенья, и лишенья,
И негры, и российский люд,
И деревенское именье,
Где ценят Боцмана творенья
И где ему всегда нальют.
– Шиш! Не всегда, – заикнулся я. – Иногда и по шее дадут.
Он отмахнулся: не мешай! И продолжал, ухватив меня за рукав:
Где – лучше всех – людей собаки
В унылый час поймут,
Где даже раки в буераке
Краснеют на пиру, как маки
И с пивом – сраму не имут.
А нам, друзьям, одно осталось:
Рюкзак с бутылками собрать,
И, как уже давно мечталось,
От города отъехав малость,
В Каюте с Боцманом поддать!
– Эк тебя прорвало… – проворчал Телохранитель. – Фонтан!
За вольный труд, за виноделье,
Что распахнуло горизонт,
За дружбу нашу, за веселье,
За… – он запнулся. – За предстоящее похмелье,
И, значит, за стакашек звон.
– Ур—ррр—ра! – поддержал его дружный хор, а Командор, вернув мне письмо, принял стопарь из рук Телохранителя и сказал:
– Сначала давайте помянем боцмана Стаса Варнело, а уж потом поднимем во здравие Боцмана здешнего, за его Каюту, даже за похмелье в конце концов. – И вот что он сказал ещё, обращаясь ко мне: – Миша, я понимаю тебя… Слезами горю не поможешь. Но иногда они в самый раз – помогают. Горе его жены тем более естественно, но что делать-то!? Всю жизнь свою Стас отдал морю. Полвека, говоришь?
– С шестнадцати лет…
– Полвека! Служил ему верой и правдой, и море не отпустило его, не захотело расстаться, когда он захотел это сделать. Форсмажорные обстоятельства, что тут скажешь? Не сочти мои слова за кощунство, но такая смерть для моряка, быть может, если не закономерный, то достойный финиш. Из моря вышел и в море вернулся. Навсегда.
Такие вот слова были сказаны…
– Я тебя понимаю… Может, ты и прав. Наверное, прав. Если бы ещё существовала Дорога, о которой ты писал в своих книжках: «Там встречаются все, кто потерял друг друга в этой жизни»…
Он хмыкнул, признав СВОЁ. А дальше мы повторили диалог из его повести.
– «Ладно… А ты, значит, думаешь, что Дорога есть?» – спросил я, Гараев.
– «Да, я правда так думаю» – ответил Командор.
– «И мы ведь пойдём вместе?»
– «Конечно».
– Боцман Майкл, – вмешался Телохранитель. – Дорогу осилит идущий, а стопку – пьющий. Мы скорбим вместе с тобой, но, увы, нам ещё предстоит обратная дорога длиной в сто вёрст.
– Ладно, ребята…
Станет ветер мне петь свои гаммы,
Будет вечность звучать на слуху…
Лишь не топайте сильно ногами,
Те, которые там, наверху.
– Неужели сам? – вытаращился Поэт. – Спиши слова.
– Это – Давид Лившиц, – ответил я. – А свои, если не забыл, «спиши» ты для меня. Машинка к твоим услугам.
– Охотно! – ответил Поэт.
Я показал гостям снимки, присланные Бэлой. Начался разговор о море, о Стасе, о смысле жизни, глубокомысленный спор, свойственный подвыпившим людям. Потом подруга пригласила нас в избу, к обеденному столу. Откушав, отправились на берег, где допили остатки горячительного. Гости засобирались в обратный путь – и вот уже «копейка» вскарабкалась на взгорбок и скрылась из глаз.
Я вернулся в Каюту и присел к столу. Из-за букета лесных коряжек, [воткнутого] в ведёрко для шампанского, выглядывала ополовиненная бутылка «Балтийской». Предусмотрительный Телохранитель, помня о «завтряшнем похмелье», сунул туда заначку и шепнул, ещё до прогулки на берег, что завтра мне не нужно идти на поклон к обидчивому соседу.
Всё, сказал я Бахусу, принявшему вид бутылки, жажду завтра буду заливать квасом. Хватит! Даже кукиш показал, подкрепив твёрдость намерений сей незамысловатой фигурой. Тут окна вдруг заслезились дождиком, мягко качнулись лапы пихты и ёлки над могилой Карламарксы, и что-то прошептали вершины листвянок. [Как видно], посоветовали мне прилечь: «Морская пучина тебе не грозит вечным покоем. Твоя Дорога начнётся на этой лежанке, но если не пришёл срок, проспись до ночи, очисти башку от хмельной дури».
Я последовал их совету.
Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья,
Чтоб вечно жили дивные печали.
Ты превращён в моё воспоминанье.
А «воспоминаний», увы, накопилось уже слишком много. Вот и Стас превратился в одно из них, «чтоб вечно жили дивные печали». Но дивные ли они? Во всяком случае, Стас, я простился с тобой, бессмертным, как думал. Однако мы не макреоны, как называли долговечных древние греки. Живём, сколь отпустит судьба, а она, подлая, любит играть в орлянку, поэтому Стас – на дне, в синей холодной мгле, а я не могу уснуть. Чёрт, даже надраться не смог как следует!
У озера Командор спросил, каким образом Бэла превратилась в Хелгу, а я не смог ответить. Она для меня всегда была Бэлой, но, впрочем, имя Хелга, как и её красота, соответствовали друг другу, так как имели прибалтийские корни. Да, жизнь – не море, а море жизни. Кому выпадет Балтика или Северное, кому – Арал. А вообще, скучное это занятие – быть долгожителем, хотя кое—кто мечтает о вечной молодости. А она, к счастью, недоступна и не нужна. «Не будь даже другого препятствия, самонаблюдение сделало бы её невозможной», заметил Кафка, а самонаблюдение – вещь упрямая и неотразимая. Завтра утром «посамонаблюдаю» себя в зеркале и плюну в стеклянную рожу. Вот если взглянуть на себя и других с расстояния, из нынешних дней, то молодость можно, наверное, продлить.
Завтра, вместо опохмеловки, попробую вернуться в неё.
Вы совершаете ошибку, говоря, что нельзя двигаться во Времени. Если я, например, очень ярко вспомню какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его совершения и как бы мысленно отсутствую. Я на миг делаю прыжок в прошлое.
Герберт Уэллс
– Попутного ветра, Гараев! – напутствовал кадровик, вручая направление на рефрижераторный пароход «Калининград».
Из кадров – всегда попутный, хоть мусор собирать в подменной команде, хоть отправляться в рейс. Удручало отсутствие ясности. Бичи, толпившиеся в предбаннике (а истинный бич – это оракул), предрекали «Кузьме» двоякое будущее. Одни говорили, что он уже «спёкся» и в ближайшее время его пихнут на долгий ремонт, другие считали, что «это херня», и пароход обязательно вытолкнут в Северную Атлантику. Я склонялся ко второму варианту. Конец года принято отмечать звоном литавр и грохотом барабанов, конец года – это рапорт партии и правительству о выполнении и перевыполнении плана. Конец года, наконец, это либо розги, либо лавры и ордена. В порту нет судов, а план трещит по швам. Значит, управление отправит в море любую дырявую лайбу, дабы залатать прорехи на знамени соцсоревнования вкладом «Кузьмы» в общую копилку «холодильника».
С направлением сразу отправился в порт.
Пароход стоял на якоре в дальнем ковше. Берег – чёрт ногу сломит. Ржавые троса и бочки, поломанные ящики, железный хлам и какие-то покорёженные механизмы, присыпанные мусором и грязноватым снегом, сопровождали меня до места, где на чёрной воде, покрытой радужным румянцем солярки, среди брёвен, сбежавших с целлюлозно-бумажного комбината, меня поджидал «паром» – шлюпка без вёсел, прихваченная «серьгой» к тросу, протянутому от ржавой трубы к трапу «Кузьмы».
Дохлый пароход с чахоточной струйкой дыма над замшелой трубой органично вписывался в унылый пейзаж. Глядя на него, я вдруг понял, что «Кузьма» – производное от длинного и неудобопроизносимого «Калининграда». От «Кузьмы» веяло чем-то домашним и свойским. Я забрался в шлюпку, натянул грязные кожаные рукавицы и, перебирая трос, подумал: «Э, где наша не пропадала! Рыба ищет, где глубже, а рыбак – где рыба. Может, всё получится, как в сказке о золотой рыбке: или окажусь у разбитого корыта, или – в „тереме“, на „белом пароходе“, и отогреюсь в тропиках».
Шлюпка ткнулась в обледенелый трап. Я швырнул рукавицы на банку и поднялся наверх, где под свесом надстройки, торчал «труп, завёрнутый в тулуп и выброшенный на мороз в ожидании смены». Драная шубейка с повязкой на рукаве, сизый нос и огромная крыса на проволочном поводке как бы олицетворяли мой образ жизни в ближайшие месяцы.
Вахтенный потёр красную бульбу рукавицей и уставился на меня, а крыса с ходу атаковала ногу. Я пнул серую зверюгу и посоветовал служивому:
– Да не три ты свою бульбу, не три! Уже мозоль на ней. Лучше отломи сосульку и пообщайся с лопатой: снега вокруг – выше задницы.
– А ты кто таков? – Вахтенный подтянул к своему сапогу присмиревшего пасюка, буркнув: «К ноге, подлюка!», и высказал догадку: – Плотником, что ли, к нам такой шустрый явился?
– А что, плотника эти звери уже обглодали? Потому я и шустрый, что намерен уцелеть, хотя направлен матросом, – парировал я догадку оборванца. – Скажи, друг, а второй штурман Лекинцев цел, или от него тоже остались рожки да ножки?
– О, знаком с Рэмом? Он в аккурат на вахте сейчас, – повеселел матрос, которому, видно, осточертела молчанка – с крысой не поговоришь. – Он тут сиднем сидит. То за старпома, то за кепа, то за обоих сразу. Те из конторы не вылазят – тельняшки рвут на грудях, на ремонт просятся.
– Ну и как? – оживился я.
– Пока никак, – тряхнул он кудлатой башкой, прикрытой замызганной ушанкой. – Они требуют, а им отлуп по соплям. Начальство само не знает, на что решиться. И хочется ему, и колется, и Москва с их требует воз селёдки да махоньку тележку поверх плана. Словом, вынь да положь! А пароходов в порту нетути. Одни мы, как залупа сраная, торчим в этом болоте. Я вот тоже ещё подожду недельку, а не будет ясности – задам деру. Ладно, кореш, топай в энту дверь и – прямо по колидору. У Рэма крайняя каюта по левому борту, – пояснил он.
Лекинцев, увидев меня, наверное, впервые стряхнул с лица аглицкую чопорность. Обычно невозмутимый, что бы ни случилось, он вскочил мне навстречу и улыбнулся, и та улыбка была «с человеческим лицом».
Мигом оприходовав направление, штурман достал склянку со спиртом («По махонькой за встречу!»), извлёк из портфеля бутерброды, а потом, выслушав меня и вникнув в мои проблемы, с места в карьер предложил… должность плотника. В общем, тот крысовод у трапа как в воду глядел.
– Завтра же поговорю с чифом, – пообещал Рэм. – Он мне не откажет. Я ему расскажу, как ты «геройствовал» на «Бдительном». Он поймёт, да и считается с моим мнением.
Я поблагодарил, а он сразу же и поселил меня, предложив покамест занять каюту отсутствующего второго радиста.
– Все матросы сейчас сбились в кучу. Объединились для совместной борьбы с крысами и тараканами. Тебе придётся сражаться в одиночку, но плотнику всё равно лучше держаться особняком. Рядом каюта радиоэлектронавигатора Юры Андреева, в ней и гирокомпас стоит, но сейчас он молчит, а зашумит когда, тебя уже переселят в свою каморку. Сейчас она всё равно забита разным барахлом.
Каюту я имел только на «Меридиане». Мне было хорошо одному, поэтому, вселившись в чужое жилище, зазрения совести не испытывал. Метраж не поражал воображения, но кроме нормальной койки с занавесью имелся и письменный стол, узкий шкафчик для чистой одежды, а рядом, в зашторенном углу, вешалка для робы. На переборке – полка для книг, рядом динамик судовой трансляции. Иллюминатор тоже задёрнут плотной тряпкой. Я отодвинул её и посмотрел на заснеженный бак – сплошные сумёты!
Чуть-чуть пообвыкнув и всласть покрутив головой, отправился на поиски кастелянши, дабы получить постельное белье. «Домус проприа – домус оптима», – как сказал бы доктор Маркел Ермолаевич, окажись он на моем месте, – Свой дом – лучший дом». Так-то!
Говорят по известному поводу, что сон, мол, в руку, а тут в руку оказался «домус оптима»! Только вышел в коридор и свернул за угол – нате вам! Эскулап собственной персоной! Глаза наши едва из орбит не выскочили, а брови взлетели на запредельную высоту, где и застряли, пока мы тискали друг друга.
Жареная рыбка,
Маленький карась,
Про твою улыбку
Думал я вчерась, —
с чувством продекламировал дед, когда наши глаза и брови вернулись на штатное место.
– А я – только—что! – возопил я, радуясь неожиданной встрече, которая сразу преобразила «Кузьму», сделав его действительно «домус проприа». – И давно вы здесь?
– Годик уже. А ты, Миша, значит, расстался с парусами?
– Пришлось… Фатум! Вернулся в «холодильник», где меня мытарили, мытарили, а потом воткнули сюда. Знать, «Грибоедов» у них до сих пор сидит в печёнках. И на увольнение, видно, тоже имеют обиду. Сбежал, мол!
– Значит, так, вьюнош, – заторопился доктор. – Я, старая черепаха, спешу по делам службы: у электрика запор – надо ему клизму вставить, а после ужина встретимся. Ты где обосновался?
– В каюте второго радиста.
– Где сбежимся?
– Давайте у меня, чтобы обжить хоромы.
– И обмыть, вьюнош! Как же без стопарика за встречу? Не по-людски это.
И разбежались до вечера.
Если бурные объятия, которые ознаменовали встречу с Эскулапом, объяснялись радостью прежнего и сравнительно недавнего общения, но в самом факте встречи не было ничего особенного (мы, как-никак, работали в одной конторе), то другая [встреча] в том же коридоре и почти на том же месте была по-мужски скупой, хотя и тоже не обошлась без глаз, вытаращенных удивлением до размеров яйца курочки рябы. Кого-кого, а северянина Сашку Гурьева я не ожидал встретить на «Кузьме». Я вообще забыл о его существовании и не вспомнил бы, не будь в моей жизни «Онеги», старого боцмана с его репликой «Ну ты и вертаус!» и, наконец, с его подарком – пистолетом-зажигалкой, которую Сашка долго и безуспешно пытался выклянчить у меня. И всё-таки именно Сашка Гурьев, совершенно тот же, даже, кажется, в том же кителе и в тех же суконных шкарах, хотя, конечно, этого быть не могло несмотря на Сашкину бережливость и аккуратность, остановил меня в коридоре.
– Н-да!.. Гора с горой не сходится… – только и вымолвил я, стряхнув первую оторопь. – Как ты здесь оказался? Ведь клялся в верности северу!
– Мало ли… Женился – увлекла в тёплые края, а в тех краях нашлись мужики краше меня. Ну и мы… жопа об жопу – кто дальше отскочит. Я вот сюда отскочил.
– А на «Кузьме» давно?
– Четвёртый год пошёл.
– И в какой должности?
– Четвёртый помощник, – отчего-то смутился он.
– Очень даже неплохо! – поспешил я его успокоить. – «Кузьма» не «Онега». На три тысячи тонн тянет. Это тебе не каспийские шаланды, с которых ты начинал.
– Мишка, давай усидим бутылку водяры? – оживился он. – Заначка у меня плесневеет, а тут такой повод!
– Усидеть можно, – согласился я, – но прежде скажи, как ты с доктором? Контачишь? Я только-только появился на пароходе, а ты уже третий здесь, с кем довелось раньше плавать. С Лекинцевым – в северном перегоне. Я с ним вахту стоял на «Бдительном». Но с Рэмом я… не очень. Разные мы люди, хотя и пропустили за встречу по граммульке. С доктором – другое дело. Полное взаимопонимание и общий язык. После ужина встречаемся у меня, в каюте второго радиста. Наверняка не без спирта – притаранит. Если с ним не собачишься, приходи с водярой, составим тримурти и воздадим прошлому по заслугам.
– А вдруг буду третьим лишним?
– Сам думай.
– Нет, мы с ним по-доброму. Ладно, приду. Жди.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Анна Ахматова
Я вернулся из столовой и застелил постель, а тут и доктор пожаловал. Сунул в дверь свою плешь и, со смешком, как когда-то: «Нуте—с, кто в этой камере живёт?»
Сашка явился следом. Доктор был мною предупреждён и принял нового собутыльника с благосклонной улыбкой, тем более тот был не с пустыми руками. В то время как доктор предложил к спирту лишь миску солёных огурцов и несколько ломтей хлеба, Сашка – а он всегда был запасливым мужиком – предложил нашему вниманию бутылку «Столичной», батон и балык из морского окуня. Сам готовил, похвастался он, словно это было гарантией качества. Балык – моя слабость, поэтому я, как некогда старпом Минин, «сладострастно» потёр ладони и, сказав «Гутеньки!», принялся чистить рыбу, истекающую жиром.
– Нуте—с, вьюноши, – обратился к нам дед Маркел, открывая мензурку, – приступим к нашим играм и подлечим….
– …сиалоаденит! – закончил я.
– Ещё не забыл? – усмехнулся доктор. – Его—с. Слюна, друзья мои, превращает этот балык в легко проглатываемый и усвояемый продукт, а сама она – продукт, именуемый секретом слюнной железы. Сложный продукт. Это вам не хаханьки-хиханьки! Что мы имеем в слюне, которой, как я вижу, истекает Михаил? А имеем мы много чего. Например, почти сто процентов воды, а это – готовый плевок в рожу судьбе. Засим имеем мы слизь, соли и кучу ферментов, как-то: лизоцим с его бактерицидной составляющей, амилазу, которая расщепляет крахмал, засим…
– Может, хватит? – взмолился я.
– Может, хватит, – согласился Эскулап. – Однако, дорогие мои мальчишки, как сказал Лев Кассиль, учитывая важность слюны в жизни каждого индивида и, значит, опасность сиалоаденита как болезни, разрушающей функцию слюнной железы, предлагаю для начала поднять тост за его повсеместное уничтожение путём вливания ректификата вовнутрь.
Мы начали лечение, а Эскулап, наверняка успевший принять лекарство для профилактики гораздо раньше, вдруг решил преподать нам урок благоразумного употребления снадобья.
– Приступая к лечению, друзья мои, надо соблюдать известную осторожность, ибо абэунт студия ин морэс…