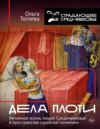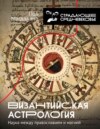Read the book: «Магический мир. Введение в историю магического мышления», page 2
1.4. Сопоставление с Гегелем
Мир магизма завершается размышлениями об одном месте у Гегеля в «Энциклопедии философских наук в сжатом очерке», где философ касается вопроса о паранормальных способностях, анализируя его в контексте связи человека с природой:
У человека такого рода связь тем более теряет свое значение, чем более он образован и чем более все его состояние поставлено на свободную духовную основу (…). В суеверии народов и в заблуждениях слабого рассудка у народов, которые сравнительно мало прогрессировали в направлении к духовной свободе и потому живут еще в единстве с природой, встречается постижение и некоторых действительных связей, и, основывающиеся на них, кажущиеся удивительными предвидения известных состояний и связанных с ними происшествий. Но по мере того как свобода духа более глубоко себя постигает, исчезают также и эти немногие и незначительные предрасположения, основывающиеся на жизненном общении с природой17.
Де Мартино видит новаторство гегелевской мысли в том, что он дистанцируется как от романтической идеализации архаического, так и от догматизма «здравомыслящих» людей, упорствующих в своем нежелании признавать реальность магических способностей. При этом, однако, философ остается прочно укоренен в европоцентристском forma mentis [способе мышления], в той мере, в какой он противопоставляет «свободе духа» неразличенное единство человека с природой и сводит паранормальные способности к рабскому состоянию чистого симпатетизма18. Исходя из этой констатации, Де Мартино формулирует свое суждение в весьма суровом тоне:
Таким образом, магия предстает как негативный момент, как не-культура и как не-человечность. От Гегеля ускользает собственный смысл магического мира – свобода, за которую он борется, культура и человечность, которые в нем укоренены. Он не замечает того, что магические способности вовсе не являются выражением неразличенной общности, их следует, скорее, понимать в свете драмы присутствия, открытого угрозе небытия и живущего борьбой с этой угрозой: исторически определенной экзистенциальной ситуации, из которой произрастают формы реальности, чуждые той исторической ситуации, в которой присутствие гарантировано перед лицом отдалившегося от него и воспринимаемого как данность мира. Для Гегеля магия все еще сводится к «суевериям» и «заблуждениям слабых умов»19.
Перед нами один из значительнейших моментов в книге. Де Мартино, выступая против оценки магизма, сформированной негативными стереотипами, переопределяет и уточняет собственную линию мышления, пересматривает свой метод, опирающийся на оригинальную интерпретацию сравнительных исследований. «Диалог», в который он вступает с Гегелем, выходит за границы полемики с одним из «крупных имен» западной философской мысли, его масштаб значительно больше. Сильная сторона его заключается в отказе от восприятия инаковости в духе этноцентризма и требовании радикального обновления сознания; обновления, толкователем и пропагандистом которого призван сделаться этнолог, вплетающий в ткань истории ту нить, которой в ней все еще недостает – историографию «примитивных» цивилизаций.
Де Мартино ставил себе целью пролить свет на драму бытия, которая в эпоху магизма становится культурной задачей, «центром истории и залогом свободы». Свобода – ключевое слово для блестящего финального синтеза; свобода, которая для магизма означает освобождение человеческого присутствия-в-мире от господства темных внешних сил, стремящихся подчинить его себе, добившись его отчуждения от самого себя. В этой перспективе выстраивается линия исторической преемственности между миром магизма и нашим миром вместо жесткого противопоставления, характерного для гегелевской позиции. Здесь уместно будет привести фрагмент столь же краткий, сколь и полный смысла, из очерка «Представление и опыт личности в магическом мире», написанного Де Мартино в 1946 г., который можно понимать как своего рода рефлексию над тогда же появившимся «Магическим миром»:
Если бы магический мир не был открыт задаче формирования индивида посредством отличения его от мира и сохранения его в нем, мы сегодня были бы лишены самых элементарных оснований присутствия, а значит, и необходимых предпосылок для рожденных историей произведений культуры20.
Автор указывает на творения западной цивилизации, корни которых восходят к магической драме: его взгляд устремлен преимущественно на понятие «определенного и гарантированного» присутствия, которое, благодаря осознанию нашего культурного долга перед магической эпохой, может быть полностью интегрировано в исторический процесс и перестанет восприниматься как некоторая природная данность. Таким образом, исторический анализ расширит сферу своего применения, обретя способность восходить от «продукта» к «драме продуцирования».
Эпилог книги представляет собой точку пересечения разнообразных исследовательских стратегий, между которыми можно найти общий знаменатель. Этнологическое исследование позволяет увидеть как историческую преемственность между Западом и магической цивилизацией, так и разрыв, обусловленный культурными особенностями, которые исторически отличали и по-прежнему отличают западную цивилизацию от других. Расширение историографического горизонта происходит из осознания диалектической связи между этими двумя моментами. В итоге сопоставление культур, открывающее взору «чужой» мир, являет нам образ нас самих, размышление над которым позволяет восстановить другие разорванные нити: те, что связывают нас с нашей исторической памятью, хранительницей наследия, которое необходимо постоянно оживлять коллективным усилием. Неслучайно, прощаясь с читателем, Де Мартино обращается мыслью к будущему западной цивилизации, к проблемам, возникающим в горизонте ожидания решения, предпосылки которого содержатся в настоящем. Заключительные фразы удивительным образом резюмируют значение сложного познавательного процесса, пройденного на страницах «Магического мира», книги, последние слова которой позволяют увидеть ее связь с марксистской мыслью:
Без сомнения, смысл освобождения, которое совершается благодаря магии, довольно элементарен. Однако, если бы человеческая природа так и не оказалась обретена, ей никогда не удалось бы перенести свой центр тяжести на то освобождение, которое стоит на повестке дня сегодня, реальное освобождение «Духа». И современная борьба против любой формы отчуждения продуктов человеческого труда предполагает, в качестве необходимого исторического условия, усилия людей по спасению элементарного основания этой борьбы, присутствия, гарантированного в мире21.
2. «Магический мир» под прицелом критики
2.1. Рецензии Бенедетто Кроче
Бенедетто Кроче оставил две рецензии на «Магический мир», вышедшие с небольшой разницей во времени. Сам факт, что столь маститый ученый уделил так много внимания произведению Де Мартино, можно считать молчаливым признанием его важности и новизны, не говоря уже о заслуженных похвалах автору. Следует добавить, что вес авторитетного мнения Кроче во втором из его отзывов оказал значительное влияние на рецепцию текста Де Мартино, который нередко читается сквозь призму оценок этого философа, в результате чего остаются в тени ее антропологический и историко-религиозный аспекты, которые, однако, в действительности играют первостепенную роль.
Кроче написал рецензию на «Магический мир» в год выхода в свет этого произведения22. Читателя, который смотрит на эту рецензию с большой временно2й дистанции, поражает глубокий анализ ключевых аргументов автора, заслугой которого Кроче считает то, что тот наконец возвел этнологию в ранг «научной истории» (severa storia), четко противопоставив ее господствующей этнологической, социологической и психологической традициям с их склонностью рассматривать эту архаическую форму духовной жизни как иррациональную, основанную на заблуждении или даже сознательной лжи: Де Мартино оказывается в одном ряду с Вико. Формулировки Кроче в его оценке рецензируемого текста полны экспрессии, свидетельствующей о живом интересе и участии:
Благодаря его [Де Мартино. – Авт.] трудам мышление примитивных народов сегодня рассматривается как этап в истории человеческой мысли, которому были уготованы особая роль и особое призвание в возникновении и развитии цивилизации, а не как нагромождение иррациональных верований и суеверий. Магизм был нужен для того, чтобы удовлетворить потребность в преодолении […] внутреннего разлада […] в эпоху, когда не существовало еще четкой границы – и даже, можно сказать, не существовало границы вовсе, – между внешней реальностью и противостоящим ей духом23.
Вслед за Де Мартино Кроче видит в магизме исходный пункт образования основополагающих понятий, среди прочего понятия личности, представляющих собой конститутивную часть культурного наследия Запада. Позитивной оценке «Магического мира» со стороны Кроче не помешало и разногласие, которое, однако, нельзя обойти стороной. Кроче считает недопустимым релятивизацию спекулятивных категорий, пригодных для исторической интерпретации одной только западной цивилизации. Таким образом, отмечает философ, Де Мартино «отвергает неизменность категорий, подвергая их историзации, причем историзация эта возможна лишь посредством своего рода “неподвижного двигателя”» – самих категорий24. Хотя Кроче и упрекает Де Мартино за то, что тот смешивает «категории с историческими “фактами”», которые их порождают и изменяют», он завершает свою рецензию словами, полными уважения: «Та деталь, которую, как мне кажется, ему [Де Мартино. – Авт.] следовало бы пересмотреть, никак не умаляет значения предложенной им исторической интерпретации, в себе и для себя вполне законченной»25.
Во втором своем отзыве, написанном в жанре краткой статьи – «О магизме как исторической эпохе» (1949)26, – Кроче коренным образом пересматривает установки и содержательные положения рецензии 1948 г. Теперь отказ от историзации категорий предваряет порой всю острую критику концептуального замысла «Магического мира» и тех представлений о культуре, которые лежат в его основании. Столь резкая и радикальная перемена мнения, не предваренная критикой прежней позиции, вызывает недоумение и в то же время ставит вопросы, на которые мы попытаемся ответить. Кроче производит обзор трех глав книги Де Мартино, вновь и вновь отмечая апории и противоречия в них, которые он резюмирует и обобщает в следующем пассаже:
Де Мартино напоминает, что я «всегда советовал открыться навстречу новому историческому опыту и тем самым подвергнуть проверке и перепроверке, а вероятно, и изменить, и расширить пределы философии духа в свете этого опыта». Рекомендацию эту я высказывал и часто повторяю, однако, не для того, чтобы почерпнуть из этого опыта «свет» для философии, который она призвана дать сама, но для того, чтобы найти в нем «стимулы», которые способствуют обогащению и приращению философских понятий благодаря накапливаемым в опыте вариантам решения проблем. Мне совершенно чуждо намерение представить исторически изменчивыми сами категории, высшие формы любых понятий, условия любых суждений27.
Главную мысль рецензии Кроче можно резюмировать следующим образом. На универсальную и вечную сущность категорий, которые суть условия любых суждений, не может оказать влияния новый исторический опыт: роль этого последнего, пусть он и необходим, сводится к тому, чтобы расширять область применения философских понятий, подтверждая их значимость. С этой точки зрения «Магический мир» предстает как подрывной и опасный текст, и в качестве такового он и подвергается атаке со стороны Кроче, который своими критическими замечаниями педантично и с полемическим задором, граничащим с сарказмом, стремится утвердить непреходящую значимость собственной системы мысли. Как может заметить читатель, конкретные аргументы, выдвигаемые философом, органично вписываются в эту картину: они являются, можно сказать, вариациями одной и той же темы.
Не вдаваясь в детали этой полемики, сосредоточим внимание на структуре рецензии и отметим, что в его композиции разгромная критика, которой подвергаются тезисы Де Мартино, переходит, без всякого обоснования этого перехода, в радикальную стигматизацию магической эпохи (которая безапелляционно относится им к области иррационального), как если бы существовала объективная связь между этими двумя уровнями рассуждений. Это не единственное слабое место второй рецензии. Еще более двойственное впечатление оставляет интерпретация у Кроче фигуры колдуна, которая представляет труд Де Мартино и его самого в превратном свете.
В наши дни мы с ужасом и тревогой взираем на совершающуюся перед нами драму и со страхом видим стремление погрузиться, с головой уйти в стихию иррационального, отрекшись от собственной свободы и добровольно протянув руки врагу, навстречу цепям и рабству, и прикрывая собственный недуг громким именем «исторической необходимости». Призовем ли мы, чтобы не пасть жертвой рассеяния, тех колдунов, которые уже явились перед нами в облике диктаторов монолитных и тоталитарных государств, и погрузимся в эпоху нового варварства, пока не достигнем начала времен, или же, наоборот, положимся на наши внутренние силы и дадим отпор? Ответ, перед лицом той дилеммы, перед которой мы оказались, на том перепутье, на котором мы стоим, каким бы трудным ни был выбор, представляется мне очевидным, потому что его диктует человеку его чувство долга, а утверждает в нем вера, которая не умирает. Однако тот ореол святости или, по крайней мере, почитания, которым Де Мартино окружает фигуру колдуна, помещая ее у истоков истории и цивилизации, заставляет меня задуматься28.
Из этих строк видно, что Кроче приравнивает колдуна к современным ему диктаторам (с очевидными намеками на Гитлера и Сталина): в первом следует видеть предтечу вторых, один отсылает к другому, как в зеркальном отражении. Их объединяет «эпоха варварства», прошлого и настоящего, которое каждый из них олицетворяет и в котором оба они занимают господствующее положение. Параллелизм внушает тревогу. Но обоснован ли он? Очевидно, что нет. Подобное заключение не подтверждается этнографическим материалом. Власть, которую обретает колдун, подвергая себя смертельному риску, сходя в бездну небытия, ставится на службу другим, сохранению целостности их личности и не имеет ничего общего с политическим господством над другими в той или иной форме, подчинением их себе. К этому следует добавить еще и то, что колдун/шаман не навязывает себя общине в качестве целителя по собственному произволу; напротив, он может действовать в качестве такового лишь в силу коллективного консенсуса (эту формулировку мы заимствовали у Леви-Стросса). В конечном счете Де Мартино был прав, когда сравнивал колдуна со спасителем, а не тираном. Демонизированный образ целителя/деспота представляется нам следствием ассоциаций, почерпнутых из современности и необоснованно спроецированных на магическую эпоху, которую Кроче относит к области иррационального. Известны в связи с этим спорные высказывания философа, которые мы находим в «Философии и историографии» (здесь примитивные народы рассматриваются как сообщества естественных людей, неспособных к развитию, существ, являющихся людьми лишь зоологически, но не исторически): эти оценки, отмечает Де Мартино, показывают со всей беспощадной ясностью подлинное отношение буржуа к колониальным народам29.
Образ колдуна/диктатора в конце концов закончил бы свою историю в списке бесчисленных творений человеческой фантазии, не вызывая большого шума, если бы он не превратился в «боевое оружие» для личной атаки на Де Мартино. Философ говорит о своей обеспокоенности тем восторженным отношением, переходящим в «боготворение», к столь зловещей фигуре со стороны историка религий. Здесь – да простят мне это выражение – философ окунает свое перо в яд, стремясь внушить читателю, что за идолопоклоннической установкой Де Мартино скрывается его тайная симпатия к современным диктаторам и, если возвратиться вспять по временно2й оси, к магической эпохе и ее мрачному протагонисту, который помещается им – ни больше, ни меньше! – у истоков истории и цивилизации. Это почти открытое обвинение Кроче в адрес Де Мартино недопустимо снижает тон полемики. Автор «Магического мира» не нуждается в защите – чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть без предвзятости его труды, в особенности «Натурализм и историзм в этнологии». Что же касается рождения цивилизации и истории, то Де Мартино не считает это событие результатом деятельности конкретного индивида, сколь бы одаренным он ни был, а связывает его с магической эпохой во всем многообразии ее проявлений, исходя из того, что именно в этот период «вот-бытие» впервые сделалось проблемой культуры, центром истории и условием свободы30.
Какие выводы мы можем сделать, рассмотрев две рецензии Кроче? Нам кажется бессмысленным пытаться выяснить, какая из них отражает «настоящее» мнение философа, какая из них более показательна. Нам представляется, что обе они «искренни» и в разных отношениях показательны. Достаточно было бы указать на то, какие движущие причины лежат в основании каждого из этих текстов. В рецензии 1948 г. преобладает ученое любопытство и страсть к познанию; в тексте 1949 г. тон задает оборонительная позиция автора, его упорное стремление отстоять первенство и, можно сказать, «неприкосновенность» философии духа – отсюда неколебимая приверженность философа собственной позиции и полемический задор, доходящий порой до крайности. Подобная реакция не имела бы смысла, если бы «Магический мир» не воспринимался так, как он и должен восприниматься: как «опасная» и прорывная книга, которая, несмотря на внутренние напряжения, сохраняет свою революционную энергию в деле продвижения экзотической формы знания, каковое продвижение – и это самое главное – неотделимо от переопределения культурных иерархий.
В завершении этого параграфа зададимся вопросом, обращенным, прежде всего, к нам самим: спросим себя, в какой мере полемика Кроче с Де Мартино, состоявшаяся в середине прошлого века, может быть актуальна для современного читателя «Магического мира». Мы склонны ответить на этот вопрос положительно по двум причинам. Первая из них исторического характера: невозможно игнорировать тот факт, что тот спор, эхо которого продолжает ощущаться и сегодня, оставил неизгладимый след в истории итальянской культуры ключевого, послевоенного ее периода, когда она остро нуждалась в обновлении и осознавала эту необходимость. К этому следует также добавить, что дискуссия эта имеет символическое значение, потому что она отражает конфликт, угрожающий нашему времени не меньше, чем недавнему прошлому: конфликт между традиционным гуманизмом европоцентрической ориентации и новым гуманизмом, опирающимся на «другие формы бытия человека в обществе» в своем стремлении достичь более глубокого и зрелого антропологического самосознания.
Заключительное замечание: как мы указывали выше, полемика Кроче и Де Мартино в значительной степени предопределила восприятие «Магического мира». Даже если сегодня взгляд Кроче пользуется заслуженным уважением, это не должно препятствовать поиску других способов прочтения этого текста, слишком сложного, обладающего слишком богатым потенциалом для исследования (разработанным плохо или неразработанным вовсе), чтобы сводить дело к обыкновенному дежавю.
2.2. Рецензия Энцо Пачи
В философских текстах Де Мартино можно найти многочисленные свидетельства – в форме комментариев, конспектов, заочного диалога, – его интереса к мысли Энцо Пачи31; интерес этот был взаимным, о чем свидетельствуют страницы книги последнего «Ничто и проблема человека», посвященные «Магическому миру»32. Следует уточнить, что Пачи концентрирует свое внимание на философском аспекте этой книги: с учетом этих ограничений его рецензия содержит некоторые весьма важные моменты для более глубокого понимания мысли Де Мартино. Пачи спрашивает себя, возможно ли проследить за пределами магической эпохи драму присутствия, ищущего спасения от угрозы собственного разрушения, отмечая, что «экзистенциальная драма, о которой говорит Де Мартино, это вечная драма истории, разыгрывающаяся между мыслью и действием или, как понимал это Вико, драматический дуализм разума и варварства, духа и природы»33. Мысль Де Мартино будет двигаться в сходном направлении в ряде его философских текстов, вышедших в свет в десятилетие 1948–1958 гг.: идеальным примером здесь может служить «Смерть и ритуальный плач». Здесь мы читаем, что радикальный риск, которому подвергается присутствие, раскрывается «во всей своей полноте в так называемых примитивных цивилизациях и впоследствии постепенно уменьшается, принимая все менее острые формы, смягчаемые благодаря опосредствованию все более увеличивающей свое значение культурной жизни – из этого исходил и Пачи»34. Отсюда следует, что гибель присутствия – это потенциальная угроза, заключенная в структуре экзистенции: единственный критерий, позволяющий различать между собой цивилизации, – это интенсивность и периодичность манифестации этой угрозы.
Кроме того, Пачи указывает на важность критики, которую Де Мартино обращает против экзистенциалистской философии в пространном пассаже из «Магического мира», где он останавливается на весьма важном сюжете:
Общей предпосылкой для всех авторов-экзистенциалистов является […] ограниченность и конечность индивида […]. Подобная ограниченность присутствия предстает как факт, происхождение которого темно и окутано страхом, она предстает как независящие от меня здесь и сейчас, как индивидуация, проявляющаяся в форме нисхождения [descesnus] и падения. […] В действительности в переплетении этих опытов и конфигураций отражается лишь наш историографический долг, до конца еще не осознанный, перед магической эпохой в истории, когда бытие было еще только возможностью для человека in fieri […]. Мы – заложники ограниченности нашей культуры, для которой полагание пределов присутствию рассматривается как грех, однако «в магическом мире» именно в установлении границ присутствия заключается спасение, в то время как грех («злокозненность») для магического сознания состоит именно в чреватом опасностью устранении пределов35.
Эти размышления, в которых раскрывается смысл исторической этнологии, дают нам возможность оценить, – не покидая пределов «Магического мира», – отношения, которые связывали Де Мартино с экзистенциализмом и особенно с Мартином Хайдеггером: отношения сложные, предполагавшие не только близость, но и сохранение дистанции. Достаточно вспомнить о том, что понятие «вот-бытия», Dasein, стало для историка религий теоретическим инструментом, позволившим ему проникнуть в глубинную сущность магизма. Для этой цели оказалось необходимым «воскресить» само это понятие, включив его в исторический процесс и рассматривая те формы, которые оно принимает в различных цивилизациях. Присутствие – будет говорить Де Мартино – всегда есть бросание мира перед собой; вместе с тем конкретные формы, в которые облекается эта исходная диспозиция, невозможно никоим образом отделить от характерных особенностей, определяющих исторический облик каждой культуры. Если в магическом мире присутствие является целью и заданием, то в западной цивилизации «вот-бытие» предстает как уже достигнутый результат. Критическое сопоставление двух этих установок, проливающее свет на различие породивших их контекстов, позволяет воспринять обе их в равной мере как культурные формации, а не как данности, изолированные от исторического процесса.
Исходя из подобных предпосылок, можно посмотреть на проблему еще шире. Бытие конституируется как движение, трансцендирующее фактическую ситуацию и преобразующее ее в культурную ценность. Основанием этого движения выступает примордиальный этос трансцендирования; заброшенность – на этой категории лучше всего видно различие между двумя этими мыслителями – для Де Мартино представляет собой темную сторону бытия, подчиняющую себе трансцендирующий этос. Диалектическая связь между двумя полюсами проясняется в следующем фрагменте:
Заброшенность, Geworfenheit, бытие-заброшенным-в-мире – это опасность, угрожающая бытию-в-мире: однако бытие-в-мире, присутствие, всегда проецирует мир перед собой посредством действия, ориентированного на всеобщее, на размыкание навстречу ценностям. Бытие-заброшенным-в-мире означает, что присутствие уже утеряно, и, утрачивая себя, оно утрачивает мир. Geworfenheit – это радикальное зло, которое ставит под угрозу и одновременно спасает этос присутствия36.
Читатель сможет оценить во всей полноте взаимное влияние Де Мартино и Хайдеггера, ознакомившись с важными материалами, посвященными анализу философской мысли фрайбургского философа, которые можно найти в уже упоминавшихся философских сочинениях итальянского автора, настоящем кладезе идей, критических наблюдений и рабочих гипотез37. Здесь мы ограничимся тем, что приведем только один фрагмент, выделяющийся на фоне остальных своей концептуальной насыщенностью, который, в полном согласии со сказанным нами выше, касается ключевого пункта в полемике о смысле культуры:
Бытие-в-мире и бытие-с – это экзистенциалы, предстающие в разных модусах, в том числе дефектных. Хайдеггер не считал частью конституции бытия небытие (а значит, и риск не мочь быть ни в каком из возможных культурных миров, риск не быть-с) и модальность бытия как интерсубъективное наделение ценностью (а значит, небытие как ослабление полагающей ценности энергии)38.
В рецензии Пачи, к которой мы теперь возвращаемся, содержится рассуждение, представляющее особый интерес, так как в нем можно увидеть определенную близость между мыслью Де Мартино и итальянским позитивным экзистенциализмом. Философ отмечает, что понятия «изначальной» и «предельной ситуации», которыми пользуется наш антрополог, встречаются и в трудах Николы Аббаньяно,
где из них складывается основополагающая категория структуры, в которой стремление бытия овладеть собой как экзистенцией проявляет себя «не только в изначальной (Хайдеггер) и не только в предельной (Ясперс) ситуации, а в сопряжении предельной и изначальной ситуации». […] Структура экзистенции содержит в себе движение к трансценденции как конститутивный элемент самого экзистирования, приемлющего собственный риск39.
В этом контексте следует отметить любопытную игру взаимных отсылок. Де Мартино принимает гипотезу, выдвинутую Пачи: он делает это с определенной временно2й дистанции, будучи погружен в интенсивные размышления, из которых вырос сборник под названием «Философские сочинения» – отдельные части его связаны между собой, но не образуют единого текста (или же, возможно, перед нами очерк в форме carnet de notes, дневниковых заметок). Исследователь пересматривает, углубляет, укрепляет систему, разработанную в «Магическом мире», чтобы подготовить ее к очень серьезному испытанию, уже виднеющемуся на горизонте: сравнительному анализу культурных катастроф. В этом интеллектуальном климате созревает и следующее рассуждение, не нуждающееся в комментариях, которое вытекает из новых размышлений над темами, типичными для итальянского позитивного экзистенциализма:
Эти темы позитивного экзистенциализма Пачи (и Аббаньяно) в общих чертах согласуются с подходом, избранным мною для книги о «конце мира». Трансцендентальный этос трансцендирования жизни в ценность хорошо сочетается с интерпретацией трансцендентального у Канта, предложенной Пачи, содержащейся в предложенном Аббаньяно понятии «структуры экзистенции». Таким же образом разрушение этоса трансцендирования […] согласуется с поднимаемой у Аббаньяно (и у Пачи) темой экзистенции, которая может погибнуть, исчезнуть, и мира, который «может» или «не может» иметь основание40.