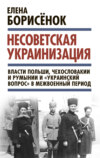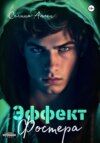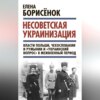Read the book: «Несоветская украинизация: власти Польши, Чехословакии и Румынии и «украинский вопрос» в межвоенный период»
Введение
Первая половина ХХ века стала эпохой глобальных изменений на политическом пространстве Восточной Европы. Первая мировая война и последовавший распад Российской империи и Австро-Венгрии поставили на повестку дня вопрос об образовании новых национальных государств. Однако провести государственные границы на востоке Европы, с его полиэтническим и многоконфессиональным населением, оказалось очень сложно. Появившиеся на карте послевоенной Европы новые государства не являлись мононациональными: на этих территориях проживали представители различных этносов, а значительные группы титульной нации оказались в составе населения разных государств. Правительства этих стран должны были решить вопрос о том, прибегать ли к национальной или государственной ассимиляции или признать права нетитульных наций и определить формы и виды самоуправления на определенных территориях.
После распада империй обострился «украинский вопрос». Сторонники «украинской идеи» предприняли попытку формирования национальных государств. О своем существовании заявили Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика, Украинская Держава гетмана Скоропадского. Однако укрепиться этим государственным образованиям не удалось, и в итоге большинство украинских земель вошло в состав Украинской ССР, а остальная их часть, согласно мирным договорам, заключенным после окончания Первой мировой войны, была включена в состав Польши, Чехословакии и Румынии. Молодые государства столкнулись с необходимостью установления типа государственного устройства на землях, населенных украинцами.
Для западных украинских земель какой-либо автономии не было создано, несмотря на указания, содержащиеся в подписанных после войны мирных договорах. Продолжавшее существовать украинское движение пыталось в меру своих сил бороться за право украинцев на самостоятельное государственное существование. Неудивительно, что деятели украинского движения использовали ослабление Чехословацкого государства в 1938 г. для того, чтобы добиться превращения Подкарпатской Руси в Карпатскую Украину.
Другая ситуация сложилась на Советской Украине. Если в Польше, Чехословакии, Румынии украинцы стали национальным меньшинством, то в УССР – «коренной национальностью». Большевистская партия объявила о необходимости «исправить» последствия «русификаторской» политики царского правительства, дабы облегчить путь «социалистического строительства». Правительство Советской Украины под руководством центральных властей в Москве взяло курс на украинизацию в рамках общесоюзной политики коренизации партийного и государственного аппарата в национальных республиках.
Учитывая активное внимание современного российского общества к украинской проблематике, изучение украинской политики государств, в которых в межвоенные годы компактно проживало украинское население, сравнение различных моделей решения «украинского вопроса» является актуальной научной задачей, поскольку позволяет дать представление о методах национального строительства на восточноевропейском пространстве в межвоенный период, что необычайно важно для понимания закономерностей в развитии полиэтнического государства.
Степень изученности темы
Историография избранной проблемы достаточно специфична. Долгое время отсутствовали специальные исследования, непосредственно посвященные указанной проблематике, что объяснялось как ограниченностью источниковой базы из-за недоступности определенных архивных материалов, так и чрезвычайной политизированностью темы.
В Советском Союзе приоритет в изучении национальной истории принадлежал исключительно союзным республикам. Исследования по истории Украины были сосредоточены в самой УССР, а в центральных научных учреждениях украинские сюжеты затрагивались в рамках общих проблем. В соответствии с актуальной на тот момент версией истории КПСС глорифицировалась советская национальная политика, а украинское национальное движение рассматривалось как буржуазно-националистическое, контрреволюционное. Исследователи не могли вдаваться в подробности, рассказывать о «неудобных» деятелях и интерпретировать украинизацию иначе, чем предусматривала актуальная на тот момент версия истории КПСС. Поэтому в советский период проблема украинизации оставалась малоизученной. При этом подчеркивалось, что политика Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии по украинскому вопросу была захватнической, а борьба трудящихся Западной Украины носила национально-освободительный характер.
Для современной российской историографии характерен взгляд «сверху вниз», в связи с чем обычно ставятся вопросы влияния государства на национальные, экономические, социальные, культурные процессы в регионах, поэтому ощущается дефицит работ, непосредственно посвященных украинской тематике. Это характерно для работ, посвященных изучению положения украинского населения как в Советском Союзе, так и в Польше, Чехословакии и Румынии.
Необходимо отметить явный недостаток исследований российских ученых по украинской проблематике. Тем не менее об актуальности этой темы свидетельствуют появившиеся в последние годы труды обобщающего характера. Усилиями российско-украинской комиссии историков при Президиуме РАН и Президиуме НАНУ были подготовлены коллективные труды. Российские историки под руководством А. О. Чубарьяна подготовили «Очерки истории России» на украинском языке, а украинские специалисты во главе с В. А. Смолием – «Историю Украины» на русском. Украинские коллеги подчеркивают вынужденность советской политики украинизации, указывая, что «Советская Россия завоевала Украину с третьей попытки, однако удерживать ее только военной силой было невозможно. Граждане Украины должны были убедиться в том, что советская власть – это их собственная власть. Представителям этой власти следовало общаться с ними на их родном языке»1. Положение украинцев в Польше, Чехословакии и Румынии изложено кратко, при этом сделан акцент на развитие украинского национального движения в этих странах, а политика Варшавы, Праги и Бухареста изложена схематично.
В «Очерках истории России» политика центра в отношении Украинской ССР в целом и украинизация в частности не относятся к числу приоритетных тем, что объясняется объективно существующими для такого рода работ ограничениями по объему представляемого материала. Тем не менее в очерках указано, что советская политика «предусматривала национальную консолидацию в границах республик (что отразилось и на политике украинизации в УССР)»2.
В 2015 г. вышла «История Украины»3, написанная российскими историками, членами российско-украинской комиссии И. Н. Данилевским, Т. Г. Таировой-Яковлевой, А. В. Шубиным, В. И. Мироненко. Как подчеркивает во введении А. О. Чубарьян, эта книга является «приглашением группы авторов к диалогу по весьма актуальной и непростой исторической проблеме»4. При изучении событий межвоенного периода основное внимание уделяется Советской Украине, тогда как западным украинским землям уделяется значительно меньше внимания. При этом в соответствующем разделе анализируется не столько политика государства в отношении украинских земель, сколько деятельность украинского национального движения. В том же году была издана «История Новороссии» А. В. Шубина, в которой рассмотрены особенности развития юга и востока «современного государства Украины по сравнению с центральными и западными регионами этой страны»5.
Среди существующих работ российских ученых в области украинистики следует выделить монографию А. И. Миллера, в которой анализируется процесс принятия властями Российской империи решений в отношении украинского национального движения, столкновение украинского проекта национального строительства с проектом формирования «большой русской нации»6. И. В. Михутина изучила проблему становления украинского идейно-политического течения, с оформлением которого в России на протяжении XIX в. возник украинский вопрос, развитие украинской национально-политической программы, восприятие ее российскими политическими силами7. Кроме того, исследовательница рассматривает развитие украинского движения после февральской революции, акцентируя внимания на сложных событиях конца 1917 г. – начала 1918 г., когда велись дипломатические переговоры, завершившиеся подписанием мирного договора между Украинской Народной Республикой и государствами Четверного союза8. А. В. Шубин в своей работе о Н. И. Махно анализирует сложные события периода Гражданской войны, попытки анархистов воплотить свои идеалы в жизнь. Ученый уделяет внимание оппонентам анархистов – большевикам, белогвардейцам, деятелям украинского движения, также нацеленным на создание независимого государства9. А. С. Пученков рассмотрел политические процессы на Украине и в Крыму в 1918 – начале 1919 г.: историю Украинской Державы гетмана П. П. Скоропадского, немецкую оккупацию Украины, идеологию гетманщины, взаимоотношения Скоропадского с российским Белым движением, предпосылки французской интервенции на Юге России и причины ее неудачи, специфику развития революционного процесса в Крыму10. Авторы очерков «Русские об Украине и украинцах» рассматривают складывавшийся в русском общественном сознании образ украинца с точки зрения его этнической, культурной и языковой принадлежности, места и роли в восточнославянском пространстве. Основное внимание в книге уделено этнокультурному восприятию русским обществом населения украинских земель в связи с процессом формирования и развития в рамках единого государственного пространства различных систем идентичностей (общерусской, национальной, региональной)11.
Появились исследования, посвященные украинской советской проблематике12. А. В. Марчуков в качестве проблемы исследования избрал украинское национальное движение в 1920-1930-е гг., он рассматривает его как историю «конструирования и строительства украинской национальной общности и „Украины“ как особого национально-политического организма, преобразования крестьянского, малорусского, русинского населения в „украинцев“, утверждения среди них украинского национального самосознания и украинской идентичности». Ученый отмечает, что в 1920-1930-е гг. движение «было неоднородно и объединяло представителей разных политических сил – от „петлюровцев“ до украинских национал-коммунистов»13. К. С. Дроздов в своей монографии «Политика украинизации в Центральном Черноземье, 1923–1933 гг.» проанализировал механизм регулирования русско-украинских национальных взаимоотношений на территории тех регионов РСФСР, где проживало украинское национальное меньшинство14. Идейные основы эволюции национальной политики СССР изучил А. И. Вдовин. В центре его внимания – русский народ «как системообразующее ядро новой исторической общности, формирующейся в СССР»15.
Среди работ, посвященных национально-культурной политике большевиков, следует отметить труды Т. Ю. Красовицкой. Анализируя этносоциокультурную ситуацию в стране, Красовицкая показывает все сложности процесса советской модернизации в полиэтническом государстве, влияние политики большевиков на национальные культуры16. Особенности проведения советской национальной политики в БССР продемонстрированы в монографии Ю. А. Борисенка: он рассматривает вопросы развития белорусского общества и формирования белорусских государственных структур на фоне межгосударственного и геополитического противостояния между Польшей и Россией в первой половине ХХ в.17
Однако особый интерес представляют работы, посвященные Западной Украине. Проблемы польско-украинского пограничья рассмотрены В. Н. Савченко18. По его мнению, в начале XX в. у коренного восточнославянского населения Галиции имелись три пути дальнейшей национально-культурной эволюции: «1) традиционный, в качестве составной части малорусской ветви общерусской общности; 2) в направлении окатоличивания и полонизации; 3) в направлении украинизации и обособления». При этом последний путь хотя и «представлялся наименее вероятной перспективой», тем не менее именно он начал реализовываться. При этом «украинофильство окончательно восторжествовало» после «присоединения почти всей Восточной Галиции к УССР в 1939 г.», с началом советской украинизации края19.
В 2016 г. вышла монография М. Э. Клоповой, посвященная истории национальных движений восточнославянского населения Галиции в XIX – начале XX века20. Основное внимание в исследовании уделено соперничеству украинского и русофильского направлений, влиянию на общественно-политическую жизнь Восточной Галиции позиции галицийской администрации и имперского правительства, польского национального движения, а также австро-российских отношений.
Российские слависты также уделяют внимание украинскому вопросу в политике Польши и Чехословакии в межвоенный период. Прежде всего, следует отметить труды известного российского полониста Г. Ф. Матвеева и, прежде всего, его биографию польского политического деятеля Ю. Пилсудского21. Для нашей проблемы заслуживают внимания исследованные Матвеевым сюжеты, связанные с формированием границ II Речи Посполитой и борьбой между поляками и украинцами за обладание Восточной Галицией, а также польско-советской войной. Немало внимания украинским сюжетам уделено и при рассмотрении российским историком внутренней политики Польши в 1920-1930-е гг., в том числе операции так называемого «умиротворения» в Восточной Галиции 1930 г. Стоит отметить также его исследование положения военнопленных красноармейцев в Польше22, а также его многочисленные статьи и публикации.
С. В. Ольховский рассматривает «волынский эксперимент» как модель сосуществования польского и украинского общество во II Речи Посполитой: «В Галиции украинское самосознание сформировалось на платформе негативной оценки всего исторического опыта польско-украинских отношений и вооруженной борьбы за создание независимой Украины, при этом относительная непопулярность сепаратистских идей среди украинцев Волыни давала польской администрации шанс реализации иного сценария – формирования лояльного государству украинского движения»23. Как отмечает Е. В. Бондаренко, идейно-концептуальной основой «волынской программы» было то, что «она преследовала цель создать на территории воеводства своеобразный анклав польско-украинского общежития и согласия», для чего «предполагалось привлекать украинцев, и прежде всего деятелей бывшей УНР, к политической жизни страны путем расширения их участия в деятельности законодательных органов, органов местной администрации и самоуправления, кооперативных организаций»24. Большой интерес представляют работы Т. М. Симоновой, посвященные идеям польского прометеизма, предполагавшим руководящую роль польского государства в Восточной Европе и направленным главным образом против России25.
К. К. Федевич доказывает, что польско-украинские отношения в межвоенном польском государстве не сводились к противостоянию, а в значительной мере представляли собой историю мирного сосуществования, взаимодействия и взаимной адаптации. При этом «наивысшего уровня процессы государственной интеграции галицких украинцев в Польше достигли в середине 1930-х гг., когда самые влиятельные политические силы Восточной Галичины Украинское национально-демократическое объединение и греко-католическая церковь присоединились к правящему лагерю Польши и помогали ему в борьбе с польской политической оппозицией в обмен на поддержку лояльных украинских политических, культурных и деловых структур»26.
Среди работ, посвященных анализу положения восточнославянских земель в составе межвоенной Чехословацкой Республики, следует выделить труды К. В. Шевченко. Рассматривая проблему развития альтернативных этнических идентичностей у восточнославянских народов, исследователь подчеркивает, что «в межвоенный период Карпатская Русь оказалась единственным уцелевшим после Первой мировой войны и распада Российской империи островком, на котором продолжала существовать и развиваться идея общерусского этнокультурного и языкового единства. Если в СССР взгляд на восточных славян как на три отдельных народа – русских, украинцев и белорусов – был принят в качестве единственно правильного и навязывался всей мощью советской пропаганды и административной системы, то среди карпатских русинов, вошедших в межвоенный период в состав Чехословакии и Польши, сохранялась отвергнутая в СССР идея общерусского единства, а противоборство между различными национальными ориентациями протекало в более естественных условиях»27.
Несомненный интерес представляет монография А. И. Пушкаша, в которой перипетии внутренней жизни карпатского региона рассмотрены на фоне сложной международной обстановки. Анализируя события 1938–1939 гг., автор приходит к выводу, что внешний фактор оказывал определяющее влияние на события в этом регионе. Так, «перемены в Карпатской Украине в первые месяцы 1939 года проходили под влиянием внешнего фактора – гитлеровской Германии»28.
Проблемы, связанные с историей, культурой и идентичностью карпатских русинов29, изучает М. Ю. Дронов. Особое внимание исследователь уделяет роли Греко-католической церкви в процессах формирования этнонациональной идентичности русинов30. Исследователь пришел к выводу, что в Карпатском регионе украинская идентичность «являлась дальнейшим развитием… малорусской идентичности. Под влиянием информации об успехах украинской национальной идеи в других регионах (в частности, в Галиции) переход от малорусскости к украинству трактовался как природный процесс для всех тех, кого еще недавно относили к малороссам»31. При этом М. Ю. Дронов отмечает изначальную искусственность и малую популярность малорусской идентичности на южных склонах Карпат.
В. В. Марьина, рассматривая историю присоединения Закарпатской Украины (Подкарпатской Руси) к Советскому Союзу (Советской Украине), уделяет внимание событиям 1938–1939 гг. В частности, она отмечает, что А. Волошин и его сторонники «разрабатывали грандиозные планы превращения Подкарпатской Руси в своего рода „украинский Пьемонт“, согласно которым она должна была стать центром объединения украинцев из Польши, Румынии и Советского Союза. Создание „Великой Украины“ мыслилось при поддержке и под протекторатом нацистской Германии»32. Анализируя «украинский фактор» накануне и в начале Второй мировой войны, А. Ф. Носкова подчеркивает, что «оформление и подъем украинского движения за рубежом, как, впрочем, и всей антисоветской эмиграции, его локализация в соседней Польше не могли не рассматриваться в Москве как серьезная угроза для стабильности СССР и советской Украины в особенности. В этой связи среди известных побудительных причин, которыми ученые объясняют действия И. В. Сталина летом 1939 г., на мой взгляд, не достает такого мотива, как намерение нейтрализовать опасное влияние ОУН на подъем украинского сепаратизма в УССР путем включения в состав СССР тех территорий, где украинцы составляли значительную часть смешанного населения»33.
Таким образом, в современной российской историографии отчетливо проявляются тенденции найти взвешенный, объективный подход к сложным реалиям восточноевропейской истории 1920-1930-х гг. Накопленный отечественными исследователями опыт в изучении данной проблематики уже достаточно обширен и требует сопоставления с конкретным фактическим материалом по истории Украинской ССР, Восточной Галиции, Подкарпатской Руси, Буковины и Бессарабии.
Начиная с 1920-х гг., об украинизации писали зарубежные ученые. Особенно активны были представители украинской диаспоры, затрагивавшие в своих трудах различные аспекты культурной жизни и национального строительства. В многочисленных публикациях нашли отражения события революции и гражданской войны на Украине, советская политика украинизации и политика в отношении украинского вопроса в странах Восточной Европы в межвоенный период. Несмотря на то что диаспорная историография насчитывает значительное количество работ, проблема положения украинцев в восточноевропейских странах в них не нашла объективного изложения. Если деятельность правительств УНР, ЗУНР, Украинской Державы освещалась в зависимости от политических предпочтений автора, то советские реалии получали в основном негативную оценку. Их авторы представляли альтернативный советской литературе подход и, стремясь изложить свое видение национально-культурного процесса 1920-1930-х гг. и одновременно разоблачить своих идеологических противников, впадали в крайность.
Украинская тематика затрагивалась и западными учеными неукраинского происхождения: за рубежом активно развивалась советология. Отсутствие доступа к официальным документам и ограниченность источниковой базы, с одной стороны, и формирование образа СССР как образа врага в условиях «холодной войны» заставляет с осторожностью подходить к такого рода работам.
Впрочем, это обстоятельство отнюдь не исключает наличия перспективных идей у зарубежных специалистов. Так, уже в 1929 г. У. Р. Бэтселл доказывал, что советская национальная политика является тактическим маневром для привлечения поддержки нерусского населения СССР. Оказывая в целом благотворное влияние, эта политика была связана с лояльностью тех или иных народов по отношению к советской власти, но одновременно была потенциально опасна для центрального руководства, поскольку формировавшиеся местные элиты рано или поздно поставят вопрос о самостоятельности «своих» территорий34.
После Второй мировой войны, с конца 1940-х до середины 1980-х гг., появилось немало зарубежных исследований, посвященных истории Советского Союза, в которых так или иначе трактовалась и национальная проблематика. Так, в работах И. Дойчера, Р. Пайпса, Э. Х. Карра национальная политика СССР рассматривалась как производная от более широких задач советской власти35. Несомненный интерес представляют работы А. Инкелеса, Р. А. Бауэра, М. Фэйнсода36. А. Инкелес сделал вывод, что жизненные условия украинца в советской системе и его реакция на эту систему в первую очередь определены не его национальностью, а статусом советского гражданина и принадлежностью к определенному классу. Р. Салливант отмечал, что украинизация призвана была привлечь на сторону Сталина одну из крупнейших региональных партийных организаций – КП(б)У37.
Следует учитывать, что с середины 1980-х гг., т. е. в период перестройки, а затем распада Советского Союза, национальная проблематика оказалась весьма востребованной, в связи с чем все больше ученых сосредотачивалось на украинской проблематике. В 1988 г. О. Субтельный, канадский историк украинского происхождения, издал свою известную книгу «Украина. История»38, которая уже в 1991 г. была опубликована на украинском языке, а затем неоднократно переиздавалась на Украине. По оценке А. В. Портнова, «написанная как синтез украинских схем национальной истории и новейших идей западной историографии, книга Субтельного стала настоящим бестселлером»39.
В 1996 г. вышла еще одна, не менее известная «История Украины», автором которой является канадский историк с русинскими корнями П. Р. Магочи40. Эта работа, как и монография по истории Подкарпатской Руси41, были переизданы затем на украинском языке. Профессор Гарвардского университета С. Плохий называет «Историю Украины» Магочи «первой серьезной попыткой написать территориальную, многоэтничную и мультикультурную историю Украины», причем считает ее альтернативой более традиционного нарратива Ореста Субтельного42.
Украинская проблематика в последние годы становится все более популярной. Так, в 2015 г. в Праге была издана «История Украины», написанная Я. Рыхликом, Б. Зилинским и П. Р. Магочи43. Стоит упомянуть также труды Дж. Мейса, в которых рассмотрена проблема формирования «национал-коммунизма», подчеркнута большая роль последнего в проведении украинизации44, а также работу Дж. Либера, посвященную проблеме модернизации и урбанизации в УССР. В этой связи Либер подчеркивал смещение фокуса украинской идентичности из сельской местности в город45. Р. Кайзер отмечает значение установления границ Украинской ССР, поскольку «территориализация» украинского государства способствовала росту национального самосознания украинцев46. Р. Г. Суни считает национальный вопрос относительно самостоятельной, но неотъемлемой частью проблем советского государства, он утверждает, что коренизация без НЭПа была так же невозможна, как НЭП без коренизации. СССР в его представлении одновременно и устранял политический суверенитет национальностей, и гарантировал им территориальную идентичность, учреждения образования и культуры на родном языке и продвижение коренных кадров к властным позициям47. М. Малиа оценивает коренизацию как имплантацию советских институтов в нерусские культуры48. Американский ученый украинского происхождения Р. Шпорлюк подчеркивает, что интернационалистская национальная политика сделала коммунизм и советскую форму правления более восприимчивыми для нерусских территорий, позволила советской власти достичь взаимопонимания с крестьянством и национальной интеллигенцией49. Д. Л. Бранденбергер рассматривает изменения в партийной идеологии во второй половине 1930-х гг., анализирует развитие идеологии «национал-большевизма» вплоть до середины 1950-х гг., ее внедрение в массовое сознание через образовательные и культурные учреждения50. Канадский историк с украинскими корнями С. Екельчик посвятил свою монографию интерпретации прошлого в украинской науке и культуре сталинского времени, автор анализирует изменения в официальной политике памяти в 1930-е гг.: как в политических выступлениях, научных трудах, романах, пьесах, операх, картинах, памятниках и праздниках было представлено прошлое украинцев и как изображались русско-украинские отношения51.
Большое внимание научного сообщества привлек труд Т. Мартина. Американский ученый обращает внимание на определенную преемственность СССР и развалившейся Российской империи, подчеркивает систематичность нациестроительства большевиков. В отношении формы национального устройства Советского Союза этот автор предлагает использовать термин «империя позитивного действия». Ученый убедительно доказывает, что советская политика носила активный характер, поддерживая создание и развитие национальных территорий, элит, языков и культурных учреждений52.
Американский исследователь Т. Снайдер посвятил одну из своих книг Г. Юзевскому53. «Волынский эксперимент» этот автор анализирует с точки зрения межвоенного польско-советского противостояния: обе стороны стремились использовать украинский вопрос, считая его слабым местом противника, причем политика Юзевского в определенной степени копировала советскую украинизацию.
В современной польской историографии следует отметить труды, посвященные политике воеводы Г. Юзевского на Волыни. «Волынский эксперимент» обычно трактуется как пример «польско-украинского понимания»54. А. Хойновский рассматривает деятельность волынского воеводы как попытку реализации в новых исторических условиях федеративной концепции Пилсудского55. Е. Томашевский проанализировал межнациональные отношения в межвоенной Польше56. Р. Тожецкий, изучив национальную политику «санационных правительств», отметил, что «волынская программа» Г. Юзевского была результатом поисков путей решения украинской проблемы в Польше57. Историк из Белостока Е. Миронович, рассматривая национальные аспекты польской политики (по словам исследователя, они относились к числу наиболее трудных в межвоенный период), подчеркивает различие политических методов, применяемых в Галиции и Волыни. Юзевский, по словам Мироновича, был убежден в возможности строительства на территории Волыни реального польско-украинского союза, который мог быть достигнут при помощи украинских организаций пропольской ориентации58.
Политику польских правительств относительно украинского населения Волыни в 1920-1930-х гг. освещают труды В. Менджецкого и Я. Кенсика59. Менджецкий считает, что для Юзевского украинцы были отдельным народом, который имел право культивировать собственные культуру и язык, поэтому решение украинской проблемы он усматривал в участии поляков в процессе формирования украинской нации: миссия обеих наций заключалась в общем противостоянии смертельному врагу – имперской России – в духе соглашения Пилсудского – Петлюры 1920 г.60
От украинцев, проживавших в Польше, требовались лояльность и признание прав Польши на Восточную Галицию и Западную Волынь. В этом случае администрация Юзевского готова была поддерживать украинские общественные, культурные, хозяйственные и даже политические инициативы61. При этом проукраинские симпатии волынского воеводы наталкивались на противодействие местного польского общества, в частности, римско-католического клира Волыни, для которых Волынь была не «польско-украинской», а польской территорией, а украинцы – внутренним врагом62.
Я. Кенсик написал политическую биографию Г. Юзевского. В своей концепции Юзевский, как считает польский исследователь, пытался соединить принципы политики государственной ассимиляции с идеологией 1920 г. и федеративно-прометеевской программой63. Т. Голувко и Г. Юзевский рассматривали проблему создания «украинского Пьемонта на Волыни» сквозь призму реализации восточной политики Польши64.
П. Ставеский опубликовал ряд неизвестных ранее документов о национальной политике Юзевского на Волыни65. З. Запоровский проанализировал процесс возникновения, организационную структуру и идеологию Волынского украинского объединения (ВУО), его культурно-образовательную, хозяйственную и парламентскую деятельность. Польский исследователь настаивает, что ВУО было национальной, центристской и региональной украинской партией, которая «реализовала позитивную программу, полезную как для государства, так и для своего общества»66.
Многие постулаты из работ зарубежных исследователей, в первую очередь представителей диаспоры, были восприняты современными украинскими учеными. Большое внимание они уделяют политике УНР, Украинской Державы гетмана Скоропадского67, отмечая украинизационные усилия правительств этих государственных образований, особенно в области образования и культуры. Существенное внимание уделяется и истории Карпатской Украины 1938–1939 гг.68 Украинские ученые доказывают, что правительство А. Волошина с октября 1938 г. до середины марта 1939 г. проводило большую украинизационную работу, причем немалые усилия, предпринимавшиеся по украинизации государственного аппарата и учебных, культурных учреждений, фактически были превышением правительственных полномочий. Как отмечает В. Лемак, правительственное распоряжение от 25 ноября 1938 г. о внедрении в Подкарпатской Руси государственного украинского языка и распоряжение от 30 декабря об употреблении названия края «Карпатская Украина» противоречили «Конституционному закону об автономии Подкарпатской Руси» от 22 ноября 1938 г., согласно которому название территории, официальный язык и язык обучения должен был установить Сейм Подкарпатской Руси69. Исследователи указывают, что распоряжения правительства активно претворялись в жизнь и часто выступали даже источником противостояния между чехами и украинцами.