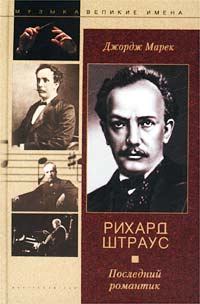Read the book: «Рихард Штраус. Последний романтик»
Предисловие
Загадка Рихарда Штрауса
Во Флоренции, в картинной галерее Уффици, есть любопытное произведение – автопортрет Карло Дольчи, художника XVII века. Он изобразил себя вельможей, человеком несомненного достатка, но задумчивым и сосредоточенным. Его мечтательный взгляд, устремленный на зрителя, не лишен некоторого высокомерия светского щеголя. Волосы тщательно причесаны, плащ – модного покроя, а круглый слоеный воротник поверх него – безупречной белизны. С первого взгляда в нем можно признать банкира или дипломата. Однако на картине есть кое-что еще. В руке этот вальяжный джентльмен держит другой свой автопортрет. На нем это уже совершенно иной человек – художник, профессионал, занятый своим прямым делом. Он небрит, неряшлив. На носу криво сидят очки, и нос уже не аристократический, а просто длинный. Рот в напряжении полуоткрыт, от мечтательной улыбки не осталось и следа. Из-под простой и удобной шапки выглядывают нечесаные волосы. Взгляд острый и критичный, ничуть не задумчивый, устремлен на невидимый холст.
Дольчи не принадлежит к числу величайших художников, но по крайней мере хотя бы однажды, в этой работе, он достиг величия. Он наглядно изобразил различие между обычным человеком и творцом, визуально показал разницу между светским вельможей и тружеником. Только что невозмутимый в своей элегантной задумчивости, в один момент он превращается в труженика, одержимого своей работой, который забыл о том, что приличному человеку следует причесаться и побриться.
Биограф Рихарда Штрауса может учесть это раздвоение. Оно чрезвычайно наглядно. Штраус был джентльменом, светским человеком и в какой-то мере не чужд щегольства. Но он был в то же время глубоко увлеченным и преданным своей профессии тружеником. Это разделение в Штраусе было столь же резким, как и на картине Дольчи.
Однако, чтобы воссоздать точный образ Штрауса, нам придется иметь дело не с двумя, а с тремя портретами: человека, композитора и музыканта-исполнителя. Целую половину своей творческой жизни он посвятил дирижерскому искусству, значительный отрезок времени был отдан художественному руководству оперой. Другие композиторы занимались исполнительской деятельностью, правда, в основном в период формирования. Брамс и Шуман были пианистами; Вагнер, Мендельсон, Берлиоз – дирижерами; Франк – органистом; Эльгор – скрипачом. Но никто из композиторов, за исключением, наверное, Малера и Листа, не отдал столько сил, как Штраус, служению чужой музыке. И мы не сможем оценить его по достоинству, не принимая во внимание этой его роли.
Но даже нарисовав три портрета и соединив их воедино, мы можем потерпеть неудачу. Штраус – трудный объект для биографа. Он жил в эпоху, когда была развита переписка между людьми, и осталось множество письменных свидетельств о его жизни, написанных как им самим, так и другими. Но Штраус был человеком скрытным, и документальные свидетельства о нем довольно скупы и даже путаны. Став известным, Штраус высказывался весьма осторожно и скрывал больше, чем предавал гласности, так что иногда трудно бывает установить, какое реальное содержание скрывается за этими документами.
Берясь за поставленную задачу, мы можем утешаться тем, что сумеем пролить достаточный свет на личность композитора, к которому в существующих биографиях отнеслись с уважением, но в общем поверхностно. Однако в конечном счете душа художника не должна подвергаться анализу. Мы можем нагромоздить горы биографических подробностей и все же не прийти к полному пониманию его внутренней сути. Известную фигуру можно анализировать с различных точек зрения – исторической, социальной, психологической, просто анекдотической – или исходить из того, что каждый мазок кисти, каждое написанное слово или каждая нота автобиографичны и поэтому нужно руководствоваться исключительно творчеством, если мы хотим понять человека. Каждая из этих точек зрения может нас научить чему-то, но все вместе они не могут научить всему.
Каждому известно, что природа творческой личности полна противоречий. Правда, то же самое можно сказать о большинстве людей – независимо от того, наделены они талантом или нет. Однако у талантливого человека противоречия и парадоксы проявляются острее. По крайней мере, мы знаем о них больше, поскольку такие люди привлекают всеобщее внимание. Мы знаем, например, что Достоевский – этот знаток человеческой души, страстный защитник униженных, несчастных и преследуемых – ненавидел евреев. Знаем, что художник Давид, который вдохновенно прославлял патриотизм французов XVIII столетия, был ренегатом и подхалимом. Знаем, что Вагнеру нельзя было доверять деньги и собственных жен. Знаем, что Толстой, чей роман «Война и мир» был хвалебной песнью доброте, мог быть жестоким к своим близким. Знаем, что Тициан использовал сомнительные методы, чтобы обеспечить себе монополию на самые выгодные заказы как в Венеции, так и за ее пределами. А Микеланджело был охарактеризован в работе Рудольфа и Марго Уиткауэр «Рожденный под знаком Сатурна» как «алчный и щедрый, сверхчеловечный и инфантильный, скромный и тщеславный, вспыльчивый, подозрительный, ревнивый, человеконенавистнический, эксцентричный и ужасный. И это еще не полный перечень его черт».1
Поэтому вряд ли будет преувеличением сказать, что Рихард Штраус обладал противоречивым характером, хотя его немецкие биографы, труды которых я читал, представляют композитора как необыкновенно уравновешенного человека. Противоречия в нем многогранны, своеобразны и глубоко скрыты. Как и на картине Дольчи, образ джентльмена выступает крупным планом. Штраус хотел, чтобы его воспринимали именно так: джентльменом-гением, с акцентом на первом слове.
Штраус никогда не проявлял явного эксцентричного поведения. Он не вскрикивал в экстазе, не допускал вспышек темперамента, ему не было надобности ощущать запах гниющих яблок, для того чтобы сочинять музыку, или надевать бархатную куртку. Он не предавал друзей (хотя у него их было мало), не брал денег в долг с намерением их не отдавать, не швырял в приступах отчаяния свои сочинения в огонь (возможно, с некоторыми и стоило так поступить), у него не было бурного романа с актрисой, занятой в шекспировской пьесе, о его браке не ходило никаких пикантных сплетен. Он не считал, что призван в этот мир для его спасения, не пытался творить, мечась в жару во время приступов болезни, но и не лежал в прострации в периоды разочарований. Большую часть времени он трудился, водрузив на нос очки, упорно, но неторопливо идя к своей цели.
Штраус был женат только раз. Это был брак по любви. С певицей Паулиной Аной он познакомился, когда она была еще студенткой. В дальнейшем она стала лучшей исполнительницей его вокальных произведений. В более поздние годы она возомнила себя «важной леди» и держалась высокомерно, чем вызывала у всех, кто ее знал, глубокую неприязнь. В доме она правила твердой рукой. Штраус покорно смирился с рабством, предоставив жене бразды правления. Димз Тейлор, американский критик и композитор, в свою бытность музыкальным обозревателем нью-йоркского журнала «Мир» взял у Штрауса интервью в Гармише. После чаепития в саду Штраус повел его и сопровождавшего его сотрудника показать свой дом. «Когда Штраус подошел к порогу дома, он остановился и тщательно вытер ноги о влажный коврик, лежавший перед дверью. Сделал шаг и еще раз вытер ноги теперь уже о сухой коврик. Переступив порог, он снова остановился и в третий раз вытер ноги о резиновый коврик, лежавший за дверью. Я почувствовал, как с моих плеч свалилась тяжесть, и понял, что она уже никогда больше на них не ляжет. Штраус был хорошим дирижером и великим композитором, и я всегда буду относиться к нему с почтением, но никогда больше не буду перед ним робеть. Ибо в этот момент я, как в озарении, увидел истину. Передо мной был не титан и не полубог, передо мной стоял просто женатый мужчина».2
Как это совместить с человеком, написавшим музыку к «Дон Жуану»? Как совместить педантичного бизнесмена – а Штраус был хорошим бизнесменом – с композитором, создавшим «Дон Кихота»? Где грань между холодным вельможей в соответствующем одеянии и с соответствующими манерами и автором финальной сцены «Саломеи»? Как человек, увидевший восход солнца на горе Заратустры, мог довольствоваться семейным очагом в трех комнатах? Его настолько не заинтересовали принципы новомодного психоанализа, что он даже не потрудился познакомиться с Зигмундом Фрейдом, хотя оба жили в Вене. Однако живо откликнулся на перевод «Электры» Софокла, сделанный Гофмансталем на языке извращенной психики XX столетия. Как в одном лице уживались человек, организовывавший гастроли оркестра и учитывавший до последней копейки все расходы, связанные с поездками, и композитор мистических, полных грез песен в изысканной музыкальной форме? Одной из самых привлекательных черт личности Штрауса был самокритичный юмор, который нашел отражение в его музыке. Но как тогда найти разумное объяснение напыщенному стилю в той части «Жизни героя», которая связана с критикой героя и его борьбой?
Однако одними противоречиями загадку Рихарда Штрауса не объяснить. Главная тайна – это качественное ухудшение его музыкального творчества. После нескольких ранних несамостоятельных произведений он достиг больших высот и держался на этом уровне долгие годы. И вдруг неожиданно потерял ощущение высоты, пошел на компромисс, довольствуясь не самыми лучшими результатами. Утратил способность к самокритике и отчасти сам уверовал, отчасти заставил себя поверить, что его «Египетская Елена», «Арабелла» и, что еще хуже, «Даная» и «День мира» написаны на том же уровне, что и «Тиль Уленшпигель», «Кавалер роз» и «Утро». У всех великих композиторов есть не самые лучшие сочинения. Те из них, у кого отсутствует самокритика, создают произведения неравной ценности. Ярким тому подтверждением является Берлиоз. Некоторые художники, одержимые жаждой эксперимента, стремятся к новаторству, даже если оно оказывается не столь плодотворным, как старые методы. Это относится к Стравинскому или Пикассо. Но Штраус после определенного момента не стремился к новому. Он зачастую довольствовался повторением шаблонов и вместо оркестровых трюков предпочитал музыкальную содержательность. Я не считаю, что все его работы после «Ариадны» не имеют никакой ценности. Среди шелухи то там, то тут проскальзывают блестящие мысли. Но какие пространства песка приходится при этом преодолевать! Любопытно, что его последние произведения – четыре песни и этюд для струнных «Метаморфозы» – наполнены мягким теплым светом вечерней зари. Свет, хотя и отраженный, засиял вновь. И все же закат Штрауса был быстрым, настолько быстрым, что в истории музыки это был уникальный случай. В чем причина такого упадка? Исчерпал ли Штраус свой талант или, как мне кажется, для этого были особые причины? Если биография обязана дать ключ к пониманию Штрауса, значит, на эти вопросы нужно найти ответ. Штраус достоин того, чтобы быть понятым. Он принадлежит к числу тех последних композиторов, любовь к творчеству которых среди любителей музыки все еще жива, а их произведения вновь и вновь звучат в концертных программах и записях. Среди тех, кто творил в последнее десятилетие XIX века и в первые десятилетия XX, наиболее известны Малер, Дебюсси, Пуччини, Барток (чьи лучшие сочинения были написаны позже), Стравинский, в меньшей степени Эльгар, Делиус, Воан Уильямс, Скрябин, ранний Шонберг, Сибелиус. От Рахманинова остались только фортепианные сочинения, но не симфонии. Звезда Малера все еще на взлете – так же как и Бартока, на мой взгляд. Но наиболее любимым среди названных композиторов остается Штраус, чья музыка находит отклик среди широких слоев публики (Пуччини имеет успех лишь среди любителей оперного искусства и к тому же он – композитор XIX столетия) и имеет тенденцию к сохранению популярности.3 Воинствующие модернисты считают музыку Штрауса устаревшей, но в глазах тех, кто подходит к музыке с мирных позиций, это не так.
То, что мы его все еще ценим, – и будем ценить неизвестно сколь долго, – бесспорно объясняется тем, что Штраус – последний из романтиков, последняя фигура праздничного шествия, а не его предводитель. Несмотря на музыкальный язык, который поначалу казался неблагозвучным, несмотря на сюжеты симфонических поэм и опер, казавшихся первое время такими дерзновенными, несмотря на новшества, которые он внес в звучание оркестра, Штраус был романтической фигурой сумерек, а не рассвета. Он впитал богатые традиции XIX века и остался им верен, несмотря на буйство юмора, мелодии и красочности.
Глава 1
Музыкальная жизнь Германии
Рихард Штраус родился в 1864 году в Мюнхене – год спустя после того, как Мане выставил свой «Завтрак на траве» и не только вызвал грандиозный скандал, но и «подвел жирную разделяющую черту под историей живописи со времен Французской революции», как считает Джон Кэнедей в «Основных направлениях современного искусства». Это был год, когда Толстой сделал первые наброски к роману «Война и мир», которому ему предстояло посвятить восемь лет жизни. В этот год роман «Графиня Нинон» принес Золя первый литературный успех, а Чарлз Диккенс опубликовал роман «Наш общий друг».
Незадолго до этого Берлиозу удалось издать часть своей бесформенной оперы «Троянцы». Уже прославившийся Брамс исполнил свои «Вариации на тему Паганини». Лист готовился принять сан аббата, Верди перерабатывал свое раннее сочинение «Макбет», Сметана заканчивал оперу «Проданная невеста», Стефан Фостер умер в нищете в Нью-Йорке, Оффенбах рассчитывал нажить миллионы (во французских франках, по крайней мере), поставив «Прекрасную Елену».
В разгаре была осень романтического периода музыки. За два десятилетия, в которые Штраусу предстояло стать молодым композитором, этой осени суждено было погаснуть, но пока она благоухала и цвела. Весна, предшествующая ей, пришлась на начало века, когда Бетховен и Шуберт создавали великую музыку романтической эпохи, а Беллини, Россини и Вебер – ее сладкозвучные мелодии. К середине века наступило лето, время расцвета романтизма, когда в изобилии творили музыкальные гении, наподобие гениев живописи в эпоху Ренессанса. В промежутке между 1840-м и 1850 годами можно было услышать много новой музыки, музыки Доницетти и Меербера, Берлиоза и Мендельсона, Шопена и Шумана, Вагнера и Верди, Гуно и Глинки, Листа и молодого Иоганна Штрауса-младшего.
Тогда казалось, будто все это богатство никогда не истощится, никогда не померкнет свет, никогда не увянут плоды, никогда не утихнут звуки.
Это была долгая осень, «бабье лето», сменившее продолжительный расцвет. Пока Штраус ходил в школу, на оперной сцене появились «Аида», «Борис Годунов» и «Кармен», а в концертных залах – Четвертая симфония Чайковского и Первая симфония Брамса. В театре звучала музыка «Пер Гюнта» Грига. Всходила слава человека, чьей музыке и мировоззрению суждено было оказать на Штрауса сильнейшее влияние. Сбывались его мечты, претворялись в жизнь величественные планы. За месяц с небольшим до рождения Штрауса Рихард Вагнер оказался на самой низшей ступеньке своей карьеры. Его опера «Тристан и Изольда» так и оставалась непоставленной, и не было никаких надежд, что найдется театр, где можно было бы достойно представить «Кольцо нибелунга». Терпение друзей и издателя иссякло. Вагнер укрылся в отеле Штутгарта. Почти повсюду – в Вене, Майнце, Дрездене, Цюрихе – его поджидали кредиторы. Злоупотребив гостеприимством своих благожелателей, Вагнер не знал, где найти приют. Все его просьбы, как бы ни были они красноречивы и настойчивы, оставались без ответа. Спустя несколько дней после приезда в Штутгарт, когда он был очень озабочен, как оплатить счет в гостинице, ему сообщили, что его желает видеть посетитель из Мюнхена и что он ждет его внизу. Кто бы это мог быть? Наверное, очередной кредитор. Пока Вагнер обдумывал, как ему избежать встречи, гость передал, что он приехал по поручению его величества Людвига II, короля Баварии. Вагнер заподозрил, что это уловка, но все же согласился встретиться утром следующего дня. Ночь он почти не спал, готовясь к неприятностям, которые его, без сомнения, ожидали утром. Посетитель пришел, и этот день оказался для Вагнера спасением. К вечеру он уехал в Мюнхен. За отель он расплатился табакеркой, которую ему подарили в России. А билет на поезд пришлось оплатить его другу.
Король, как поклонник таланта композитора, встретил его с восхищением и обещанием полной финансовой и творческой поддержки. Вагнер-неудачник стал могущественной фигурой.
10 июня следующего года в Мюнхене состоялась премьера «Тристана и Изольды» под управлением Бюлова, которого Вагнер назначил придворным дирижером. Он же два года спустя дирижировал «Лоэнгрином» в новой постановке, а тремя годами позже – на премьере «Мейстерзингеров» в том же Мюнхене.
Королем, возможно, руководили нездоровые чувства. Он мечтал скрыться от управления государством в легенде, уйти от реальности Мюнхена в воображаемые Монтсальватские горы. Его интересы были сконцентрированы больше на герое, чем на музыке. Ему, видимо, хотелось перенестись назад, в эпоху рыцарства. Его больше устраивало балансировать копьем короля Артура, чем сводить баланс баварского бюджета. Каковы бы ни были обстоятельства, Вагнер получил то, что ему было нужно. Его музыка теперь звучала в достойном исполнении. Солнце нового композитора ярче всего сияло над баварской столицей. Некоторым это солнце казалось раздражающим и отталкивающим, другим – горячим и пьянящим. Но равнодушным оно не оставляло никого.
В пропаганде другой, менее спорной музыки красивому городу на берегах Изара также принадлежала активная роль. Причем в исполнении прекрасного оркестра, достигшего высот мастерства под руководством Франца Лахнера, друга Шуберта. Он работал с оркестром с 1836 года. (Ушел в отставку в 1865 году, когда его сменил Бюлов.) Во главе оперного театра стоял Карл фон Перфаль, занявший пост директора в 1867 году. В начале своей деятельности в Мюнхене Перфаль Вагнеру нравился, но позже он стал «шипом на теле Вагнера», а еще позже – препятствием для карьеры Штрауса.
Была ли музыкальная жизнь Мюнхена исключением? Что происходило в других немецких городах? В какой музыкальной среде развивался Штраус? В каком состоянии находилась музыка в Германии шестидесятых годов?
Хотя слово «Германия» вряд ли здесь уместно. Объединение страны произошло позже, и поэтому точнее будет говорить о публике, чьим родным языком был немецкий, но которая жила в разных государствах. Государства и княжества были политически разобщены и часто между собой враждовали. Для этих людей музыка была если не необходимостью, то, по крайней мере, привычно-приятным приложением к жизни, таким же устоявшимся ритуалом, как воскресная прогулка в лесу. Они считали, что имеют незыблемое право на музыку. Если сетование Фауста «в моей груди, увы, живут две души» применимо к каждому человеку, то оно в первую очередь применимо к немцу. Одна душа стремится к четко обозначенному идеалу, прекрасному, эмоциональному – всему, чем обладает музыка, а другая может быть земной, унылой, фанатичной, шовинистической, наглой и часто жестокой.
Немец смешивает нектар с пивом. В нем уживается чрезвычайно раздражающее мещанство с широтой взглядов и восприимчивостью к новому в искусстве. (Сравните, как принимали композиторов-новаторов в Германии, и с какой враждебностью сталкивались французские композиторы, осмеливавшиеся сказать что-то новое.) Как ни парадоксально, но это правда, и особенно применительно к музыке. Музыка для немца – родная стихия. В каком-то смысле, не делая широких обобщений, музыка, и особенно инструментальная, – наиболее близкое немцу искусство, так же, как живопись – итальянцу, а драматургия – англичанину.
Вагнер с этим не соглашался. Его критика состояния немецкой музыки во многом оправданна. Бюргер среднего достатка с кружкой пива в руках ничего не понимал в «истинном искусстве» (под которым Вагнер понимал свое искусство). Ему нужно было лишь поверхностное развлечение, каковым, по мнению Вагнера, была «иностранная» музыка, например музыка Меербера или Россини. Да, действительно, во вкусах преобладал провинциализм. Но когда и где это бывало иначе? Однако, когда Вагнер утверждает, что средние и высшие слои немецкого общества не восприимчивы к искусству, что театры развращены, а вся музыкальная жизнь требует основательного обновления, он судит предвзято. Все было не так уж плохо.
В действительности, как вскоре предстояло убедиться в этом самому Вагнеру, у музыки существовала обширная аудитория, и аудитория восторженная, хотя и с относительно узким диапазоном вкусов, а уровень ее исполнения вовсе не был ужасным. Ведь Мюнхен был не единственным музыкальным городом.
Городом, куда стремились все немецкие музыканты, был Берлин, прусская Мекка. «Мощностью и точностью» Королевского оркестра этого крупнейшего немецкого города еще в 1811 году восхищался Вебер. Семьдесят лет спустя, когда двадцатилетний Штраус впервые оказался в Берлине, он писал отцу: «Оркестр очень хорош, полон огня и энергии, великолепен состав духовых».4 А через четыре года, уже будучи молодым дирижером, Штраус писал: «Филармонический оркестр – самый интеллигентный, совершенный и чуткий из всех знакомых мне оркестров».5
В Берлине было два оперных театра, которые славились если не всегда высокохудожественными постановками, то получаемыми от монарха щедрыми дотациями. Дрезден специализировался на операх. В придворном театре работал Вагнер, премьеры «Риенци», «Летучего голландца» и «Тангейзера» состоялись именно в этом театре. Знаменитый оркестр лейпцигского оперного театра «Гевандхаус» ведет свое начало с XVIII столетия. Во главе его стоял Мендельсон, первый из прославленных дирижеров. В «Гевандхаусе» существовал любопытный обычай: скрипачи и альтисты всегда играли стоя, и только десять лет спустя, когда руководителем оркестра стал Артур Никиш, им разрешили сидеть.6
Музыка исполнялась не только в крупных городах. Децентрализация музыки – характерное явление для Германии. Каждое княжество имело собственный небольшой оркестр. Каждый княжеский двор предусматривал в своем бюджете расходы на содержание оркестра и театра. В большинстве городов оперный театр был одновременно и драматическим театром: в нем ставились пьесы из немецкой классики. Дотации выделялись не только потому, что многие из монархов были достаточно культурными людьми, но также и потому, что это было выгодно в политических целях, или потому, что музыкальная и театральная жизнь отражала блеск двора, а театр был местом, где можно было щегольнуть новым мундиром. Иногда князь увлекался какой-либо актрисой. Как бы то ни было, оркестры и театры были в Риге, Карлсруэ, Брауншвейге, Штутгарте, Франкфурте, Дармштадте, Ганновере, Касселе и других городах. Кроме Берлина, во время своих ранних путешествий молодой Штраус посетил Дрезден, Мейнинген, Гамбург, Франкфурт, Висбаден. И всюду звучала музыка.
По стандартам XX века уровень тех небольших местных оркестров был не очень высок. И все же он вырос по сравнению с началом века, когда, например, Лейпцигский оркестр вызывал всеобщее восхищение лишь умением регулировать обыкновенную громкость звука, выполняя крещендо и диминуэндо. Состав оркестров увеличился по сравнению с тем временем, когда на премьере «Лоэнгрина» (1850) Лист дирижировал оркестром из тридцати восьми исполнителей (и это было в Веймаре, очень просвещенном городе), или с еще более ранним периодом, когда в Дрезденской опере Веберу позволили иметь тридцать пять оркестрантов. Тем не менее в шестидесятых годах составы оркестров были все еще малочисленны и с трудом справлялись с симфонией Бетховена или новаторской музыкой Вагнера. Однако, и это было самое главное, они все-таки справлялись, о чем свидетельствует растущая слава Вагнера и смелость немецких оркестров, которые через два года после премьеры «Мейстерзингеров» в Мюнхене начали исполнять это произведение в Дрездене, Дессау, Карлсруэ, Мейнингене, Веймаре, Ганновере, Лейпциге и Берлине, а также в Вене. Манера исполнения оркестров – насколько можно судить по современным описаниям – была тяжелой. Драматические эпизоды исполнялись особенно тяжеловесно, что выражалось немецким словом «wuchtig». Барабаны грохотали, басы гудели. Адажио было слишком замедленным, претендуя таким образом на передачу чувств. В быстрых эпизодах струнные позволяли себе немного «попиликать», полагая, что отдельные звуки не так важны, как общее впечатление. Тем не менее скрипки звучали мягко; медные, натренированные на маршах, – уверенно; деревянные извлекали нежнейшие звуки, а виолончелисты, пригнув головы, играли вдохновенно. Все это выглядело несколько прямолинейно и тяжело – как немецкая мебель, – пока сторонники изменения стиля исполнения были в меньшинстве. Оркестры играли классику, преимущественно немецкую. Исполнялось также много и современной музыки, в основном мрачной. Шестидесятые и семидесятые годы считаются эпохой Вагнера и Брамса. Но при этом не учитывается, что было много и других композиторов, которые воспринимали себя и воспринимались публикой очень серьезно. Кто сейчас помнит Венделина Вейсхеймера, или Александра Дрейшока, или даже Петера Корнелиуса, или Йозефа Иоахима Раффа, или Йозефа Рейнбергера? Последний был убежденным антивагнерианцем. Вагнер же говорил о нем, что он, наверное, как композитор, лучше его самого, поскольку Рейнбергер педантично сочинял музыку во все будние дни с пяти до шести, в то время как он, Вагнер, творил музыку только тогда, когда у него рождались идеи.
Сочинения Раффа и Людвига Шпора охотно включались в программы концертов. Моцарт исполнялся реже, чем сейчас, а Бах – еще реже, несмотря на усилия Мендельсона возродить его былую славу. Оркестранты служили при дворе, и это обеспечивало им прочность положения и пенсию. Их жалованье зависело от суммы годовой дотации. Иногда какой-либо князь произвольно решал сократить расходы.7 Однако обычно оркестры были неприкосновенны, и музыканты работали до тех пор, пока были в состоянии держать в руках смычок или извлекать звуки из духовых инструментов. Дирижеры выражали недовольство количеством седых бород в оркестре и требовали обновления состава за счет более опытных музыкантов. Но уволить оркестранта было непросто. Музыканты работали много, циркулируя между концертами и театром, где они должны были участвовать не только в оперных спектаклях, но и исполнять ту музыку, которая сопровождала пьесы. Жалованья им хватало лишь на еду и оплату жилья. Даже некоторые капельмейстеры жили скудно. Притом что в Германии жизнь была недорогой, им, тем не менее, приходилось экономить, чтобы сводить концы с концами. Двадцатидвухлетнему Штраусу, уже известному дирижеру и композитору, предложили трехгодичный контракт в Мейнингене с годовым жалованьем в 2000 марок (500 долларов).8
Оркестрам приходилось играть часто, и времени на репетиции оставалось мало. Мы с удивлением читаем, что Бюлов дирижировал «Героической» симфонией в Мейнингене «блестяще», но без репетиций. Штраусу в Веймаре тоже пришлось дирижировать «Мейстерзингерами» без репетиции, потому что ими неожиданно был заменен «Тристан».
Музыку исполняли не только постоянные оркестры и оперные труппы. Наиболее известные оркестры гастролировали. Были и гастролирующие оперные труппы, создававшиеся с целью заработка. Исполнялось также много камерной музыки. В шестидесятых и семидесятых годах пианисты, такие, как Брамс и Клара Шуман, вновь обратились к романтической фортепианной литературе, а Бюлов, наряду с дирижированием, продолжал исполнять сонаты Бетховена так, как до него не играл Бетховена никто. Лист отошел от активной концертной деятельности, но его ученики продолжали его традиции. В их числе были Карл Таузиг, пожалуй самый выдающийся его ученик (который умер в 1871 году, не дожив до тридцати лет), и Софи Ментер, уроженка Мюнхена, чьи «поющие руки» очень хвалил Лист. Из скрипачей сохранилась память о Йозефе Иоахиме, друге Брамса и основателе струнного квартета. Он обладал «необыкновенной техникой» и играл не прибегая ни к каким трюкам, которыми увлекались скрипачи-виртуозы со времен Паганини.
Пока Штраус осваивал профессию дирижера, музыка в Германии претерпевала изменения, которые оказали существенное влияние на представления Штрауса об оркестровой музыке, сказались на его композиторской деятельности, что, в свою очередь, отразилось на возможностях оркестра. Изменения коснулись уровня мастерства оркестра. Теперь предъявлялись совсем другие требования к выразительности звучания оркестра, к виртуозности, легкости, к работе над сольными партиями. Эти требования могли быть осуществлены только с помощью нового поколения дирижеров, далеко ушедших от консервативных капельмейстеров начала века, умевших лишь банально отбивать такт.
Главная роль теперь принадлежала дирижеру-интерпретатору, который вел оркестр за собой, указывая путь взмахами дирижерской палочки. Виртуозом был именно он, и слушатели любили его за это или, по крайней мере, уважали. Именно его личность приобретала важность, обсуждались плюсы и минусы именно его интерпретации. В целом все это было не таким уж достижением, но в конечном счете дало возможность продемонстрировать публике шедевры симфонической музыки в новом свете, а композиторам – писать сочинения, сложность которых еще недавно была непреодолима.
В этом процессе большие заслуги принадлежали Вагнеру, и надо отдать ему должное. Стимулом для Вагнера служили как потребности его собственной музыки, так и идеи, касающиеся принципов дирижирования. Вагнер был эталоном нового дирижера, и вокруг его планеты вскоре зажглись другие звезды. Кроме Бюлова, среди них были Ганс Рихтер, Антон Сейдль и Герман Леви. Вскоре нашлись и другие таланты: Густав Малер, Карл Мук, Феликс Мотль, Артур Никит, Франц Шальк и Феликс Вейнгартнер. Все они были современниками Штрауса.9
Развитию музыки второй половины столетия способствовала также экономическая и политическая обстановка. Для Германии это был период процветания и развития национального самосознания. Рост промышленности в стране хотя и шел медленнее, чем, например, в Великобритании в годы правления королевы Виктории, но все же набирал темп. Бюргеры богатели, а труженики, несмотря на все еще низкую заработную плату, теперь питались лучше и разводили на подоконниках цветы. Это было относительно спокойное время, если не считать двух незначительных войн и одной крупной, но короткой, из которых Германия вышла победительницей.