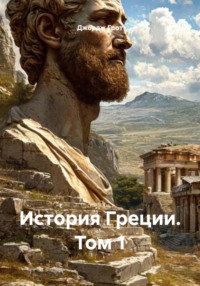Read the book: «История Греции. Том 1»
Первый том «Истории Греции» Джорджа Грота.
Новаторский научный подход: Первый том фундаментального труда Джорджа Грота знаменует собой революционный переворот в историографии Древней Греции. Его ключевой методологический принцип – строгое разделение легендарной и исторической эпох. Грот решительно отвергает романтизированные попытки найти историческую правду в мифах о героях. Вместо этого он предлагает изучать легенды как продукт уникального мировоззрения древних греков, их верований и «исторической веры».
Основное содержание тома: Большая часть первого тома (и всего последующего второго) посвящена подробному анализу легендарного периода греческой истории. Грот не пытается «приподнять завесу» мифа, а, используя знаменитую метафору художника Зевксиса, заявляет: «Завеса и есть картина». Он рассматривает эпические поэмы, в первую очередь «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, как главные источники для понимания нравов, общества и религиозных представлений «героического века». Отдельное внимание уделено активному в то время «Вольфовскому спору» о происхождении гомеровских поэм.
Отправная точка истории: В отличие от своих предшественников, Грот начинает повествование о собственно исторической эпохе лишь с первой засвидетельствованной Олимпиады (776 г. до н. э.). Период до этой даты объявляется недоступным для исторического познания из-за отсутствия достоверных источников. Этот скептический подход стал эталоном для последующих поколений историков.
Цель и значение: Грот подчеркивает, что понимание легендарного периода критически важно для изучения последующей политической истории Греции. Без знания эпических традиций и религиозных представлений многие события и общественные реакции классической эпохи (например, дело об осквернении герм в Афинах) останутся непонятными для читателя.
Целевая аудитория: Том адресован как широкой образованной публике, так и профессиональным историкам. Грот стремится представить не просто хронологическое изложение событий, но всестороннюю картину греческого мира, основанную на строгом критическом анализе источников.
Таким образом, первый том закладывает философские и методологические основы всего грандиозного труда, провозглашая новые, современные стандарты исторического исследования, актуальные и по сей день.
Предисловие
Первая мысль об этой истории возникла много лет назад, в то время, когда древняя Эллада была известна английской публике преимущественно по трудам Митфорда. Моей целью при написании было исправить ошибочные факты, содержащиеся в его работе, а также представить явления греческого мира с более справедливой и всеобъемлющей точки зрения. Однако в то время у меня не было достаточно досуга для осуществления столь масштабного литературного замысла, и лишь в последние три-четыре года я смог посвятить этой работе непрерывный и исключительный труд, без которого, хотя можно осветить отдельные вопросы, невозможно достойно изложить сложную тему для широкой публики.
Между тем состояние английской литературы, касающейся древней Эллады, изменилось в нескольких отношениях. Если бы «История Греции» моего давнего друга доктора Тирлуолла появилась на несколько лет раньше, я, вероятно, никогда не задумал бы эту работу; во всяком случае, я не был бы побужден к ней теми недостатками, которые я ощущал и сожалел у Митфорда. Сравнение этих двух авторов служит ярким доказательством прогресса в понимании древнего мира, достигнутого за последнее поколение. Изучив те же источники, что и доктор Тирлуолл, я лучше других могу свидетельствовать о знаниях, проницательности и беспристрастности, пронизывающих его превосходный труд. И мне тем более важно выразить это мнение, поскольку в дальнейшем мне придется чаще указывать на расхождения с ним, чем на совпадения.
Либеральный дух критики, в котором доктор Тирлуолл столь разительно отличается от Митфорда, принадлежит ему лично; другие же его преимущества разделяет с ним его эпоха. За поколение, прошедшее со времени работы Митфорда, филологические исследования в Германии достигли значительных успехов. Ограниченный набор фактов и документов, дошедших из древнего мира, был осмыслен и истолкован тысячами различных способов. И если мы не можем умножить число свидетелей прошлого, то у нас есть множество толкователей, которые улавливают, повторяют, расширяют и разъясняют их отрывочные и едва слышные показания. Некоторые из лучших авторов в этой области – Бёк, Нибу.
Изложить историю народа, который первым пробудил дремлющие интеллектуальные способности человеческой природы, – эллинские явления как отражение эллинского духа и характера – вот задача, которую я ставлю перед собой в настоящем труде; не без мучительного осознания того, насколько исполнение отстает от замысла, и еще более болезненного убеждения, что полный успех невозможен из-за препятствия, которое никакие человеческие усилия уже не могут устранить, – недостатка первоисточников.
Ибо, несмотря на ценные изыскания многих способных комментаторов, наши знания о древнем мире остаются плачевно неадекватными запросам просвещенного любопытства. Мы располагаем лишь тем, что выброшено на берег после крушения корабля; и хотя среди этого есть драгоценные обломки некогда богатого груза, но если кто-нибудь бросит взгляд на цитаты у Диогена Лаэртского, Афинея или Плутарха, или на список имен в «Vossius de Historicis Græcis», он с горечью и изумлением увидит, как многое безвозвратно утрачено из-за порабощения самих греков, упадка Римской империи, смены религии и нашествия варварских завоевателей.
Таким образом, мы вынуждены судить обо всем эллинском мире, столь многообразном, по немногим сохранившимся сочинениям; превосходным самим по себе, но носящим почти исключительно афинскую печать. О Фукидиде и Аристотеле, как исследователях фактов и людях, свободных от узкоместных предрассудков, невозможно сказать слишком много; но, к несчастью, труд последнего, который дал бы нам обильнейшие сведения о греческой политической жизни – его собрание и сравнение ста пятидесяти различных городских уставов – не сохранился: а краткость Фукидида часто оставляет нам одно слово там, где не хватило бы и предложения, и предложения, которые хотелось бы развернуть в целые абзацы.
Эта недостаточность первоначальных и достоверных материалов в сравнении с теми ресурсами, которые считаются едва достаточными для историка любого современного государства, не может быть ни скрыта, ни смягчена, как бы мы ни сожалели об этом. Я обращаю внимание на этот момент не только потому, что он ограничивает объем сведений, которые историк Греции может сообщить читателям, – вынуждая оставлять значительную часть картины абсолютно пустой, – но и потому, что он сильно портит исполнение оставшегося. Вопрос достоверности постоянно навязывается, требуя решения, которое, благоприятное или нет, всегда влечет за собой спор; и придает тем очертаниям, которые должны быть прямыми и четкими, нерешительный и дрожащий характер. Выражения условного и колеблющегося утверждения повторяются, пока читателю не станет тошно; в то время как сам автор, для которого это ограничение еще мучительнее, часто искушается вырваться из невидимых уз, которыми связывает его добросовестная критика, – возвести возможное и вероятное в достоверное, отбросить противоречащие соображения и заменить полуизвестные и запутанные реальности приятным вымыслом.
Желая в настоящем труде изложить все, что может быть достоверно установлено, наряду с такими догадками и выводами, которые разумно из этого следуют, но не более того, – я заранее отмечаю тот несовершенный характер первоисточников, который делает неизбежными дискуссии о достоверности и колебания в суждениях. Подобные рассуждения, хотя читатель может быть уверен, что они станут реже по мере углубления в лучше известные времена, достаточно утомительны даже применительно к сравнительно позднему периоду, который я избираю в качестве исторического начала; они были бы гораздо невыносимее, если бы я счел своим долгом начать с первобытной эпохи Девкалиона или Инаха, или с неупокоенных пеласгов и лелегов, и подвергнуть героические века подобному же анализу. Я не знаю ничего более обескураживающего и бесплодного, чем тщательное взвешивание так называемых доказательств, – сравнение ничтожных вероятностей и ничем не подтвержденных догадок, – применительно к этим туманным временам и лицам.
Закон о достаточности доказательств должен быть одинаков для древних и новых времен; и читатель найдет в этом труде применение к первым критериев, аналогичных тем, что давно признаны для последних. Приближаясь, хотя и с некоторой снисходительностью, к этому стандарту, я начинаю подлинную историю Греции с первой засвидетельствованной Олимпиады, или 776 года до Р. Х. Тем, кто привык к методам, некогда всеобщим, а ныне еще не совсем изжитым в изучении древнего мира, может показаться, что я вычеркиваю тысячу лет из исторического свитка; но тем, чьи критерии достоверности заимствованы у г-на Аллама, г-на Сисмонди или любого другого знаменитого историка новых событий, я, напротив, покажусь скорее снисходительным и доверчивым, чем строгим или скептичным.
Ибо правда в том, что собственно исторические свидетельства начинаются лишь долго после этой даты: и никто, кто беспристрастно рассмотрит крайнюю скудость удостоверенных фактов на протяжении двух столетий после 776 года до Р. Х., не удивится, узнав, что состояние Греции в 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 годах до Р. Х. и т. д. – или в любом более раннем веке, который угодно будет включить хронологам в свои исчисленные генеалогии, – не может быть описано на сколько-нибудь приемлемом основании.
Я надеюсь, когда дойду до жизнеописаний Сократа и Платона, проиллюстрировать один из ценнейших их принципов – что осознанное и признанное неведение есть лучшее состояние ума, чем мнимая, без реальности, осведомленность. А пока я начинаю с этого признания применительно к действительному миру Греции до Олимпиад; имея в виду, что это отрицание относится ко всякого рода общей истории, – но не исключает строго каждое отдельное событие.
Времена, которые я таким образом отделяю от области истории, различимы лишь благодаря особой атмосфере – атмосфере эпической поэзии и легенд. Смешивать эти совершенно разные вещи, по моему мнению, в корне нефилософски. Я описываю ранние времена сами по себе, такими, какими их представляли вера и чувства первых греков, известные нам только через их предания, – не пытаясь определить, сколько исторической правды в этих легендах. Если читатель упрекнет меня за то, что я не помогаю ему в этом разобраться, если спросит, почему я не приподнимаю завесу, чтобы открыть картину, – я отвечу словами живописца Зевксиса, к которому обратились с тем же вопросом, когда он демонстрировал свой шедевр подражательного искусства:
«Завеса и есть картина».
То, что мы сейчас читаем как поэзию и легенды, некогда было общепринятой историей – единственной подлинной историей, которую первые греки могли себе представить или принять о своем прошлом. Завеса не скрывает ничего, что было бы за ней, и никакими ухищрениями ее нельзя отдернуть. Я лишь пытаюсь показать ее такой, какова она есть, – не стереть и уж тем более не переписать.
Три четверти двух томов, которые я представляю публике, посвящены этой эпохе "исторической веры" в противовес более поздней эпохе "исторического разума". Я стремлюсь показать ее основу в человеческом сознании – повсеместное религиозное и персонифицированное толкование природы; проиллюстрировать это сравнением с подобным складом ума в ранней современной Европе; продемонстрировать невероятное обилие и разнообразие повествовательного материала при малой заботе о согласованности между разными сказаниями; наконец, указать причины, которые заглушили и отчасти вытеснили старый эпический дух, заменив буквальную веру множеством компромиссов и толкований.
Легендарная эпоха греков обретает свое главное очарование и достоинство в гомеровских поэмах. Поэтому целая глава посвящена им, а также другим памятникам древнего эпоса, – и ее объем оправдан уже самими именами «Илиады» и «Одиссеи». Я счел своим долгом затронуть "Вольфовский спор" в его нынешнем состоянии в Германии и даже позволил себе некоторые предположения относительно структуры «Илиады». Общество и нравы героического века, известные нам в общих чертах из описаний и намеков Гомера, также рассмотрены и проанализированы.
Затем я перехожу к "исторической эпохе", начиная с "776 года до н. э.", предварив это замечаниями о географических особенностях Греции. Я пытаюсь выяснить, каково было состояние Греции в этот период, несмотря на скудные и туманные указания, и осторожно предполагаю, опираясь на самые ранние достоверные факты, какие именно предшествующие шаги привели к этому состоянию. В настоящих томах мне удалось охватить только историю Спарты и дорийцев Пелопоннеса вплоть до времен Писистрата и Креза. Я надеялся включить сюда всю историю Греции до этого периода, но объем оказался недостаточным.
История Греции естественным образом делится на шесть частей, из которых первую можно рассматривать как подготовительный период для пяти последующих, исчерпывающих свободную жизнь эллинского мира.
1. "Период с 776 г. до н. э. до 560 г. до н. э." – время прихода к власти Писистрата в Афинах и Креза в Лидии.
2. "От правления Писистрата и Креза до отражения Ксеркса от Греции."
3. "От отражения Ксеркса до окончания Пелопоннесской войны и падения Афин."
4. "От конца Пелопоннесской войны до битвы при Левктрах."
5. "От битвы при Левктрах до битвы при Херонее."
6. "От битвы при Херонее до конца поколения Александра."
Пять периодов, от Писистрата до смерти Александра и его поколения, представляют собой действия исторической драмы, которые можно изложить в четкой последовательности, связанной ощутимой нитью единства. Я вплету в соответствующие места важные, но периферийные события из жизни сицилийских и италийских греков, добавляя, где необходимо, заметки о греческих политических устройствах, философии, поэзии и ораторском искусстве, чтобы показать разностороннюю активность этого народа в течение их короткой, но блистательной истории.
После поколения Александра политическая жизнь Греции становится скованной и приниженной – она больше не интересна читателю и не влияет на судьбы будущего мира. Конечно, можно отметить пару событий, особенно революции Агиса и Клеомена в Спарте, которые поучительны и трогательны, но в целом период между "300 г. до н. э." и поглощением Греции римлянами сам по себе неинтересен и ценен лишь постольку, поскольку помогает понять предшествующие века. С этого времени достоинство и значение греков принадлежит им лишь как "отдельным личностям" – философам, наставникам, астрономам, математикам, литераторам, критикам, врачам и т. д. Во всех этих ипостасях, особенно в великих школах философской мысли, они остаются светочем римского мира, хотя как сообщества уже потеряли свою орбиту и стали спутниками более могущественных соседей.
Я планирую довести историю греческих государств до "300 г. до н. э.", то есть до конца поколения, названного именем Александра Великого, и надеюсь уложиться в восемь томов. Следующие два или три тома уже во многом подготовлены, и третий (а возможно, и четвертый) я опубликую в течение предстоящей зимы.
Публикация одной части истории отдельно от остальных имеет значительные недостатки, ибо ни ранние, ни поздние явления не могут быть полностью поняты без взаимного освещения, которое они дают друг другу. Однако такая практика стала привычной и более чем оправдана общеизвестной невозможностью «долгих надежд» в кратком сроке человеческой жизни.
Тем не менее, я не могу не опасаться, что мои первые два тома пострадают в оценке многих читателей, выйдя в одиночку, – и что люди, ценящие греков за их философию, политику и ораторское искусство, сочтут ранние легенды недостойными внимания. Действительно, сентиментальные черты греческого ума – его религиозное и поэтическое начало – здесь представлены в непропорционально ярком свете по сравнению с его более сильными и мужественными способностями – с теми силами действия, организации, суждения и умозрения, которые раскроются в последующих томах.
Однако я осмелюсь предупредить читателя, что в дальнейшей политической жизни греков встретится множество обстоятельств, которые останутся непонятными, если он не будет посвящён в круг их легендарных представлений. Он не поймёт безумного ужаса афинской публики во время Пелопоннесской войны при известии об увечьях статуй, называемых Гермами, если не проникнется их верой в то, что устойчивость и безопасность государства связаны с обитанием богов на их земле. Равным образом он не сможет в полной мере оценить обычай спартанского царя во время военных походов – когда он совершал ежедневные публичные жертвоприношения за своё войско и свою страну – «всегда проводить эту утреннюю службу до восхода солнца, дабы упредить других в получении милости богов», если не знаком с гомеровским представлением о Зевсе, который засыпает ночью и пробуждается на рассвете, поднимаясь от ложа «белорукой Геры».
Действительно, не раз представится случай отметить, как эти легенды проясняют и оживляют политические явления последующих времён, и мне остаётся лишь подчеркнуть необходимость рассматривать их как начало серии – а не как законченное произведение.
Лондон, 5 марта 1846 г.
Предисловие ко второму изданию томов I и II.
При подготовке второго издания первых двух томов моей «Истории» я воспользовался замечаниями и исправлениями различных критиков, опубликованными в английских и зарубежных рецензиях. Я исключил или исправил некоторые положения, которые были указаны как ошибочные или недостаточно обоснованные. В ряде случаев я усилил аргументацию там, где она, как мне показалось, была не до конца понята, – добавив несколько новых примечаний, частично для более подробного разъяснения, частично для защиты некоторых мнений, которые подвергались сомнению. Большинство этих изменений внесено в главы XVI и XXI Части I, а также в главу VI Части II.
Надеюсь, что эти три главы, наиболее насыщенные рассуждениями и потому более уязвимые для критики, чем остальные, теперь предстанут в более завершённом и удовлетворительном виде. Однако должен сразу добавить, что в основном их содержание осталось неизменным, и я не увидел достаточных оснований для пересмотра своих ключевых выводов, даже касающихся структуры «Илиады», хотя они и были оспорены некоторыми из моих уважаемых критиков.
Что касается характера и особенностей греческих легенд, которые в этих томах чётко отличаются от греческой истории, я хочу отметить два ценных труда, с которыми познакомился уже после выхода первого издания. Первый – «Краткий очерк первобытной истории» Джона Кенрика (Лондон, 1846, опубликован почти одновременно с моими томами), где с глубоким анализом рассматриваются общие черты легенд не только Греции, но и всего древнего мира (см. особенно стр. 65, 84, 92 и далее). Вторая работа – «Прогулки и воспоминания индийского чиновника» полковника Слимана, с которой я познакомился благодаря прекрасной рецензии на мою «Историю» в «Эдинбургском обозрении» за октябрь 1846 года. Описание, данное полковником Слиманом состояния умов, ныне распространённого среди коренного населения Хиндустана, предлагает яркое сравнение, помогающее современному читателю понять и оценить легендарную эпоху Греции. В примечаниях этого второго издания я включил два-три отрывка из поучительного труда Слимана, но вся книга заслуживает внимательного прочтения.
Закончив шесть томов этой «Истории», не дойдя даже до Никиева мира на десятом году Пелопоннесской войны, я вынужден отказаться от обещания, данного в предисловии к первому изданию, что весь труд уместится в восемь томов. Опыт показал мне, как трудно заранее оценить объём, который потребуется для исторических тем. Всё, что я могу теперь пообещать, – это продолжить работу с максимально возможной краткостью, не забывая при этом о главной задаче: сделать её достойной внимания публики.
Лондон, 3 апреля 1849.
Имена богов, богинь и героев
Следуя примеру доктора Тирлуолла и других выдающихся учёных, я называю греческих божеств их подлинными греческими именами, а не латинскими эквивалентами, принятыми у римлян. Для помощи читателям, которым греческие имена могут быть менее знакомы, привожу таблицу соответствий.
Греческое – Латинское
Зевс (Zeus) – Юпитер (Jupiter)
Посейдон (Poseidôn) – Нептун (Neptune)
Арес (Arês) – Марс (Mars)
Дионис (Dionysus) – Бахус (Bacchus)
Гермес (Hermês) – Меркурий (Mercury)
Гелиос (Hêlios) – Сол (Sol)
Гефест (Hêphæstus) – Вулкан (Vulcan)
Аид (Hadês) – Плутон (Pluto)
Гера (Hêrê) – Юнона (Juno)
Афина (Athênê) – Минерва (Minerva)
Артемида (Artemis) – Диана (Diana)
Афродита (Aphroditê) – Венера (Venus)
Эос (Eôs) – Аврора (Aurora)
Гестия (Hestia) – Веста (Vesta)
Лето (Lêtô) – Латона (Latona)
Деметра (Dêmêtêr) – Церера (Ceres)
Геракл (Hêraklês) – Геркулес (Hercules)
Асклепий (Asklêpius) – Эскулап (Æsculapius)
Несколько слов необходимо сказать о правописании греческих имён, принятом в этой таблице и в целом в данной работе. Я старался по возможности ближе передавать греческие буквы, предпочитая их латинским аналогам, и в этом отношении позволил себе нововведение, которое, как я уверен, может быть оправдано перед здравым смыслом любого беспристрастного англоязычного читателя.
Обычай заменять в греческих именах греческую "K" английской "C" настолько очевидно ошибочен, что не поддаётся разумному оправданию. Наша буква "K" в точности соответствует греческой "K" как по звучанию, так и по написанию. Тем не менее, мы безосновательно выбираем неправильную букву вместо правильной. Пример латинян здесь скорее против нас, чем в нашу пользу, ведь их "C" действительно звучало как греческая "K", тогда как наше "C" в таких случаях превращается в "S" (перед *e, i, æ, œ, y*).
Хотя наше "C" значительно отошло от латинского произношения, у нас ещё есть некоторое основание использовать его в латинских именах, поскольку мы сохраняем написание, пусть и не звучание. Однако это не относится к греческим именам: заменяя "K" на "C", мы искажаем не только звучание, но и написание, а также портим несравненную благозвучность греческого языка избытком шипящих, которые и так составляют наименее привлекательную черту английской речи.
Среди немецких филологов "K" теперь повсеместно используется в греческих именах, и я также широко применяю её в этой работе, за исключением тех случаев, когда имя уже настолько укоренилось в английском с "C", что может считаться почти англизированным.
Кроме того, я обозначил долгие "ē" и "ō" (η, ω) циркумфлексом (например, "Герâ (Hêrê)"), когда они стоят в последнем или предпоследнем слоге имени.