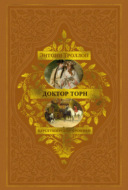Read the book: «BIG TIME: Все время на свете»

Всем моим друзьям
Где б ни были они
Может, получится
Может, и нет
Может, достанется
Может, привет
Может, останешься
Но если уйдешь
Дорога проглотит тебя ни за грош, да-да
Дорога проглотит тебя ни за грош
Джулиан Беримен. Ширь времени(Трек 14, «МАНИФЕСТ МУД*ЗВОНА»)
Jordan Prosser
BIG TIME
Copyright © 2024 by Jordan Prosser
© М. В. Немцов, перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Пролог
В свой последний день в Колумбии Джулиан Беримен убил одного парня. Не местного, и на том спасибо, – даже Джулиан турист не настолько безрассудный. Он не обеспокоился узнать, кем тот был: не рылся у него в карманах, даже не задержался позвать на помощь. Джулиан как раз внимательно разглядывал свой левый глаз во вспученном металлическом зеркальце общественного туалета где-то в центре Медельина, оттягивая себе веко и озирая кровеносные сосудики по всей поверхности роговицы, когда к нему из одной кабинки рыскнул этот тип.
– Ты он, – проскрипел тип.
Джулиан улыбнулся. Ноль внимания. Отвернулся.
– Ты он, – снова сказал человек, тянясь к Джулианову плечу.
Джулиан достаточно времени провел в этой части света и понимал, что такие парни – не слишком уж и редкость. Отбились от остальных ребяток. Бортанула подруга. Перебор кокса, перебор солнца. Родители лишили пособия. Не справился с духотой. По пшеничным волосам и напевности выговора Джулиан прикинул: ирландец.
Отмахнулся от него, пробормотал напускное извинение.
– Не думаю, что я тот, кем вы меня считаете.
– Да тот, еще как, – проворковал человек таким тоном, что Джулиану пришлось зависнуть на миг и убедиться, что они и впрямь с ним не знакомы.
– Выдыхай, – сказал Джулиан, направляясь к двери.
Рука человека твердо упала ему на плечо, и, когда Джулиан обернулся, мучнистое лицо парняги, казалось, как-то потемнело. Обожженные солнцем губы ему обметало засохшей слюной.
– Ты это видел, – промолвил человек, не отпуская. – Видел, что происходит. Я знаю, потому что… я видел, как ты видел.
Через секунду-другую уже он лежал на кафеле, а из пробоя во лбу в сток посередине пола сбегала жидкая розовая кровь. Вот так быстро все может случиться. Скользкие поверхности. Похмельные мозги. Чуть ткнешь, а там и толканешь, и тут же – дыщ. Вот где Джулиану б и притормозить, и пригнуться, и проверить, но нет. Вместо всего этого он ушел, не зная, что с человеком стало. Нашли ль его ребята, отнесли ль в общагу? Зашили ль его в клинике, а потом накатил «Рона Сакапы» – вот и все, как новенький? Вернулся ли он домой из путешествия, подал заявку на туристическую страховку, запилил несколько снимков раны на голове в подтверждение, а много лет спустя сидел ли, скрестив руки и с игривой гримасой, пока дружка излагал эту байку на его свадьбе с той самой девчонкой, с кем он все поставил на паузу сразу перед тем, как отправиться в эту самую поездку столько лет назад?
Нет. Ничего этого делать ему не довелось. Возвращаясь домой после десятичасовой смены, какой-то механик обнаружил его там на закате, кожа похолодела, губы посинели, кровь как живица – темная, густая смола. Policía провела ночь на месте происшествия, опрашивая всех, кто попадется, ничего не выяснила. Человека в черном полихлорвиниловом мешке забрали в местный морг, затем отвезли в ирландское посольство. Увлажняли резиновые печати, совершали телефонные звонки. Много недель спустя – дорогой полет на родину в грузовом отсеке «737»-го, складирован между каяков и клюшек для гольфа, среди зверья, пучеглазого от ужаса. Похороны в родном городке с видом на Кельтское море, затем чай и «Джеймисон» дома у его мамы. Девчонка, с которой он все поставил на паузу ровно перед тем, как уехать, задумчиво смотрела в окно – долго-долго.
* * *
Джулиан добил свой последний кокаин по пути в аэропорт, подскакивая на заднем сиденье такси. Все еще оставалось по крайней мере четверть грамма, сланцеватое вещество вроде перламутра. Он чередовал ноздри, выкапывая из пакетика запасным ключом от пустой материной квартиры, затем вылизывая пакетик и втирая в десны. После чего нервно облизал все до единого песо у себя в бумажнике, вспомнив, что совал купюры себе в нос всего несколько вечеров назад, и воображая, как у ворот на посадку его поджидает армия собак-нюхачей.
Не успел он сложить влажные купюры обратно в бумажник, как пришлось вытаскивать одну и отдавать ее таксисту, который понимающе на него поглядывал в зеркальце заднего вида. Взгляд водилы напомнил Джулиану о девушках, которых он встретил тем вечером, когда срастил себе грамм у знакомого одного знакомого какого-то местного продюсера. Когда он предложил им нюхнуть, одна из местных сказала, что он понятия не имеет, во что кокаин превратил их страну, и в негодовании унеслась прочь. Джулиану стало скверно где-то на минутку – пока не подействовал кокс.
В аэропорту не оказалось никаких собак-нюхачей. Ему махнули, сразу пропуская сквозь очередь на регистрацию. Сонноглазый таможенник проштамповал паспорт вверх тормашками, и вот уж Джулиан сел в самолет. Можно было заложить кокс себе в зад и оставить на потом. До чего ж оно лучше той дряни, которой торгуют дома.
* * *
Стюард Тревор, разместившийся перед эконом-классом, вечно помахивает бархатной шторкой, разделяющей бизнес и эконом, туда-сюда, как тореадор. Пока демонстрируются меры безопасности, Джулиан пялится на багряную жилетку, на блестящую именную бирку с крылышками, на волосы торчком, на розовое раздражение после бритья. С той четвертью грамма у себя внутри Джулиан знает, что немного залипает, а Тревор все время перехватывает его взгляд. Несколько часов спустя, на тридцати девяти тысячах футов Тревор сует на столик-поднос Джулиану крохотный ужин в фольге вместе с запиской, где говорится, чтоб он вышел и встретился с ним дальше по проходу, как только погасят свет.
Джулиан его находит в тамбуре, где экипаж готовит еду, в окружении тех же бархатных шторок. Свет здесь такой синий, что чуть ли не ультрафиолетовый.
– Врубался в Медельин? – спрашивает Тревор с выговором киви1. Гнусаво, как будто сам он из деревни. У такого парня, как Тревор, друзей в его дальней новозеландской глубинке водилось, надо полагать, немного.
Джулиан отвечает:
– Ага, но я везде поездил. Богота, Картахена. Даже в Венесуэлу на чуток завернул.
– Ты австралиец, – замечает Тревор с толикой удивления. – Откуда?
– Мельбурн.
– Фигассе. Выбрался ж. А теперь возвращаешься?
В Сьюдад-Боливаре десятью днями раньше Джулиан получил сообщение от Шкуры, директора своей группы. Там говорилось:
> Пляжи стали платиной (!!), поэтому Лабиринт хочет поскорей новый альбом – младший братец Зандера может подменить на сессиях. если не вернешься вовремя. Как сам?
Первой же мыслью Джулиана было то, что младший братец Зандера – полный мудень, поэтому, нахер, никак не даст он ему подменять себя на новом альбоме. На свои последние он купил билет на первый же доступный рейс – из Медельина в Окленд. В Окленде переждет еще сутки – до какого-нибудь ежемесячного репатриационного рейса военных ФРВА до Мельбурна, где, вероятно, окажется единственной душой на борту.
– Моя группа записывает новый альбом, – как бы между прочим говорит Джулиан, шмыгнув носом.
– Ну круто же, а? – Тревор ухмыляется, не пробалтываясь, что и у него тоже есть виды на славу.
Джулиан опять шмыгает носом, стараясь прочистить мокроту в глубине горла.
– Я определил, что ты еще обдолбан, когда только в самолет садился, – говорит Тревор. – Там дрянь в натуре хороша, а?
– Ага. – Джулиан переминается в одних носках. Оглядывается на проход, опасаясь, не слишком ли чудно́ то, что они здесь слишком долго тусуются.
– Не беспокойся, – говорит Тревор: остальной экипаж спит в своих люльках. Он всегда сам вызывается на кладбищенскую смену, потому что в самолете тогда стоит могильная тишина, все натягивают наглазники и не отказывают себе в эмбиене и травяных снотворных настоях. Ему нравится одновременно улетать и слушать двигатели. Может, и Джулиан был бы не прочь улететь?
Джулиан жмет плечами, как будто ему что так, что эдак. Тревор говорит, у него есть парень, который работает на репатриационных рейсах в Ботании вместе они, возможно, несут личную ответственность за провоз в Южную Америку первого Б – может, даже вообще куда угодно за пределы Австралазии. Тревор сует пальцы в жилетный кармашек и вытаскивает стеклянный пузырек с пипеткой в нем. Вертит пузырек в руке, и жидкость внутри скользит и собирается в лужицу, маслянистая и яркая, радужно переливается, как нефть. Предлагает Джулиану.
Тот говорит:
– После тебя.
Вдруг Тревор щерится Джулиану в его джинсах-трубах и свитере рыхлой вязки, в кожаных фенечках. Это великий миг для матерого сельского мальчишки, которому все еще томительно хочется быть в банде.
Дело такое, Тревор сообразил, что Джулиан вообще даже не в курсе, что такое Б, поэтому прямо сейчас чувствует себя межконтинентальным криминальным авторитетом в сравнении с этим парнем, который зашел в самолет в Медельине с одним лишь гитарным чехлом да холщовой сумкой через плечо. Джулиан сосредоточивается на пятнах пота у Тревора, на его раздражении от бритвы, на его дешевой стрижке «американский ежик» – коротко сзади и с боков, – стараясь прилепиться к его недостаткам, – но, нравится это Джулиану или нет, на следующие несколько минут стюард Тревор становится его наставником.
Он говорит, что поступает дрянь преимущественно с крайнего севера Куксленда – из крохотных городков в буше, из прибрежных общин, где еще работают порты, со старых горных выработок, где не используются взлетные полосы. Говорит, что по месту раздобыть можно вполне задешево, скидка на «покупку местного», что для разнообразия приятно, если учитывать, как эти шарлатаны (словцо Тревора) в Южной Америке и Штатах начиная с 1960-х наценивают поставки кокса в Австралазию типа на 250 процентов.
– Но чего еще ждать от ЦРУ.
А вот за пределами ФРВА – совсем другое дело. Товар бесценный. Редкий, днем с огнем не найти. Пусть даже Б на рынке всего где-то год, Тревор говорит, что целые наркоимперии в Северной и Центральной Америке из кожи вон лезут, лишь бы тот им в лапы попал. Он постоянно употребляет слово прибыльный и при этом облизывает губы, которые, что уж там, выглядят вполне пересохшими. Именно поэтому Тревор и решил начать провозить эту штуку. Высокий риск, высокое вознаграждение. У Тревора грандиозные планы, понимаешь: есть куда поездить, есть чем стать. Кладбищенская смена ему нравится, но ему не хочется работать на ней вечно. Он желает выступать на громадных сценах. Желает сидеть на диванах и опрашиваться ведущими ночных ток-шоу. Желает сделать свой мир намного шире, чем он есть сейчас.
Джулиан знаком с тем типом наркодельца, какой представляет собой Тревор: квадратные субъекты из верхушки среднего класса, не выкурившие и косяка, пока им не стало под тридцать, цепляются за высоты нравственности, пока все остальные вокруг дуют, ширяются и ебутся почем зря все свои годы в универах. Затем наконец однажды поддаются – от скуки, или за компанию, или просто от постепенного и неизбежного ослабления морали, – и выясняется, что на самом деле они намного умней и лучше приспособлены, нежели ваш средний никчемный сбытчик, поэтому неожиданно люди повыше на лестнице предпочитают работать с ними, а не с кем-то еще, и квадраты принимаются карабкаться по этой лестнице. У таких парней функциональные отношения со своими семьями. Эти парни умеют делить в столбик в уме. Они кадровики, классические музыканты, счетоводы, стюарды за сорок в багряных жилетках и «цыц-песиках»2. Джулиан против такого рода сбытчика не возражает, поскольку их запоздало развившаяся надменность скорее означает, что они дают тебе много дряни за так.
– По капле в оба глаза, – говорит Тревор. – Даже если решишь ширнуть больше, количество в обоих глазах должно быть одинаково. Мой парняга из Ботани рассказывал мне о ребятишках на концерте в Бассленде3 – «Ломовые кости», так, кажется? – в общем, ребятки эти решили, что весело будет закапать по пять полных доз себе только в правый глаз, и, когда отошли после своего улета, всем потребовалась микрохирургия, чтобы физически распутать их оптические хиазмы.
Джулиан это осмысляет и только затем спрашивает:
– А сколько нужно времени, чтобы торкнуло?
– В диапазоне от тридцати секунд до пары минут, в зависимости от твоего уровня переносимости, – который в случае Джулиана, бодро отмечает Тревор, равен нулю.
– И как ощущается? – спрашивает Джулиан, внутренне собираясь перед какой-нибудь восторженной экзегезой на тему легендарных переживаний Тревора с Б.
Но вместо этого стюард спрашивает:
– Почему тебе нравится переться?
Джулиан терпеть не может, когда люди употребляют это слово – переться, – но подыгрывает.
– В смысле – вообще?
– Ага.
Джулиан нетерпеливо взирает на пузырек, пока Тревор покручивает его в пальцах, как миниатюрный жезл.
– От этого все становится лучше, – говорит Джулиан. – Сигареты, секс, кофе, музыка, что б ты ни делал. Даже если ты в тот день не делаешь ничего, оно тоже становится лучше.
– И почему так? – спрашивает Тревор.
– Не знаю, чувак.
– Еще как знаешь.
Джулиан скребет щетину и отвечает наобум:
– Помогает отбросить страх. Помогает быть в моменте.
– Именно! – Тревор щелкает пальцами, и Джулиан на мгновение тревожится, что после этого Тревор захочет с ним подружиться. – Твой традиционный улет выявляет искусственное ощущение равноприятия. В некоторых случаях – удовлетворения. В лучшем случае – просветления. Тебе кажется, что все будет в порядке. Но это все равно искусственно. Ты не знаешь, что все будет в порядке. Может, вообще никогда ничего в порядке не будет! Может, ты просто себя обманываешь.
Джулиан жмет плечами.
– Может.
– А если б ты мог знать это наверняка?
– Это как?
Тревор прекращает вертеть пузырек и держит его на весу.
– По одной капле в каждый глаз. Потом тебе надо будет вернуться на свое место. Попробуй дойти туда за тридцать секунд или меньше – просто на всякий случай. Когда торкнет, стоять тебе не захочется.
– А когда торкнет?
– Есть что-то похожее на заурядный наркотик для пёра на вечеринках, – говорит Тревор. – Но с Б все это происходит достаточно рано и выветривается вполне быстро, чтобы уступить место главному событию. Поэтому станешь щеки себе жевать. Случатся горячие и холодные приходы. Мурашки побегут. Начнешь свободно ассоциировать очертания, узоры, числа и образы. Будешь слышать всякое слоями и отыскивать затейливые детали в предметах там, где раньше мог их не замечать. Но именно поэтому так важно принимать это через глаза. Глаза – как скоростная трасса прямо тебе в мозг, а вот другие твои телесные отверстия… просто платные автодороги. – Тревор добавляет, что слышал еще про одну компанию ребяток – они попробовали убомбиться и заправиться кристаллической формой, но результаты оказались смешанными. «Смешанные» в значении «самокалечение и внутреннее кровоизлияние». – Б ширяешься не для того, чтобы плясать и ебстись как чемпион, – говорит Тревор. – Его принимаешь для мозга. Как тунца.
– Как что?
– Тунец, – поясняет Тревор. – Сам знаешь. Пища для мозга.
Джулиан ему сообщает, что не ест рыбу.
Тревор говорит:
– Начальная физическая побочка может настать и закончиться в первые же несколько мгновений перед тем, как все это отступит в мозг. Типа как океан сливается из бухты перед самым цунами.
– А потом что?
– А потом, – говорит Тревор, – само цунами.
Он сообщает Джулиану:
– Ты увидишь за пределами себя. Увидишь за пределами теперь. – Даже на слух не похоже, что он пытается красоваться. – Может, ты даже увидишь всё! – говорит он, а потом смеется, типа «ой, это все так трудно объяснить!»
Пробует еще вот так:
– Представь себе, что время – игла на диаграмме, постоянно движется с постоянной скоростью, выцарапывая историю на нескончаемом рулоне бумаги под ней. Чистая бумага впереди – будущее. Там, где игла уже побывала, – прошлое. А то, где игла в любую данную микросекунду, – это настоящее. Но люди говорят об этих трех вещах – прошлом, настоящем и будущем – так, будто это деление на три равные части, тогда как на самом деле вселенная явно расколота всего на две, а между ними – лишь тончайшая граница. По сравнению с относительными бесконечностями прошлого и будущего настоящее едва ли вообще существует. И оно постоянно движется. Вот именно поэтому теперь так часто проскальзывает незамеченным. Мы строим замки из песка, пока бежим по дорожке тренажера!
Ультрафиолетовая синева разбавляется светом побелей и поспокойней – самолет вплывает в зарю.
Тревор извлекает пипетку из пузырька.
– Б приостанавливает тренажер. Позволяет тебе перескочить вперед. От него теперь делается шире. – Тревор запрокидывает голову и подносит пипетку к глазам, выжимает разок над каждым, затем моргает.
Джулиан спрашивает:
– А что значит это Б?
Тревор улыбается, а глазные яблоки его сияют.
– Будущее. Тю.
Их вдвоем мягко покачивает – это самолет оглаживает воздушную яму. Тревор вставляет пипетку обратно в пузырек и протягивает его.
– Тридцать секунд, – говорит он. – Чтоб наверняка.
Тревор сдает назад сквозь шторки, оставляя Джулиана с пузырьком, где еще больше половины.
– Погоди – ты уверен? – спрашивает Джулиан.
– Там, где я брал, такого навалом. – Тревор подмигивает. – Только убедись, что сбросил его перед таможней. Viaje seguro4.
Джулиан не был большим поклонником людей, эдак вот вправляющих иностранные словечки в разговор, – но Тревор, в конечном счете, оказался не так уж плох. Плюс бесплатная дрянь. Поэтому хрен с ним.
Оставшись один в бархатном тамбуре, Джулиан откидывает голову назад, упираясь в шкафчик в переборке, отталкивается телом, выгибает его дугой и закатывает глаза. Рука его нависает, и на конце пипетки сияет техниколорный сок.
Если иглу на диаграмме, как выразился Тревор, приостановить и расширить прямо там и тогда, у Джулиана всю жизнь заняло бы рассказывать вам и мне все подробности мгновенья сразу перед тем, как он впервые испытал Б: капля разбухала и смягчалась, прорывая предел его фокуса, блестящее преломление дюжины источников мягкого света, рикошетом отражающихся повсюду в ней. Отчего-то даже поверх гула турбин «А390» он слабо слышал тот плеск, с которым она плюхнулась ему на роговицу, словно капля в океан мира где-то позади него.
Затем череп его начинает мерзнуть – не просто голова, а сами кости под нею, – и он думает о том, как редко выпадает ощущать собственные кости. Обычно такое бывает лишь когда они сломаны. Затем Джулиан думает, что ему бы хотелось уметь остановиться и в самом деле оценить это ощущение, если б только он не действовал по столь строгому расписанию. Он закапывает себе в другой глаз. Между ушами его пробивает озноб – холодовая боль – и выносится сквозь основание позвоночника. Челюсти у него стискиваются, пломбы трутся друг о дружку. Кожа на предплечьях становится гусиной и разглаживается. Джулиан уже чувствует крохотную сверхновую в самом центре солнечного сплетения и воображает неумолчно жужжащую печатную плату, которую приводит в действие миллион белых грызунов в миллионе металлических колес для хомячков, они бегут и разворачиваются в идеальной согласованности.
Надо было секундомер включить, думает Джулиан. Он возится с наручными часами, но цифры пляшут перед ним на дисплее. Он впустую тратит время: с его первой ширки прошло уже по крайней мере десять секунд. Он отдергивает в сторону бархатную шторку и пускается в долгое путешествие обратно к месту 46D.
Я сделал хворо этой шторе? Шторам хворо бывает? Джулиана беспокоит эта мысль. Интересно, как будут выглядеть ее внутренности, если ее слишком резко отдернуть и они вывалятся – там окажется еще больше шторы? Через пять шагов по проходу Джулиан встречает мать-честная какое месиво на полу там, где укачалого карапуза стошнило томленым яблоком. Там же вдобавок и одежда: младенческий носок, уж точно самый крошечный носок из всех, какие только есть на Земле, покоится под очень особенным углом рядом с полосой аварийного освещения, бегущей вдоль прохода. Точки света – как сияющие мелки, а этот носочек с его изогнутым локотком, словно человеческая ручка высовывается из колодца полупереваренного яблока и пятностойкого коврового покрытия.
Руки из пола. Каковы следствия этого? Ум его кружит. Этот авиалайнер тащат на буксире к секретному воздушному кладбищу. Он так набит трупаками, что их конечности начали пробивать палубу кабины. Уже пятнадцать секунд. Джулиан думает о пулевых отверстиях, которым десятки лет, – он видел их в кирпичных стенах зданий на окраинах Медельина, истории целых семей, пропавших в ночи. Должны же где-то быть их тела. Люди не исчезают просто так. Ты понятия не имеешь, во что кокаин превратил эту страну.
Осмыслить все это у Джулиана занимает еще одну секунду, а затем еще секунда уходит на то, чтобы осмыслить, что он это осмысляет. Осознание этого осмысления занимает по крайней мере еще две, но к тому времени Джулиан решил, что необходимо проводить такие сложные вычисления прямо на ходу, одновременно, поэтому сосредоточивается на тазовом суставе, колене, бедре, подколенной жиле, на всех значимых нижних арматурах, и ставит одну ногу на пол, затем зеркалит это действие другой стороной, после чего повторяет и повторяет, рывками перемещаясь обратно к своему месту 46D. У него была привычка бронировать себе места у прохода – на тот случай, если в иллюминаторах возникнут трещины, незримые дефекты в волосок толщиной, которые проглядит техконтроль в их жилетах повышенной видимости, и стекла эти будут готовы расколоться в аккурат на нужной высоте и высосать ничего не подозревающих пассажиров в голодный вакуум стратосферы. Но не его. И не сегодня. Джулиан Беримен смеется, а ковер меж тем бережно перемещает тело его вперед, милостивый океан крошечных пальчиков, божественный траволатор, и покуда он влечется, шаркая и корча рожи, сквозь карманы лазурного предсолнечного света размерами в иллюминатор…
* * *
…хотелось бы вам узнать, что происходит с его мозгом? Поспорить могу, что хотелось бы, но наука тут темнит. Мизерные количества вещества, известного как триптолизид глютохрономина, оказались за рубежом и подверглись объективному анализу, но все мировые научные журналы блокируются «АвСетью». Дома же санкционированные правительством исследования выдали предсказуемо туманные результаты. Одна доморощенная информаторша, бывшая служащая НИООР5, которой поручили бегло исследовать наркотик в целях его рутинной классификации, утверждала, что мозговая деятельность, вызванная Б у макак-резус, больше всего напоминала воздействие сейсмического погранично-фатального эпилептического припадка, но деятельность эта почти полностью ограничивалась правым дорсолатеральным участком префронтальной коры – областью мозга, занятой течением времени. На более широкие области фронтальной коры или мозжечка она почти что не распространялась – то есть пока исследовательница не повысила дозу не более чем на 3 процента, и меньше чем через минуту макаки были мертвы, зрачки их набухли, на губах пена. Зная, что официальные каналы – государственные газеты, радиостанции и телевизионные вещатели – отыщут способ похоронить или вывалять в грязи ее находки, информаторша вынуждена была распространять свои изыскания посредством самого презренного средства повстанческой телеграфии: вручную сделанными журнальчиками. Ее очень быстро увезли из квартиры в Дарлингтоне и интернировали в Брокен-Хилле. На следующий день те же самые государственные СМИ объявили, что ученая-«изгой» рьяно злоупотребляла незаконным Б, которое ей выдали для изучения, а вследствие этого впала в перманентный психоз и убила подопытных мартышек голыми руками. «Национальный телеграф» зашел даже так далеко, что предположил, будто сперва она предпринимала попытки домогательства к ним. Выводы из этого делайте какие угодно.
* * *
Как бы то ни было, Джулиану в самом деле следовало бы поставить секундомер. Никто из нас не мог бы сказать, сколько времени в итоге потребовалось ему на поиски места 46D, но где-то между теми первыми каплями Б и мною, рассказывающим вам остаток истории Джулиана, место свое он нашел и уселся на него, ощутил, как гул, жужжанье и бурленье проходят, ощутил, как зубы у него размыкаются и выпускают изжеванные изнутри щеки, почувствовал, как холодный вакуум начинает собираться и конденсироваться не просто у него самого в конечностях, но и с закраин всего остального тоже, со всего, отовсюду – он ощутит, как тот сгущается и рушится изящным медленным движеньем, словно клочок бумаги, сложенный до бесконечности, сложенный снова и снова, вновь и вновь, пока не станет крохотным клочком космического оригами, заткнутым в самую середку его мозга.
Затем: цунами.
В его последние мгновения сознания в потом Джулиан знал, что Тревор был прав: теперь перед ним было шире, нежели было когда бы то ни было, и лишь продолжало расти, словно растяжимая посадочная полоса. Поистине ли Джулиан в тот миг видел всё, как ему это обещал Тревор, я сказать не могу. Сам я не знаю, как выглядит всё, поэтому нет – боюсь, я не могу сказать.
Но что-то Джулиан видел. На самом деле видел он много чего. И теперь давайте я вам расскажу: вот что он видел.
* * *