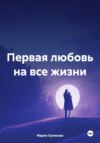Read the book: «Места»


ВМЕСТО ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЯ
Конечно же, без России жить невозможно. Это знает каждый русский, и я тоже на себе это испытал во время недолгого, но поучительного пребывания за рубежом. На своем скромном опыте я испытал судьбу чужака, когда за пределами срока обаятельного дружеского визита начинается обыденная жизнь в чужом тебе окружении, когда бредешь ты по как бы обитым мягкой штофовой тканью очаровательным улицам, смотришь на загорающиеся в раннем зимнем вечернем воздухе приветливые огоньки окон и хочется закричать: лю-у-у-у-дииии! – и нет ответа. Твой крик за пределами их разрешаемости, как будто плачет-страдает таракан какой или муравей хрупкий что-то тщится выкрикнуть. Да кто услышит?
Ясно, что большую роль играет самополагание – кем ты себя мыслишь и полагаешь в этом пространстве и времени, где ты полагаешь дом свой, – от этого зависят твои претензии и ожидания, степень мрачности окружающей ауры и идентификации с ней.
Конечно же, родина – это не березки, не зайчики, не колоски, не белочки, скачущие среди залитых горячим солнцем изумрудных полян, не облака, улетающие на восток к золотому и ласковому Китаю. Это даже не твой дом и не улица, хотя, всякий раз отъезжая от них километров на тридцать, я буквально сейчас же чувствую опять-таки тоску, тоску некую, некую душевную недостаточность.
Что же, что же это такое? Да об этом расскажет вам любой русский. Говорят, что подобное случается и у иноземцев, но, наверное, не такое и не так как-то, попроще как-нибудь, менее интересно и глубоко, что ли. Хотя, конечно, все люди равны и в своих рефлексиях, и в своих переживаниях, независимо от их расовой, национальной, религиозной, трудовой и половой принадлежности. Все равны, но все же у иноземцев это как-то не так происходит.
Вот собака, например, переезжает в другое место – тоже ведь, бывает, далеко, в другие страны, как бы эмигрант. А она все о хозяине плачется, о руке, можно сказать, дающей. Нет, это не по-русски.
Или кошку, например, увозят в другой дом – она тоже по дому тоскует, но тоскует как-то конкретно, здесь и сейчас, а русский человек тоскует наперед, так сразу и навсегда.
То есть он тоскует в месте своего пребывания о месте своего пребывания, но как бы в его чистом, идеальном, недостижимом образе. Тоскует он с точки зрения будущего, вечности, явленной ему как нечто недостаточное в окружении его и не могущее быть ничем восполненным. И переживается это как прирожденное сиротство, актуализирующееся конкретно и даже соматически при пространственных перемещениях. Тяжело, Господи, ох, как тяжело, Господи! Словно пропасть какая, не заваливаемая никакими сластями и радостями, никакими умилениями временными – в общем, ничем. Ужасом и холодом веет оттуда. Русский – изгой в доме своем. Бежит он от этого мраком дышащего хаоса, бежит и натыкается на иноземца, кричит ему, плачется, да тому не понять. Он все о месте да времени, да все тоскует, что от домика своего в Калифорнии удалился на столько-то километров. Иноземец он что? – он существо четырех измерений, держащих его, придающих ему ощущения верности стояния, либо, при перемещении, перемене локуса, говорящих ему о возможном мелком ущербе чувств и ориентировки.
Впереди русского – пропасть, позади – пропасть, по бокам – пропасти! Нету русскому человеку пристанища в этом мире!
И берет русский человек пистолет в руку или какое еще орудие мести самому себе, как существу временному и пространственно униженному, т.е. метафизически беспутному, и уходит на свою родину, вернее – Родину.
Так вот гибнет русский человек за Родину, и нету слаще, как погибнуть за Родину!
1991
Искусство быть другим
Марк Липовецкий
Что бы ни делал Дмитрий Александрович Пригов – сочинял стихи и прозу, кричал кикиморой, пел, участвовал в перформансах, исполнял «мантры русской культуры», писал теоретические статьи и манифесты, – он сохранял сосредоточенность на «поведенческoм уровне» авторской реализации. Для него, как известно, текст является лишь составной частью того, что он называл «проектом Д.А.П.» Однако важно понять, что связи между приговской поэтикой и его художественно выстроенным поведением, между письмом и социальным присутствием (или перформансом повседневности) разворачиваются не на уровне тем, идей или мотивов. А на уровне структур и риторических «грамматик», позволяющих сопрягать разные языки культуры.
В одном из разговоров с журналистом Сергеем Шаповалом Пригов говорил:
У меня было несколько кругов, но лишь с одним я себя идентифицировал полностью по причине совпадения эстетических и жизненных позиций. В других кругах были совпадения жизненных позиций, но эстетические могли быть несовместимы… Я считал тогда, да и сейчас, пожалуй, придерживаюсь того же мнения, что нельзя быть погруженным только в один круг общения – это рискованно. Человек не должен прочно брать что-то двумя руками, потому что может найтись что-то новое, а у него руки заняты. […] Это есть проекция моей эстетической стратегии, которая основана на стремлении не влипать ни в какой текст. В жизни она проводилась во взаимоотношениях с разными кругами. Скажем, нашему кругу водиться с Ахмадулиной было зазорно, а мне нет. И потом, у модели моего поведения была существенная черта: ко мне домой практически никто не ходил, всех навещал я. Я приходил и уходил. Мою роль можно назвать ролью соглядатая.
Запомним этот парадокс: способность переходить со своего языка на языки другого (уважая границы этой «другости») служит, тем не менее, способом воплощения собственной независимости – стратегии «невлипания», культивации дистанции как коммуникативного (и общефилософского) принципа. В этом смысле Пригов прямо следует за Ю.М. Лотманом, который писал в «Структуре художественного текста» (интеллектуальном бестселлере начала 1970-х, с которым Пригов был, несомненно, знаком): «Создавая человеку условную возможность говорить с собой на разных языках, по-разному кодируя свое собственное “я”, искусство помогает человеку решить одну из существеннейших психологических задач – определение своей собственной сущности». С этой точки зрения Пригов был одним из самых ярко выраженных структуралистов. Причем не только в 1970-х; в 1990-х или 2000-х такого «структурализма» в его текстах становится не меньше, а даже значительно больше, чем раньше. Во всяком случае, он становится осознаннее.
Обратим при этом внимание, что для Пригова не текст закрепляет коммуникативные практики автора, а вовсе наоборот – практики социальной коммуникации вырастают из экспериментов с сочетанием различных культурных языков. Пригов подчеркивает:
Мне очень помогла работа с разными литературными языками и дискурсами. Она, по счастью, совпала с развитием моей внутренней психологической структуры. Я преодолел внешние проявления застенчивости, легко стал находить общий язык с разными людьми. Я никогда не форсировал тех тем, которые в данном пространстве неразрешимы, не лез со своими претензиями и доказательствами, что все присутствующие – идиоты и суки. Мне интересны люди, их поведение, структура мышления. Я легко впадаю в разговор, не пропадая в нем, в нужный момент я могу перейти на другой язык. Мне интересен этот процесс.
Для Пригова вообще принципиально существование не в одном, а по крайней мере в двух языках – по Лотману, это механизм организации художественного текста, – однако Пригов придает ему значение общефилософской стратегии. В приведенной цитате речь идет о поведенческом (перформативном) воплощении того принципа, который объединяет тексты, собранные в этом томе, – а именно специально культивируемой Приговым эстетики выходов за пределы «своего круга» и своего языка, его почти обсессивного стремления осваивать, а часто и изобретать языки другого, превращая их в пространства «другости» и формируя на этой зыбкой почве некую метафизику языковых реальностей.
Разумеется, этот принцип применим ко всему творчеству Пригова, однако в этом томе читатель найдет, может быть, наиболее очевидные его воплощения. Здесь категории «всеобщего» и универсального методически подвергается сомнению (разделы «На глазах у всей вселенной» и «Пригодные места»). Попытки описать «свое» («Русское» и «Беляево») выявляют сосуществование множества языков. А попытки освоить «другое» и экзотическое постепенно становятся неотличимы от автопортретов («Лондонское», «Западное, «Восточное», «Параллельные пространства», повесть «Только моя Япония»). Казалось бы, сугубо формальные игры с языком («Территория языка», «Азбуки») в этом контексте приобретают роль «математики», порождающей многочисленные «формулы» структурных композиций и метаморфоз «своего» и «другого». Аналогичные метаописания диалектики «своего» и «другого» разворачиваются в текстах Пригова, объединенных обращением к Пушкину, а также в его пьесах (раздел «Пространство сцены»).
ОБЩИЕ МЕСТА
Пригов любит писать на «вечные темы». Но только для того, чтобы «не выдержать» тон, сбиться на что-то неподходящее, если не откровенно смешное. Скажем, в ранних стихах под названием «Евангельские заклинания» (1975) смешного ничего нет, но смещена модальность – и повторение фраз, «описывающих» Голгофу, превращается в заклинание, то есть наделяется перформативным смыслом:
Отец мой прошу убери или мимо пронеси эту чашу
Прошу убери или мимо пронеси эту чашу
Убери или мимо пронеси эту чашу
Мимо пронеси эту чашу
Пронеси эту чашу
Эту чашу
Чашу
Каноническая сцена постепенно превращается в словесно выраженное радение, долженствующее воплотить «вечный» сакральный смысл, но вместо этого переносящий сакральность на сам процесс чтения-исполнения:
Ангел на кры-ы-ы-лах
Мария на сту-у-уле
Ангел в две-ее-ри
Мария в смяте-ее-нье
Ангел с ве-ее-стью
Мария с чре-ее-вом
Ангел для не-ее-ба
Мария для на-аа-с
Зачем нужен этот сбой? Чтобы «присвоить» набор универсальных символов сакрального? Да, наверное. Но то же самое можно сказать и о «Реквиеме» Ахматовой, и о стихах из романа Пастернака. В отличие от этих классиков модернизма Пригов преследует более радикальную цель: разрушить вечность, превратив ее в символы в источник игры – пока что вполне почтительной, но лиха беда начало.
Больше чем через двадцать лет, в цикле «Всеобщее (интернациональное)» (1997) Пригов напишет: «Интернационального как такового, в чистоте, не может быть. Но может быть желание, стремление абсорбировать некий экстракт некой культуры и предложить его к потреблению как всеобщего и ничейного по причине ожидаемой и предполагаемой его совместимости с чем угодно иным». Вслед за этой декларацией следует абсурдистский текст-кричалка.
Очень трудно быть красивым
На глазах у всей вселенной
В этом случье быть красивым
Значит быть той всей вселенной
Да, но и не быть красивым
Значит тоже быть вселенной
Это значит быть красивым
В стороне от всей вселенной
Иначе говоря, всеобщность, она же универсальность, она же вечность, – оказывается эквивалентна ничейному, давно стершемуся смыслу. Именно поэтому «вечное» совместимо с «чем угодно иным». Именно поэтому «быть той всей вселенной» не значит практически ничего конкретного.
Уже в более раннем цикле «Изучение темы народа» (1976) Пригов вплотную приближается к этой интерпретации, разрабатывая такую монументальную категорию советского языка, как «народ». Современный читатель может не помнить, что в 1970-х годах эта категория принадлежала не только советскому дискурсу. О страданиях народа писал Солженицын, на народ возлагали надежды деревенщики и даже некоторые диссиденты. Таким образом, «народ» (то в марксистской, то в либеральной, то в националистической интерпретации) рисовался как «представитель вечности» в социальном мире.
Пригов не оставляет от этой иллюзии камня на камне, рисуя народ – так же как и «вечность» – как нечто неопределимое и, по существу, бессмысленное:
Народ он делится на не народ
И на народ в буквальном смысле
Кто не народ – не то чтобы урод
Но он ублюдок в высшем смысле
А кто народ – не то чтобы народ
Но он народа выраженье
Что не укажешь точно – вот народ
Но скажешь точно: есть народ. И точка
И далее:
Мы на народной ниве таем
А сам народ? – чья нива сья
Ему всегда так не хватает
Объективации себя
И потому ему всегда
Враги нужны для этой цели
Так будем ж нужной панацеей
А против общего врага
И мы народом встанем целым
Как видим, неопределимость и бессмысленность «вечной» категории народа компенсируется изобретением фигуры врага – фигуры «другого», вокруг которой и кристаллизуется миф о народе. Ход этот становится особенно важен в силу того обстоятельства, что начиная примерно с 1974 года Пригов вступает в, условно говоря, соц-артистский период, отмеченный созданием стихов, написанных «с точки зрения народа». Или же: с точки зрения отсутствия – языка, позиции, места, – привязанной только к фигуре «другого»: иностранца, идеологического врага, преступника. Вот почему центральной фигурой приговского соц-арта становится Милицанер, само существование которого определяется наличием врагов. А любимый враг – разумеется, «мериканский президент»:
Что же нас Рейган так мучит
Жить не дает нам и спать
Сгинь же ты, пидер вонючий
И мериканская блядь
Вот он в коросте и в кале
В гное, в крови и парше
Что же иного-то же
Вы от него ожидали
(Трудно удержаться от замечания о том, насколько эти модели оказались живучи: разве что Милицанер заменился в XXI веке на эфэсбэшника, а Рейган – на Обаму, украсившись расистскими подвываниями.)
Разматывая этот способ «народного самоопределения», а точнее, изучая механизм «вечности», Пригов пишет стихи, которые иначе как чудовищными не назовешь. К примеру:
Они так верно нам служили
Китайцы желтокожие
И несмотря мы с ньми дружили
На то что желтокожие
Теперь они все Мао служат
Китайцы желтокожие
И с нами яростно не дружат
Видать что желтокожие
Не будут снова нам служить
Китайцы желтокожие
И будем снова с ньми дружить
Пускай что желтокожие
Само собой, «народная точка зрения», оборачивающаяся в этих стихах самым искренним расизмом в сочетании с имперским высокомерием по отношению к «предательской» колонии, не совпадает с точкой зрения автора – что маркировано по меньшей мере языковыми сбоями и неправильностями. Пригов в том же цикле «Из девяностошестикопеечной тетради» (1976) спокойно доводит логику ксенофобии до конца – им, естественно, становится каннибализм:
О, мясо сладкое сограждан дорогих
Оно вкусней германцев недешевых
И мериканцев двутридорогих
И негритянцев уж для всех дешевых
Такая наша строгая страна
Себя вкусила памятно она
Как и не снилось ни одной стране
И не проснулась – значит не во сне
Вместе с тем конструирование врага понимается приговским субъектом как символическое занятие, снимающее противопоставление социума и природы и вписывающее «нас» – в ту же самую, тотально обессмысливающую вечность:
Когда твой враг к тебе приходит
Так и скажи ему: Мой враг
И вы почувствуете вдруг
Такую ясность в обиходе
Твой враг – он птица вороная
А ты – ты тоже, тоже птица
Под вами древняя столица
Вы бьетесь в небе – не на земле же
«ИЗУЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СЕБЯ»
Привычно читать тексты Пригова 1970—1980-х годов как насмешливую деконструкцию советского идеологического языка, тоже, кстати говоря, вещавшего «с точки зрения народа». Однако стоит задаться вопросом: детально разработанная Приговым логика пустоты и отсутствия, действительно ли она только советская? Или, может быть, – русская? Ведь камлает же Пригов (в духе прокурора из «Братьев Карамазовых») о русском человеке, который
«тоскует в месте своего пребывания о месте своего пребывания, но как бы в его чистом, идеальном, недостижимом образе. Тоскует он с точки зрения будущего, вечности, явленной ему как нечто недостаточное в окружении его и не могущее быть ничем восполненным. И переживается это как прирожденное сиротство, актуализирующееся конкретно и даже соматически при пространственных перемещениях. …Русский – изгой в доме своем. … Впереди русского – пропасть, позади – пропасть, по бокам – пропасти! Нету русскому человеку пристанища в этом мире! И берет русский человек пистолет в руку, или какое еще орудие мести самому себе, как существу временному и пространственно униженному, т.е. метафизически беспутному, и уходит на свою родину, вернее – Родину. Так вот гибнет русский человек за Родину, и нету слаще, как погибнуть за Родину!»
Нельзя не отметить дату текста «Что русскому здорово, то ему и смерть», из которого взята эта пространная цитата, – 1991 год. К этому времени Пригов, как и другие нонконформисты, выходит из андеграунда и начинает со все возрастающей интенсивностью путешествовать по белу свету. Не потому ли уже в 1995 году он пишет текст «Стратификации» (из него впоследствии вырастет целая книга «Уравнения и установления», 2001), в котором черты разных народов будут обсуждаться как «национальные особенности» пустоты. Выходит, то, что воспринималось как советское или русское, оказывается вполне универсальной (т.е. бессмысленной) характеристикой:
«Датчане смеются как люди, и если их принять за 1, то англичан можно обозначить как 0,9, французов – как 0,8, швейцарцев немецкоговорящих – как 0,6, немцев – как 0,2, итальянцев же опять как 0,85, русские могут понять на 0,5, а китайцы уже 1,2, демоны их –8, демоны остальные – 5, вампиры, оборотни, сосуны и вонючки – 2. Про ангелов не говорится. Святые, наверное, где-то на абсолютном нуле, но в иной классификации».
А в 1997-м Пригов уже создает квазимистические заклинания, выражающие «дух народа», и объясняет это так:
«После появления первого опуса “Китайское” подумалось, если на представляемой линии расплывающихся и сливающихся точек, перебирая все возможные национальные типы (уподобленные, в нашем случае, точкам) в их восклицательно-динамическом объявлении, выявляющем некие глубинные магическо-мантрическо-заклинательные способы овладения миром и человеком, так вот, если мы прибавим несколько, 2—3, этих как бы точек, то мы уже зададим направление, модусы, необходимые и достаточные для различения степени разнообразия, так что любой перебор иных (просто даже бесчисленных) будет простым, хотя и честным, заполнением некой как бы уже очерченной и предпосланной таблицы как бы Менделеева» («Предуведомление к циклу “Русское”», 1997).
«Изучение признаков себя» оказывается симметричным «изучению признаков народа», потому что «я», стоящий на «народной точке зрения», обнаруживает точно такой же набор взаимоотрицающих признаков: «Вот ты одет. Все хорошо. Но голый / Так любопытно-нежно смотришь на себя / Почти что с дрожею иного пола/ Полженщиною смотришь на себя». Отсюда подобие безличного «я» и неопределенного «мы» – их объединяет равенство на почве безъязычия:
Но я вам говорю: скупой словарь
Приличествует смертному народу
И всяку предстоятелю народну
Приличествует выжженный словарь
Пригов идет еще дальше:
«Человек воспитывается и проводится через ряд экспериментов и процедур так, что в результате он оказывается проекцией и даже реальной презентацией, и больше – воплощением планеты с ее членениями на страны, нации и государства, вплоть до таких мелких деталей, как отдельные дома. Так что внедрение простой иглы в точку за ухом может привести к погибели Франции, скажем, а то и целого Уральского региона и т.п. Продолжение проекта может привести к воспитанию человека, равномощного Вселенной, и способности через него внедряться в нее и управлять ею»
(«Иглоукалывание», 1997)
Источник этого мотива обнаруживается гораздо раньше – в начале 1980-х. Например, в таком тексте:
Только поутру проснусь
Как у правого колена
Рим, Сорбонна и Равенна
А у левого – союз
Ну, конечно, не советский
Да и не антисоветский
Да и вовсе не союз
А скорей из прочих стран
Прогрессивных или божьих
Там Лаос или Камбоджа
Там Ирак или Иран
А подошвы щекотая
Кто-то там из стран восточных
Что-то вроде там Китая
Шевелится, а вот ночью
Уж и вовсе шевелится
Страшно даже и сказать
Вавилонцы, ассирийцы
Что там? кто там? – твою мать!
Тьму густую поднимают
И куда-то там идут
То как будто пропадают
Что-то под полом грызут
Шепот, ропот, писк сплошной
(«Большое антропоморфное описание в 109 строк», 1982)
Еще более комедийно воплощается советская или русская «равномощность Вселенной» в известном стихотворении из цикла «Искусство принадлежать народу» (1983):
Я выпью бразильского кофе
Голландскую курицу съем
И вымоюсь польским шампунем
И стану интернацьонал
И выйду на улицы Праги
И в Тихий влечу океан
И братия станут все люди
И Господи-Боже, прости
Судя по этими описаниям, «я» равное «народу» поглощает все, что претендует на роль «другого». Не только мое тело, но и «мой» язык в итоге состоят из множества заимствований, по сути дела, являясь макароническим текстом:
Любовь (пишу я по-французски)
Обладает (пишу я опять по-французски)
Свойствами (пишу я на латыни)
И завершаю почему-то по-русски: Блядства
(«Различное письмо», 1997)
Дискредитация «вечности» и таких ее социальных эквивалентов, как «народ» и «нация», приводит Пригова к новой языковой концепции, которую он разрабатывает начиная с середины 1990-х годов, хотя ее истоки и обнаруживаются значительно раньше. Эта концепция выворачивает наизнанку изобретенную Достоевским на примере Пушкина «всемирную отзывчивость» русской души. У Достоевского «всемирная отзывчивость» свидетельствует о мессианской роли русского народа и представляет модель имперского превосходства, основанного на всепонимании, всепроникновении и всепоглощении «другого».
У Пригова как раз наоборот: во-первых, он в себе самом обнаруживает уже готовые черты, которые можно при желании определить как «другие», поэтому домом для его поэтического субъекта может оказаться и московский район Беляево, и Лондон, и Германия, а чужбиной – Россия. Во-вторых, ничего иного – т.е. своего – он в себе не находит; все «свое» оказывается либо всеобщим (т.е. банально-бессмысленным), либо «чужим» (т.е. цитатно-апроприированным). В стихах об этом, конечно, сказано лучше:
Заражен бациллой модернизма
Чтоб разрушить – я вокруг гляжу
От христьянства до социализма
Чтоб разрушить, все внутри ношу
А пока ношу – то забываю
Что разрушить собственно хотел
Уж не разделяю наших тел —
Все свое люблю и обожаю
В-третьих (хотя этот тезис может показаться противоречащим первым двум предыдущим), он неизменно демонстрирует сконструированный характер тех или иных образов «другого». Таким образом, именно конструкция «другого», то, как воображается «другое», и является единственным, более-менее осязаемым воплощением «своего» – именно эти конструкции Пригов исследует на протяжении всего своего творчества. Таким образом, в Пригове мы находим поразительно последовательного разрушителя эссенциалистских представлений об «этносах», «нациях», замкнутых «цивилизациях». Причем, конечно, он добивается этого эффекта, как всегда, предельно утрируя и доводя до саморазоблачительного абсурда именно те идеи, которые вызывают у него максимальное неприятие.
В этом смысле приговская модель «всемирной отзывчивости» не только предполагает конфронтацию с Пушкиным (см. ниже о «Пушкинских местах»), но и полемически гипертрофирует именно те аспекты русской культуры, которые питают национализм и позволяют выдавать имперские комплексы за доказательства духовного превосходства России над всем миром.
«Я ДВУГЛАВЫМ ОРЛОМ ОБЕРНУСЯ»
Пригов настойчиво не противопоставляет Россию западной культуре, многократно подчеркивая, что Россия является «только и исключительно Востоком Запада» («Тысячелетье на дворе»), что, впрочем, не исключает специфики русской культурной динамики. Попробуем суммировать взгляды Пригова на эту динамику – в том виде, в котором они были сформулированы в 1990-х и в 2000-х.
По его мнению, постоянной стратегией российских элит является «сознательная архаизация культуры и выстраивание ее по некоему подобию просвещенческо-аристократической модели старого образца». Для российской культуры поэтому характерны литературоцентризм и магическая, сакральная роль писателя, особенно поэта. Отсюда и особые функции интеллигенции, и совмещение в писателе «функций учителя, пророка, судьи, и более мелких – философа, публициста, просветителя». Эти функции, конечно, характерны для того, что Пригов называет Просвещенческим проектом, который в Европе, по его мнению, был окончательно дискредитирован итогами Второй мировой войны, – здесь можно увидеть отголосок идей, высказанных в книге Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно «Диалектика Просвещения» (1944). «Однако же в Советском Союзе, – пишет Пригов, – эти итоги были, наоборот восприняты как торжество Возрожденческого проекта» («Завершение четырех проектов»), который при этом наложился на законсервированную Просвещенческую модель.
Отсюда в стихах Пригова постоянное изображение России как пространства, в котором современность и архаика мирно сосуществуют, порождая, впрочем, вполне сюрреалистические эффекты:
Я помню осенью начальной
Едва замеченный приход
Когда на речке пароход
Вдруг вскинулся, ему печально
Подняв единственный свой рог
В лесу живой единорог
Ответствовал
(«Моя Россия», 1990)
При этом России, как считал Пригов, свойственно чередование периодов изоляции и «догоняющей модернизации» («Тысячелетье на дворе»). В периоды «догоняющей модернизации» целый ряд пропущенных в годы изоляции исторических инноваций являются сразу – в готовом виде, как «нечто целое с доминирующими интеграционными признаками». Такой способ освоения инноваций вызывает в русской культуре стабильный «прото-постмодернистский эффект»:
…ничего из возникавшего в социокультурной перспективе не уходило в историческую перспективу и длилось в своей неизменной актуальности. То есть когда одинаково горючей слезой оплакивали и кончину, к примеру, только что отошедшей матери, и смерть безвременно ушедшего полтора века назад А.С. Пушкина. Именно постоянное передвижение, мелькание, мерцание между этими многочисленными вечно актуальными культурно-историческими пластами и породили специфику русского культурного сознания… Эдакое наше прото-постмодернистское сознание («Третье переписывание мира»).
Или же о перестроечном периоде:
диахронный… процесс изменений в мировой культуре у нас объявился периодом синхронного, параллельного освоения, обживания и пластифицирования к местным условиям всех направлений и стилей. То, что на Западе заняло 100 лет, в СССР прошло за 10 («Как вас теперь называть»).
В то же время так называемая «русская идея», в сущности, тождественна, во-первых, новой версии изоляционизма, а во-вторых, строится на отождествлении модернизации с очередным апокалипсисом. Национализм и мессианство, таким образом, вспухают как попытки оградиться от драматичных глобальных процессов.
Несть эллина и иудея
И там еще кого-то несть
А русский – он всегда ведь есть
Поскольку русская идея
Жива и всякий раз в горсти
Себе вот русского растит
Неизбывного
Пригов поддерживает мысль о том, что Россия выпала из «западного культурного времени и процесса» после Второй мировой войны, когда «тип социокультурного мышления и идеалов на Западе приобрели резко персоналистический крен – возникли утопия и проект свободной от социума личности, а в России по-прежнему господствовала утопия больших объединяющих просвещенческих идей». С этого момента, по его убеждению, «мир живет в историческом времени. Россия же – в природном, которое предполагает не последовательное развитие событий, а цикличное…». Однако Пригов комедийно демонстрирует в таких циклах, как «Песни советских деревень» (1991), «Квазибарачная поэзия» (1993), «Светлой памяти крестьянских поэтов» (1998), что ни «русская архаика», ни «русский путь» не предполагают никакой «онтологической» реальности, а являются чисто языковыми, дискурсивно-стилистическими конструктами. Пригов, разумеется, не был бы Приговым, если бы не написал – в качестве гротескной иллюстрации – и цикл «Русский народ» (2003), обнаруживающий следы продавливания русского в природу – русские «отпечатки на природном, досоциальном, докультурном».
Отвечая на вопрос Сергея Шаповала о позитивном будущем для России, Пригов отвечает:
«Нужно, чтобы как можно быстрее Россия регионализировалась, распалась на мелкие кусочки, которые бы жили своими частными интересами…».
О том же он пишет в цикле «Умный федерализм» (1999):
На конференции какой-нибудь собраться
Потолковать, а после вспомнить: – Братцы!
А помните, как жили мы одной
Великою огромною семьей
Совсем недавно!
А что бы нам опять объединиться —
По-старомодному вдруг оживятся лица
Вот это здорово! И не разлей водой! —
Но тут заметит скептик молодой
Из Второй Средне-Российской Республики:
И что ж? – по питерским законам жить
Где и бумажки на асфальт не уронить?
Иль по-московски? – сибиряк заметит —
Наркотики вот разрешим и эти
Всякие! —
И долгое молчание повиснет —
Так, значит, по инвестициям и таможным льготам
Завтра
С утра
Секция —
И разойдутся
[…]
Сижу в пивной за кружкой пива
И вижу пред собою воочью
Тринадцать умных и красивых
Не грандиозных и не очень
Навязчивых
Амбициозных не очень
Россий
Они плывут перед глазами
Уходят, тают – но за нами
Будущее! —
Шепчут
Исчезая
В сущности, перед нами приговская утопия (сопоставимая с его утопией новой антропологии). Именно в таком сценарии он видит возможность разрешения тупиков русского культурно-политического самосознания:
…как мне представляется, можно только в пределах новых территориально-государственных образований (с резко ослабленной огромно-государственной составляющей) запустить процесс воспитания нового человека со сложно-структурированной системой сбалансированных самоидентификаций: семейной, местной, религиозной, профессиональной, групповой, культурной, национальной, государственной. …Не так-то просто в этой сбалансированной системе создать образ врага, например, в отличие от перенапряженной ситуации единственной и пафосной самоидентификации по одному доминирующему признаку – государственному ли, религиозному, политическому.
Именно преодоление культурных конвенций, связанных с великой Россией (т.е. империей), по мысли Пригова, служит условием возвращения в историю.
Именно в духе «умного федерализма» Пригов создает полуфарсовый культ Беляево, московского спального района (как утверждает энтузиаст Беляево и Пригова Куба Снопек, первого спального района в Европе), где он жил с 1965 года и до конца жизни. Себя Пригов воображал «герцогом Беляевско-Богородским со всеми вытекающими из этого политическими и социальными последствиями, с признанием полного и неделимого суверенитета нашей славной земли Беляево». Отношения с Москвой как особой галактикой составляют отдельную тему приговского творчества – ей посвящен том «Москва».