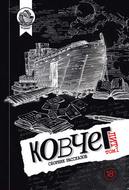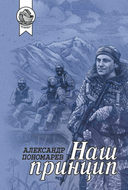Read the book: «Маджара»

Маджара

Когда она родилась, бомбили Белград, это был самый последний год прошлого века. Накануне мы смотрели новости, а ночью маму увезли, я спал и ничего не слышал. Девчонка выскочила на разбомбленный свет так быстро, что врачи едва успели ее подхватить. Быстрые роды. Мама боялась, что родит в «скорой помощи», приехала пара мальчишек в белых халатах, которые боялись этого пуще нее. Валентин сидел в машине рядом с ней, молчал и молился про себя, он-то боялся больше всех троих вместе взятых. Хорошо, что была ночь, водитель «скорой» гнал, как Шумахер, – и они успели. Но прежде чем отправить маму наверх, в родильное отделение, дежурный врач принялся заполнять личное дело роженицы, и мама сидела как на иголках, вернее, полулежала на стуле, сжав ноги, этой девчонке не терпелось выскочить и осмотреться. Не успела мама расположиться на родильном кресле, как девчонку вынесло на околоземную орбиту. Маму вывезли на каталке в коридор, а девочку принесли и положили, голую, ей на живот. Мама подумала, что это что-то новенькое, ведь меня в роддоме ей принесли замотанного в нечто твердое со спины, как жука, она только дома убедилась, что я никакой не жук с головой младенца, а настоящий младенец с ручками и ножками, все как положено. Эта девчонка орала не переставая; поглядев в ее красное сморщенное личико с крючковатым носом, мама вздохнула, нос ей явно достался от одной из двух длинноносых бабок. Бедняжка обещала стать уродиной, только этого не хватало, расстроилась мама, но утешила себя тем, что зато орет она, как очень здоровый ребенок. Наутро, увидев лицо младенца, не искаженное гримасой плача, мама удивилась – девчонка в состоянии покоя оказалась прехорошенькой: нос был вполне коротким, правда, глаза были узкими и раскосыми, как у каменной скифской бабы, но зато лицо скифской девочки украшали черные брови, а бровей, каких бы то ни было, не имелось ни у одного из пяти младенцев, которых приносили в эту палату. У новорожденных, которых приносили в соседние палаты, как мама убедилась позднее, бровей тоже не было. Оказалось, что безбровые младенцы – правило, а наша стала исключением.
Через два дня мы с Валентином забрали маму с бровастым младенцем домой – по этому случаю я не пошел в школу, и мне, как и всем, налили шампанского.
Со временем благодаря сестре я стал свободным. Вечером – я учился во вторую смену – меня уже не встречали, задержка после занятий на двадцать минут перестала считаться преступлением против семьи; иногда мне приходилось присматривать за Виринеей, – Валентин решил дать ребенку это имя, которое не нравилось маме, – но, в общем и целом, я теперь вполне был предоставлен сам себе. После очередных летних каникул меня отправили в городскую школу, маме казалось, что там я получу настоящее образование, я согласился перейти в новую школу, потому что Она тоже перешла туда, мы опять были в одном классе, я думал, что все будет, как раньше, как там, в нашей маленькой школе в горах.
В этой школе в две смены училось больше двух тысяч человек, и на переменках в коридорах я каждый день видел не одни и те же, а все новые, мелькавшие мимо и мимо, лица. Впрочем, я и не старался их запомнить. Меня интересовало только одно лицо, которое я знал гораздо лучше, чем свое. От топота тысяч ног школьные стекла мелко дребезжали, с подоконников падали горшки с цветами, из шкафов валились наглядные пособия, старая карта мира – на ней еще были Советский Союз, ГДР и Югославия – упала со стены, и след чьего-то грязного ботинка, никак не меньше сорок пятого размера, лежал на Европе и на части нашей страны, казалось, что начинается землетрясение, но раздавался звонок на урок, и покой возвращался в старые стены. Когда-то школа носила имя Павлика Морозова, новая директриса совсем недавно добилась переименования: теперь это была школа имени писательницы Дмитриевой, которую никто, кроме отдельных старшеклассников и двух русичек, не читал, но дом-музей которой находился неподалеку. Впрочем, в городе школа по-прежнему слыла школой убиенного отцепредателя, и молодая начальница не выносила даже упоминания крамольного имени. Я ничего этого не знал, не знала об этом и моя мама. А надо сказать, что я имел неосторожность родиться под фамилией Морозов. К мальчику из свердловского села никакого отношения я не имел. Скорее, мне мечталось, что мы потомки Саввы Морозова, который построил в нашем городе – перед самой смертью – виллу «Вера»; вилла до сих пор стоит на скале над морем, там теперь клуб моряков.
Я проучился год в новой школе, но друзей у меня не было, не было даже приятелей, только Она. Хотя она делала вид, что мы не знакомы, как будто это не со мной она сидела рядом целых шесть лет, в течение которых мы так страшно изменились. Едва научившись писать, я писал ей любовные записки, она отдавала их своей маме, а та – моей. Года через три у моей мамы накопилась полная жестяная коробка из-под чая «Липтон» этих мятых бумажек в клеточку и линеечку, и к тому времени я наконец оставил эпистолярный жанр. В прежней школе у меня не было случая защитить ее – народ у нас учился довольно мирный, – зато здесь случаев было предостаточно. Ее задирали потому, что она в любую погоду ходила в кофтах с длинным рукавом и брюках. Я знал, что Она прячет свои руки и ноги оттого, что они как будто выцвели, сквозь обычный южный загар (она ходила с родителями на пустынные дикие пляжи, где, кроме них троих, никого не было) просвечивали белые пятна никогда не загоравшей кожи: у нее была какая-то редкая кожная болезнь. Она мечтала уехать с Черного моря на Красное, где, говорят, болезнь ее могла пройти. Мне позволялось быть избитым за нее то одним, то двумя, а то и тремя одноклассниками. Впрочем, ко мне тоже цеплялись: я был новеньким, успел нахватать кучу двоек, особенно по ненавистному английскому, который в этой школе изучали с первого класса, я же учил его с пятого (так же, как Она, но у нее были способности к языкам, а у меня – никаких); к тому же в то время я увлекся Белым движением, а, как назло, здешние все были красными – Павлик Морозов все еще жил в них. Таким образом, из тридцати пяти человек в нашем классе тридцать четыре были красными, а всю белую армию представлял я один. Сдаваться я не собирался. Это была моя школьная, неизвестная домашним жизнь.
А дома была годовалая сестра Виринея, чьи брови становились все гуще, и Валентин говорил, что, в конце концов, она переплюнет Брежнева. У нас был частный дом, двухэтажный, но уже очень старый, сложенный наполовину из блоков, наполовину из речных камней, дому скоро исполнялось тридцать лет, и потихоньку что-нибудь в нем отказывалось служить людям. Бедному Валентину, который, кроме своих эндемиков, а также гадов ползучих, никого знать не хотел, приходилось то ручки менять на дверях, то ставить прокладки на краны, то подклеивать висящие клочьями обои – на это он тратил прорву времени и злился, что отнимает его у колхидской жабы, у кавказской гадюки или у самшита. Мама с девчонкой спали на втором этаже, моя комната была здесь же, а Валентин со своими змеями, мышами, палочниками и прочими божьими тварями располагался в угловой комнате первого этажа, подальше от кроватки младенца. Мама говорила, что не хочет в один прекрасный, вернее ужасный, день обнаружить ребенка в обнимку с парочкой змей, руки у девочки, конечно, сильные, но все-таки не такие, как у мальчика Геракла, и вряд ли ей удастся задушить змей, как древнему греку, – вернее, тогда он, конечно, еще не был древним греком, а был просто маленьким греком, но дела это не меняет.
Еще в комнате Валентина жили пауки, совершенно свободно, не подвергаясь репрессиям. Он, после продолжительных боев с мамой, отвоевал-таки им жизненную территорию, вначале мама то и дело норовила мокрой тряпкой, намотанной на швабру, обмести паутину, но Валентин вставал на защиту пауков стеной, и мама в конце концов сдалась – оставила его с пауками в покое. Валентин об одном только жалел, что ему не удалось их развести во всем доме, но зато, говорил он, я знаю, что, во всяком случае, в моей комнате их никто не тронет. Вы посмотрите, он шутил, сколько у нас солнечных дней в году! И все благодаря нам, ведь есть такая примета: убить паука – к дождю, мы их не убиваем – и у нас вечное солнце!
Девчонка была на редкость спокойным ребенком, орала только по делу и почти мне не мешала. Над кроватью я повесил вырезанные из разных изданий фотографии Николая Второго, одного, с императрицей, со всей семьей, где он в серой тужурке, с эмалевым крестиком в петлице, где наследник, императрица и четыре великих княжны, а также фотографии адмирала Колчака, барона Врангеля, генералов Деникина, Корнилова, Кутепова и других. Где-то в дровянике валялся мой старый меч, сработанный из железа, с рукояткой, обмотанной синей изолентой; на чердаке, среди тряпья, лежал, свернутый комом, старый зеленый плащ, который я сам покрасил в этот цвет; в одном из ящиков шкафа среди хлама я наткнулся на «серебряный» обруч – бабушкины пяльцы, затянутые фольгой. Совсем недавно я нацеплял его на голову, надевал зеленый плащ, за пояс совал меч и отправлялся к пятиэтажным домам на поиски приключений. Тогда девчонки еще на свете не было.
В долине нашей знаменитой горной речки, среди улиц и улочек, сплошь состоящих из частных домов, затесались два пятиэтажных. Когда-то, лет пятнадцать назад, частное жилье собирались сносить, а всю долину застроить стоквартирными домами, ну, и нас, разумеется, поселить в одном из этих домов. Но планы эти с треском провалились, в девяностые годы многоквартирное жилье вообще перестали строить. Теперь гордые жители пятиэтажных домов считаются городскими, а мы – сельскими, хоть живем, считай, через дорогу, у них и улица называется по-другому, хотя вся улица – два дурацких дома с вонючими подъездами. Но там, в этих вавилонских недоделанных башнях, живут все мои друзья. Я наживал их кровью и потом. В детский сад я никогда не ходил, сидел дома, под бабушкиным крылом, затем стал ездить в школу, высоко в горы, где, опять-таки, работала бабушка, там у меня были Она и парочка друзей, с которыми мы после школы, разъезжаясь в разные стороны, не встречались. А по соседству, в городских домах, полно было детей. Но мама меня старалась под разными предлогами не пускать туда, она тряслась от ужаса, если я хоть чуть-чуть задерживался. Ей рассказывали, что меня бьют, и даже не старшие, а младшие, соберутся скопом, человек пять, и дубасят. Это была правда. Но я скрывал. Мне нужны были друзья, мне, кровь из носу, нужна была команда. И я ее собрал. Васька был учительским сыном и внуком, двойной порок, я-то был только внуком, мама моя к школе отношения не имела, да к тому же теперь бабушка, бывшая учительница, а ныне пенсионерка, с нами не жила: вышла замуж и уехала на Кубань. Но Ваську учительское окружение не испортило: с четырех лет он был предоставлен сам себе, вернее, улице, и бродил где вздумается. Когда мне было десять, ему было семь, мои одногодки посмеивались, но мне было все равно – я нашел Торина. Нас было двое, я рассказал ему про хоббитов, гномов и эльфов, мы сделали себе мечи и вышли к пятиэтажным домам. Это были две твердыни, две башни, полные орков, которые нападали на нас при каждом удобном случае, но даже вдвоем против десяти мы сражались, как и подобает эльфу с гномом. Орков в джинсовых костюмчиках смешили наши рваные зеленые плащи с чужого плеча. «Вы их на помойке подобрали?» – кричали они, наши картонные мечи они ломали и выкидывали, но скоро мы вооружились заточенными металлическими мечами, и им стало не до смеха. Тогда еще не сняли «Властелин колец», и орки не могли нас идентифицировать: кроме мечей, у нас были луки со стрелами – и они, вот умора, звали нас индейцами. С Костей мы были одногодками и даже одно время дружили, но потом разошлись, ему было спокойнее дружить с кем-то из соседнего подъезда, чем со мной, чужаком из поселка. Но как-то, в одно из наших с Васькой зловещих сражений с орками, он не выдержал и присоединился к нам, я дал ему Толкиена, и в нашей команде появился Леголас – и стало нас трое. Вернее, уже четверо, потому что куда Костя-Леголас, туда и Паша-Боромир, он был на пару лет нас с Костей младше, а ростом совсем не вышел и потому тянул только на гнома, но по доброте моей душевной был назначен в нашу команду человеком.
Года два мы с переменным успехом воевали с орками, а потом появился в нашем доме Валентин, Толкиена он высмеял. Главное, говорил Валентин, это же не наш человек, он же католик, а ты, Сережа, увлекаешься историей, читаешь про Белое движение, а играешь в католические игры, Колчак с Врангелем тебя бы не одобрили. Да мне и самому уже все эти зеленые плащи, обручи и мечи надоели, а может, вырос я из них, и Белым движением я действительно тогда уже сильно увлекся, вот так и получилось, что наша четверка стала белой армией на Кавказе. Иногда белой армии доверяли покатать в коляске младенца Виринею, девчонка хмурила свои грозные брови – и орки из пятиэтажных башен, превратившиеся в красных комиссаров, не решаясь напасть, бежали за нами обочь дороги и обзывали белыми поганками. Мы выучили «Боже, царя храни», «Так громче музыка играй победу», переиначенную песню «Там, вдали за рекой», где вместо сотни юных бойцов из буденновских войск действовала деникинская сотня, – и распевали их, бешено катя коляску по асфальтовым дорогам, проложенным вокруг пятиэтажных башен. Виринея, привязанная ремнями к своей сидячей коляске, подскакивала на ухабах и заливалась смехом, когда мы орали: «Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое ура, ура, ура!» Белая гвардия ей явно пришлась по душе.
Только потому, что там была Она, была надежда, я мог ездить в эту школу, где два последних урока приходилось зажигать свет, потому что наступала тьма. Во тьме мы шли с ней мимо футбольных ворот, мимо ржавых железных лестниц, ведущих в небо, мимо бревна, на котором сидел бездомный кот с облезлым боком, с которым я на переменке потихоньку делился школьными пирожками. За стадионом был узкий мостик через бедную городскую речушку, забранную в бетонные берега, черную быструю речку, спешившую к близкому морю, мостик был такой узкий, что приходилось идти гуськом: Она – впереди, я – за ней, а кот, мечтавший о пирожках, некоторое время шел за нами. Потом была широкая лестница, в сто ступеней, ведущая к автобусной остановке, мы поднимались по разным краям лестницы, не глядя друг на друга. Я все хотел говорить с ней, то про Толкиена, то про белых и красных, то про друзей, то про сестренку, про английский, может быть? Но, мне казалось, с ней невозможно разговаривать, как со всеми людьми, о вещах таких простых и смешных. И день за днем мы шли молча. На уроках мы отвечали, когда нас спрашивали заданный взрослыми урок, там мы знали, что и как говорить, хоть одинаковые для всех школьные слова были еще смешнее тех, которые я про себя говорил ей. С Богом разговаривают на его языке, постоянными словами древних молитв, почему же не придумают язык постоянных слов, которыми можно говорить с девчонками, когда вы наедине. Потом, конечно, слова могли бы изменяться, дополняться, упрощаться, но вначале – как с Ними говорить? Остановка была освещена и казалась именно тем местом, к которому мы так стремились. Мой автобус приходил раньше. Пятиэтажные башни были конечной остановкой городского маршрута, а ей надо было ждать сельский ЛАЗ, идущий мимо этих домов высоко в горы, она слегка поворачивала голову в мою сторону – я нагибался завязать шнурки, или, заложив руки за спину, принимался читать черную афишу, или просто отворачивался, я всякий раз пропускал свой автобус. Мы ехали вместе, иногда, когда не было предыдущего рейса, старенький ЛАЗ (еще моя мама ездила на нем в школу) был так набит, что нас придавливало друг к другу, казалось, еще немного – и мы срастемся, как колхидский плющ и белолистка. Городские фонари оставались позади – и за окнами таилась ночь. Переполненный автобус, горя своим внутренним светом, мчался в зимней ночи, как ковчег, и я мечтал, чтоб он никогда не останавливался. И не нужны уже были слова.
Виринея стала говорить, кроме «мама» да «папа», она говорила «ав-ав», она так говорила, когда мы проходили, возвращаясь от пятиэтажек, мимо лающих собак за соседскими заборами, и топала на них ногой, хмуря брови и грозя пальчиком. Когда меня оставляли с ней, я сажал ее на пол, на драное зеленое одеяло, из которого клочьями торчала пожелтевшая вата, и принимался читать ей свои детские книжки, ценою не более пятнадцати копеек за штуку, которые достали с чердака. Книжки девчонка называла «конене», слово, схожее со скандинавским «конунг» – король, книжки она тогда уже ценила. На книжных собак девчонка топала ногой так же, как на живых, и так же грозила им пальцем. Меня в то время она звала Ам, как свою кашу; конечно, о Сережу или Серого язык сломаешь, но почему именно Ам – не знаю, она и сама, наверно, не знала, просто Ам, и все. Потом, слово за слово, появились целые предложения, с ней уже можно было поговорить по-людски… Жалко только, что не родилась она раньше. Когда мама была беременна, я мечтал о брате, но эта девчонка – когда не ревела – стоила сорока тысяч братьев.
У нас было две кошки: Пушка и Милька, девчонка звала их Пу и Ми. Милька родилась у Пушки чуть не в один день с Виринеей и по такому случаю была оставлена в живых; кроме того, как это часто бывает, мы обознались, подумали, что она – это он, я назвал котенка Милорадовичем в честь одного классного серба, генерала, героя Отечественной войны 1812 года, предательски убитого декабристами на Сенатской площади, ну а потом – когда с полом все стало ясно – Милорадовича сократили в Мильку. Поскольку родилась Милька, когда всем было не до нее: на руки ее не брали, руки у всех были заняты человеческим детенышем, в бантик на веревочке не играли – играли все с девчонкой, гладить не гладили – голубили все Виринею, – то и выросла она в совершенно дикую кошку. Охотилась Милька на все, что бегало, летало или ползало и было ей по плечу: на крыс и мышей – в доме, в сарае, в курятнике, а также в соседских сараях и курятниках; на воробьев, дроздов, синиц, а по весне на их птенцов; на обычных ящериц и на ящериц-веретениц, греющихся на солнышке; на соседских собак, если они осмеливались подойти к смежному с соседями забору или, не дай бог, к нашей калитке. До питомцев Валентина, живущих в ящиках, за вечно запертой дверью угловой комнаты, она не могла добраться, но честно пыталась. Валентин говорил, надо было назвать ее Артемидой. Убитых ящериц он очень жалел, кошек, он говорил, на свете миллионы, а ящериц, особенно веретениц, остается все меньше. Одно время он даже пытался наказывать Мильку за убийство: тыкал в несъеденную жертву носом и устраивал хорошую трепку, но потом, поняв тщетность своих попыток, оставил охотницу в покое. Она охотилась также за голыми ногами, посмевшими пройти в непосредственной близости от нее, и всегда оставляла кровавые отметины, поэтому Пушку Виринея таскала, как куклу, теребила и целовала, а свою сверстницу Мильку старалась обойти сторонкой. Впрочем, на детские голые ноги Милька, которая повзрослела гораздо раньше девчонки, не обращала внимания. Она была нетребовательна: ела черный хлеб, кислое молоко, не отказывалась от помидоров и хурмы, только остатки детского питания и бульоны из кубиков ни в какую есть не хотела. Мильке ужасно не везло с потомством, котята рождались у нее то дохлые, то потом помирали, то ли от недостатка молока, то ли еще от чего, а Пушкиных котят часто оставляли, то одни закажут котеночка, то другие. Пушка была трехцветная красавица с томным взором, взгляд ее становился просто исступленным, если ей хотелось рыбы, которую как раз собрались есть ненасытные люди, она пялилась вам в глаза, помяргивая баритоном, до тех пор, пока не получала свою долю. Мильку, если та пыталась урвать кусок, она лупила обеими передними лапами немилосердно, а Милька, несмотря на всю свою охотничью сноровку, матери всегда уступала. Бедная Милька сначала фыркала на Пушкино потомство, а потом смирялась; когда чужое чадо чуть подрастало, она бегала с ним взапуски, вылизывала наперебой с Пушкой и учила ловить мышей. Девчонка, тоже претендовавшая на Пушкиных детей, старалась дать всем, в том числе и Пушке, понять, что это она котятам мама, прикладывала их к груди, баюкала и вообще всячески воспитывала, невзирая на многочисленные царапины, нанесенные неблагодарным хвостатым отродьем.
Англичанка взялась за меня всерьез, мы были с Ней в одной группе, я сам всеми путями добивался этого, и вот на свою голову добился. Я мало, конечно, занимался английским, мне надо было наверстывать упущенное за четыре года, но лень было тратить время на эту муру, английский я не желал учить за то, что им разговаривали в Штатах. Помню, в первый же день, как девчонку привезли из роддома, сослуживцы мамы и Валентина натащили всякие необходимые младенцам вещи, среди прочего кто-то приволок Микки-Мауса, без которого, видимо, русским детям в настоящее время никак не обойтись. Мы с Валентином тут же окрестили его натовцем, и Виринея, когда стала говорить, только так и звала это черноухое чудовище – выкидывать игрушку мы не стали, все-таки кто-то делал, старался, как умел. На уроках английского я должен был с такой скоростью отвечать на вопросы англичанки, ставя слова в английском порядке, не путая падежи и времена, что у меня всякий раз на перемене кружилось в голове. Конечно, я не успевал за всеми, я вообще с трудом понимал, про что это они, – и вдруг трах-тарабах тебя спрашивают про какие-то глупости, которые происходят с дурочкой Мэри или паршивцем Джоном. Еще ничего, если бы они жили в каких-нибудь трущобах, так нет – дом у них просто глянцевая картинка, ну точно такая же картинка, как все их дома до одного, а трущоб, как замечает англичанка, у них в помине нет, все это бывшая коммунистическая пропаганда. На завтрак, обед и ужин едят они свои многоэтажные гамбургеры и горячих собак, поливая все это кетчупом и запивая литрами колы и пепси, впрочем, мы в этом отношении уже мало чем от них отличаемся. Потом они вдруг ни с того ни с сего – благодаря перестройке, конечно, авторитетно говорит англичанка – начинают писать письма какому-то русскому дураку Пете, и Петя с большим чувством, насколько можно понять, отвечает им, тоже, конечно, по-английски. Потом они едут в Москву, в гости к этому Пете, который спит и видит, как, в свою очередь, окажется в их Нью-Йорке или Сан-Франциско. Мэри с Джоном начинают везде шататься и все разглядывать, а Петя – им все показывать. При чем тут только я, непонятно. Валентин говорит, грядет реформа русского языка, вроде у нас язык очень сложный, не только для иностранцев, но и для своих, а поглядеть на английский, говорит Валентин, у них пишется Лондон, а читать надо Париж, в каждом слове столько лишних букв, что голову сломаешь, и ничего – никакой реформой и не пахнет, весь мир учит их язык, как стреноженный. Правда, Валентин говорит еще, что врага надо знать в лицо, а что в лице главное – язык, учи, мол, язык, Сережа…
Англичанка дает задание: мы должны задавать друг другу английские вопросы и по-английски же отвечать, чтобы даже междометий русских не было, а только «вау» да «о-о». Она сидит напротив меня, – мы все сидим за длиннющим столом, вроде стола для заседаний, только без бордовой скатерти, а англичанка во главе стола, – она спрашивает меня о чем-то, очень медленно, в сущности, я даже понял, я даже мелю что-то, только, видно, опять невпопад, потому что англичанка становится красной, как несуществующая скатерть на нашем общем столе, и, забыв, видно, все английские слова, на чистом русском языке говорит, что таких баранов она, сколько живет, еще не видела, что место мне не в престижной школе, а в школе для дураков, и что она все постарается сделать для того, чтобы я в школе имени писательницы Дмитриевой не учился. Я глаз не смею поднять, я представляю, что я каким-то образом превратился в чинару за окном и скребу себе ветками по окну и по кирпичной стене, я под солнышком, мне хорошо, а вы тут учи́те свой английский хоть до посинения, дереву английский никогда не понадобится, дерево на работу не пойдет, к компьютеру его не подпустят, визы в Англию не дадут – не нужен мне английский, хоть ты тресни. Дереву даже Она не нужна, колю я себя своей же веткой, дереву все равно, что Она теперь никогда его не полюбит, все кончено, ну и пусть.
Мы с Васькой осенью поймали в лесу белую утку Это была всем уткам утка; семь потов с нас сошло, прежде чем мы ее достали; летала она низко и недалеко, видимо, была когда-то домашней, но потом одичала, мы загнали ее к краю обрыва, пропасть внизу – будь здоров, ей некуда было деваться, полет с такой крутизны, она понимала, грозил ей переломанными крыльями, а может, и шеей, но она исклевала нам все руки, пока наконец смирилась. Ей подрезали крылья и посадили к курам, и она стала там жить, ходила вместе с курами, на насест, правда, залезть не могла, но, если посадишь, и спать могла наверху, в подруги взяла себе черную курицу, та тоже была новенькой, и обе стали командовать в курятнике. А весной глядим – куда это утка наша пропала?! А она в будке сидит! Будка собачья у нас давно уже пустовала. После того, как наша престарелая собака Пальма ушла в лес и не вернулась, мы унесли конуру за дорогу и держали в ней щепки для растопки печей, и вот немного щепок с зимы осталось, утка нащипала из себя пуха, покрыла им щепки, снесла несколько яиц и села выводить утят. Мама вытряхнула твердые колючие щепки, а пух и яйца оставила, но утка ужасно рассердилась и, вытянув шею, шипя не хуже Валентиновых гадюк, принялась возвращать щепки на место, надрала свежего пуха и опять уселась на яйца, весьма довольная собой. Как-то в сумерках мама с девчонкой пошли по соседям, им дали еще утиных яиц, мама подложила их к утке, и утка в конце концов вывела потомство. Но оказалось, что большая его часть – это цыплята, а не утята, так как в темноте маме с Виринеей по ошибке надавали куриных яиц, впрочем, утке, кажется, это было все равно, она и такими детьми осталась очень даже довольна. Так же, как девчонка, – та была просто счастлива. Подумать только, целая куча новых детей! Да еще одна из наших гадюк расстаралась: вывела змеенышей! А у мышей родились розовые мышата, а у Пушки – опять котята, в общем – жизненное колесо. Виринея нянчила и таскала их всех по очереди, кроме, конечно, молодых змеят, пока по недосмотру юной няньки Милька в когтях не принесла одного из голеньких мышат Пушкиным безжалостным чадам. Горе матери-мыши не идет ни в какое сравнение с горем няньки! По-моему, наша девочка всерьез тогда считала, что является родительницей всех рождающихся божьих тварей в округе, не исключено, что и всякая новорожденная травинка приходилась ей дочкой. К счастью, Милька – все-таки она была домашней кошкой – не охотилась на смешанное утиное потомство, и Виринея могла вполне безнаказанно затащить во двор какого-нибудь бедолагу утенка и сколько влезет таскать его на руках и целовать в коричневый клюв. У Пушки, по обыкновению, родилось два котенка, один, как всегда, был рыжий кот, вторая – черно-белая кошечка. Кошечку заказал оставить сосед, грек Гриша. Хотя Гриша был не полностью грек – мать у него была русская, – но выглядел грек греком: нос греческий и черные усы. Гриша пил как сапожник, а может, как Дионис, во всяком случае, на работе его долго не держали. С женой он давным-давно разошелся, они, вдвоем с матерью, недавно стали жить по соседству с нами, а прежде у них была трехкомнатная квартира в городе, которую Грише пришлось продать, чтобы расплатиться с дикими долгами, в которые он влез, заведя какое-то ужасно прибыльное дело, но тут же и прогорев. На оставшиеся после уплаты долгов деньги и купили половинку дома. Акимовна получала пенсию, а Гриша копался в саду и, время от времени, устраивался на очередную работу в строительную фирму, потом уходил в запой, пропадал куда-то дня на три, потом вновь появлялся в саду, где копал, тяпал, сажал, полол, подвязывал, подрезал – в зависимости от времени года. Месяца через два-три он опять устраивался на работу – до очередного запоя. Когда сын пропадал, Акимовна приходила к нам звонить – искала его, на том конце провода отвечали, что нет, на работу не пришел, объект простаивает, бригада его ждет, хозяин мечет гром и молнии, где его черти носят, хотелось бы знать… Акимовне и самой хотелось бы знать это.
Она боялась, что в какой-нибудь чудовищный день он не возвратится домой. «Преступность-то сейчас какая, Люся! – говорила она моей маме. – Это же уму непостижимо, разве же сейчас можно по ночам шататься, это же до одной только поры, не понимает человек, ничего не понимает». Нашу девчонку Акимовна баловала, приносила то белого инжиру – «у вас ведь только синий», то молодых грецких орехов – варенье из них просто объеденье, ее старичок один, абхаз, научил, то грушу беру, сладкая, как мед, а пахнет как! От одного запаху сыт будешь. Наша тоже ужасно любила Акимовну, всякий раз она брала ее за руку и провожала до их калитки. Однажды, когда девчонка была еще совсем мала, Акимовна, уходя от нас, упала на каменистой дороге, поднимавшейся кверху, и покатилась, Виринея стояла у своей калитки и все видела, она так орала, что вся округа сбежалась, мы думали, это она расшиблась, а не Акимовна. Кстати, когда девчонка орет, лицо у нее меняется до неузнаваемости, она превращается в маленькую Бабу-ягу, напугает кого угодно, зато когда смеется – просто загляденье, а не ребенок! Ну вот, с тех пор она взяла шефство над Акимовной и одну ее не отпускает, обязательно до соседской калитки проводит, ну и с Валетом там пообщается, у нас ведь, по какому-то недоразумению, все еще нет собаки. С Гришей девчонка тоже проводила долгие беседы, он ее и в лес с собой брал, то за дровами, то за подпорками для яблонь, то за тычками для фасоли или для помидоров. Ходит она будь здоров! Никто к ней никогда не примеривался, и она вынуждена была ходить наравне со взрослыми, Гриша идет – делает шаг, а девчонка рядом – три пробегает, но ни за что не отстанет. Как-то я подслушал их разговор. Гриша рассказывал ей, что «с мэром в одном классе учился, за одной партой сидел, это же такой сексотишка был! И вот на тебе – пролез во власть, всем городом заправляет, землей торгует налево и направо, а земля-то здесь какая, Виринея! Золото, а не земля, а он, Гриша, пришел какую-то ерунду ерундовскую попросить – дак на порог своего кабинета отъевроремонтированного не пустил, забыл, как списывал у него, просил вечно, дай, Гришка, физику списать, а теперь? Да я про него такие вещи знаю, у другого бы он вот где был, в кулаке! Да я добрый, добрый и дурак, вот и маюсь…Ты, Вир, понимаешь, что на свете творится? Я – нет». Наша кивала с умным видом. Она у меня потом потихоньку спросила: «Сележа, а мэл – он как муха цеце?» – это потому, что Гриша показывал, что в кулаке мэра может держать, как муху. Помрешь с ними, ей-богу!