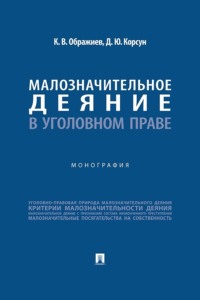This book cannot be downloaded as a file but can be read in our app or online on the website.
Read the book: «Малозначительное деяние в уголовном праве»
Авторы:
Ображиев К. В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);
Корсун Д. Ю., кандидат юридических наук, адвокат.
Рецензенты:
Наумов А. В., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института Университета прокуратуры Российской Федерации;
Пудовочкин Ю. Е., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

ebooks@prospekt.org
© Ображиев К. В., Корсун Д. Ю., 2024
© ООО «Проспект», 2024
Предисловие
Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ «не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности». Подобные деяния встречаются на практике довольно часто, причем в условиях избыточной криминализации деяний их количество неизбежно возрастает. Однако уголовно-правовая оценка малозначительных деяний крайне непоследовательна и противоречива.
Анализ правоприменительных решений позволил выявить две разнонаправленные негативные тенденции. С одной стороны, правоприменители игнорируют предписания ч. 2 ст. 14 УК РФ, квалифицируя в качестве преступления малозначительные деяния, не представляющие достаточной общественной опасности и явно не требующие уголовно-правового реагирования. А с другой стороны, ч. 2 ст. 14 УК РФ иногда используется как инструмент незаконного и необоснованного освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших общественно опасные деяния.
Причины обозначенных перекосов правоприменительной практики имеют разноплановый характер. Во-первых, предпосылки для них заложены самим законодателем, который сформулировал предписания о малозначительности деяния недостаточно конкретно, не согласовав ч. 2 ст. 14 УК РФ с иными уголовно-правовыми нормами (в частности, с положениями ст. 8 УК РФ об основаниях уголовной ответственности), а также с уголовно-процессуальным законом (со ст. 24 УПК РФ). Во-вторых, нельзя не отметить неоднозначную позицию Верховного Суда Российской Федерации относительно критериев малозначительности деяний, что, безусловно, не способствует единообразному применению ч. 2 ст. 14 УК РФ. В-третьих, нужно признать тот факт, что уголовно-правовая наука пока не предложила практике ясные и непротиворечивые рекомендации по уголовно-правовой оценке малозначительных деяний, что создает широкий простор для произвольного правоприменения.
На этом фоне настоящая монография, посвященная разрешению теоретических и прикладных проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой малозначительных деяний, имеет повышенную актуальность.
Проблемы уголовно-правовой оценки малозначительного деяния, содержащего признаки состава преступления, как правило, рассматриваются лишь попутно, в контексте исследования более широких вопросов, входящих в предмет учения о преступлениях: в рамках уголовно-правового дискурса о признаках преступления (работы А. П. Козлова, Н. Ф. Кузнецовой, А. Н. Соловьева и др.) и об основании уголовной ответственности (публикации А. В. Иванчина, Е. В. Благова); в процессе изучения общественной опасности деяния (труды А. Э. Жалинского, В. В. Мальцева, Ю. Е. Пудовочкина, И. А. Солодкова, Ф. Н. Сотскова, Т. Д. Устиновой); при обсуждении вопросов квалификации отдельных видов преступлений.
К сожалению, доктринальная разработка проблем уголовно-правовой оценки малозначительного деяния не в полной мере соответствует уровню сложности, теоретической и прикладной значимости обозначенной проблематики. В имеющихся публикациях содержатся взаимоисключающие рекомендации о применении положений ч. 2 ст. 14 УК РФ, в них не решен целый комплекс объективно непростых проблем, связанных с пониманием юридической природы малозначительных деяний, с основаниями и критериями их малозначительности, а некоторые значимые вопросы (например, малозначительность деяния с признаками квалифицированного состава преступления, с признаками состава неоконченного преступления) вовсе остались за рамками научного анализа. На восполнение этих пробелов нацелена настоящая монография.
Глава 1
Теоретические основы уголовно-правового исследования малозначительного деяния
1.1. Социально-юридические предпосылки нормативных предписаний о малозначительности деяния в уголовном праве
Приступая к исследованию малозначительного деяния, содержащего признаки состава преступления, отметим, что это понятие неразрывно связано с базовой категорией уголовного права – категорией преступления. За время развития отечественного уголовного права теоретические представления о преступлении и законодательные подходы к его регламентации претерпели существенные изменения. При этом ключевым вопросом уголовно-правового дискурса о преступлении был и остается вопрос о соотношении его формы и содержания, т. е. его юридических (так называемых «формальных») и социальных («материальных») признаков. Как отмечается в юридической литературе, «с появлением писаных нормативных источников представление о преступлении как наиболее опасной форме поведения неразрывно связывается с разделением юридической и содержательной (социальной) его сторон»1.
История развития российского уголовного права демонстрирует различные варианты решения этого принципиального, методологического вопроса. Например, в уголовном праве второй половины XIX – начала XX в. утвердилось формальное определение преступления, в основу которого был положен признак уголовной противоправности. В Уголовном уложении 1903 г. была сформулирована следующая нормативная дефиниция преступления (ст. 1): «Преступным признается деяние, воспрещенное во время его учинения законом под страхом наказания». Умалчивая о социальной составляющей преступного деяния, его направленности, законодатель выдвигал на первый план формальный признак преступления – уголовную противоправность.
В первых советских уголовных законах, напротив, реализован материальный подход к определению преступления, акцентирующий внимание на содержании преступного деяния, его общественной опасности. Преступлением признавалось: нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным правом (Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.); всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя или правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени (УК РСФСР 1922 г.); всякое действие или бездействие, направленное против советского строя или нарушающее правопорядок, установленный рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени (УК РСФСР 1926 г.). Таким образом, была осуществлена «деюридизация» определения преступления, что выразилось в отказе от признака уголовной противоправности (запрещенности преступления уголовным законом).
Баланс юридических и социальных признаков преступления был найден (во многом благодаря усилиям представителей уголовно-правовой доктрины2) в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и принятом в соответствии с ними УК РСФСР 1960 г. Согласно ст. 7 УК РСФСР 1960 г. «преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, все формы собственности, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом». Таким образом, в уголовном законодательстве получил отражение формально-материальный, т. е. дуалистический подход к преступлению, который интегрировал в себе основные достижения классической и социологической школ уголовного права3. Впоследствии этот подход был реализован и в УК РФ 1996 г., согласно которому «преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» (ч. 1 ст. 14).
Дуалистическое определение преступления, отраженное в действующем уголовном законодательстве, имеет целый ряд неоспоримых достоинств.
С одной стороны, в нем подчеркивается, что преступлением может быть признано лишь то деяние, которое запрещено уголовным законом; сколь бы опасным, вредоносным ни было деяние, в отсутствие соответствующего уголовно-правового запрета оно не может расцениваться как преступное. Таким образом, признак уголовной противоправности преступления служит надежной гарантией соблюдения принципа законности (ст. 3 УК РФ).
С другой стороны, дуалистическое определение преступления акцентирует внимание на том, что уголовно-противоправным может быть признано лишь такое деяние, которое обладает общественной опасностью, т. е. способностью причинять значимый вред интересам личности, общества и государства. Указание на общественную опасность преступления имеет принципиальное значение. Демонстрируя социальную сущность преступления, этот признак призван, во-первых, ограничивать произвольную криминализацию деяний, не обладающих высокой (криминальной) степенью общественной опасности, а во-вторых, исключить на правоприменительном уровне возможность привлечения к уголовной ответственности за деяния, не представляющие общественной опасности.
Итак, с точки зрения дуалистического (формально-материального) подхода, который прочно утвердился в современном уголовном праве России, деяние признается преступлением лишь при условии совпадения общественной опасности деяния (содержания преступления) и его уголовной противоправности (юридической формы преступления). С этих позиций «сущность преступления заключается в диалектическом сочетании социального и юридического признаков в (едином) деянии, отражающем логическое тождество (совпадение) объективного свойства конкретного поведения причинять значимый вред или ставить под угрозу причинения такового социальные объекты (достижение “уровня” общественной опасности, присущей преступному посягательству) и его предусмотренности уголовным законом»4; «преступление как явление объективной действительности представляет собой неразрывное диалектическое единство его внутренней сущностной стороны, содержание которой составляет общественную опасность и внешней юридической стороны – уголовной противоправности»5.
Однако при определении границ преступного поведения нужно учитывать, что общественная опасность и уголовная противоправность деяния не всегда соответствуют друг другу. Далеко не все общественно опасные деяния, способные причинить существенный вред интересам личности, общества и государства, запрещены уголовным законом, поскольку система уголовно-правовых запретов неизбежно отстает от динамики общественных отношений (подобное несовпадение формы и содержания преодолевается за счет криминализации общественно опасных деяний). В то же время некоторые деяния, содержащие признаки состава преступления, будучи формально противоправными, не являются при этом общественно опасными. На законодательном уровне это несоответствие разрешается путем декриминализации деяния, утратившего общественную опасность, а на правоприменительном уровне в подобных случаях должны использоваться предписания ч. 2 ст. 14 УК РФ о малозначительности деяния.
Часть 2 ст. 14 УК РФ развивает формально-материальное определение преступления, дополняя его негативным признаком: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».
В теории уголовного права это законодательное предписание оценивается довольно неоднозначно. Большинство ученых считает его оправданным и необходимым, указывая, что посредством ч. 2 ст. 14 УК РФ «законодатель разрешает диалектическое противоречие между формой (уголовной противоправностью) и содержанием (общественной опасностью) деяния, не допуская разрыва их единства»6, подчеркивает тесную взаимосвязь юридического и социального признаков преступления7.
В то же время некоторые представители уголовно-правовой науки высказывают мнение о ненужности, избыточности предписаний о малозначительности деяния8 и на этом основании предлагают исключить ч. 2 ст. 14 УК РФ из уголовного законодательства9. В обоснование этой точки зрения приводятся следующие аргументы: 1) указывается, что норма о малозначительности якобы «не привносит в УК ни одного позитивного качества»10, что идея малозначительности деяния «может быть выражена в законе без употребления данного термина»11; 2) ч. 2 ст. 14 УК РФ отличается высоким уровнем неопределенности, а ее применение приводит к злоупотреблениям на практике12; 3) есть иные способы реагирования на малозначительные деяния – например, назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ), условное осуждение (ст. 73 УК РФ), освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), что делает ненужной норму о малозначительности13.
Оценивая эти доводы, отметим, что с точки зрения формальной логики первый аргумент содержит определенную долю истины, так как в дуалистическом определении преступления, сформулированном в ч. 1 ст. 14 УК РФ, изначально заложена идея о том, что преступным признается деяние, которое одновременно обладает как уголовной противоправностью, так и общественной опасностью14. Однако это не дает оснований считать предписания о малозначительности деяния избыточными, поскольку ч. 2 ст. 14 УК РФ конкретизирует нормативное определение преступления, обладающее высоким уровнем абстрактности, адаптирует его для правоприменения; она определяет механизм разрешения коллизии между уголовной противоправностью и общественной опасностью деяний, что позволяет перевести абстрактные положения ч. 1 ст. 14 УК РФ в правоприменительную плоскость.
Предписания о малозначительности деяния выполняют роль «негативного» признака преступления, обращая внимание на то, что при отсутствии общественной опасности деяние не может признаваться преступлением, даже если оно соответствует признакам состава преступления. Часть 2 ст. 14 УК РФ указывает правоприменителю, что сама по себе уголовная противоправность, констатированная путем установления в деянии всех признаков состава конкретного преступления, не может служить достаточным основанием для признания этого деяния преступным. Эта мысль очень четко сформулирована Конституционным Судом Российской Федерации: «Выявление формальных признаков состава преступления в совершенном деянии не всегда предопределяет признание его преступным, поскольку содеянное в силу поведения самого виновного может и не достигать того уровня опасности, который легитимирует уголовное преследование»15.
Таким образом, подчеркивая тесную взаимосвязь формы и содержания, ч. 2 ст. 14 УК РФ ориентирует правоприменительные органы на то, что для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо установить не только противоправность, но и уголовно значимую общественную опасность деяния. Тем самым предписания о малозначительности ограничивают «сферу приложения» уголовно-правовой репрессии, исключая из нее те деяния, которые хотя и имеют внешнее, формальное сходство с преступлением (соответствуют признакам состава какого-либо преступления), но содержательно не являются таковыми вследствие отсутствия криминального уровня общественной опасности.
С учетом отмеченных обстоятельств предписания о малозначительности деяний нельзя считать избыточными; они выполняют важные уголовно-политические и технико-юридические функции.
Вряд ли можно согласиться и с мнением относительно недопустимо высокой неопределенности предписаний ч. 2 ст. 14 УК РФ. С точки зрения Конституционного Суда Российской Федерации, использование оценочных понятий само по себе не нарушает требований к определенности уголовного закона: «Согласно статье 3 УК Российской Федерации преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только данным Кодексом (часть первая), а применение уголовного закона по аналогии запрещается (часть вторая). Эти требования, предъявляемые к качеству уголовного закона, однако, не означают, что при формулировании его предписаний не могут использоваться оценочные или общепринятые понятия (категории), позволяющие учесть необходимость эффективного применения уголовно-правовых запретов к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2003 № 441-О, от 15.04.2008 № 260-О-О, от 02.04.2009 № 484-О-П, от 25.11.2010 № 1561-О-О, от 21.04.2011 № 572-О-О, от 05.03.2013 № 323-О и др.)»16.
Что же касается возможных злоупотреблений при применении ч. 2 ст. 14 УК РФ, на которые ссылаются критики нормы о малозначительности, то потенциально такая возможность заложена практически в каждом оценочном признаке уголовного закона. И малозначительное деяние, которое описано в ч. 2 ст. 14 УК РФ с использованием оценочных понятий, разумеется, не является исключением в этом плане. Однако это обстоятельство само по себе не дает достаточных оснований для отказа от категории малозначительности, равно как и иных оценочных признаков; скорее оно побуждает к доктринальной и нормативной конкретизации оснований и критериев малозначительности.
Нельзя признать убедительными и доводы относительно существования иных способов реагирования на малозначительные деяния. Правила назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ), условное осуждение (ст. 73 УК РФ), изменение категории тяжести преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ) и иные привилегированные уголовно-правовые механизмы применяются в случаях, когда индивидуальная общественная опасность фактически совершенного деяния достигает криминального уровня, но значительно ниже типовой общественной опасности преступления, отраженной в санкции соответствующей статьи УК РФ. Что же касается ч. 2 ст. 14 УК РФ, то она рассчитана на применение к тем деяниям, которые лишены общественной опасности, свойственной преступлениям. Поэтому исключительные правила назначения наказания не способны подменить предписания о малозначительности. Это означало бы необоснованное применение уголовно-правовой репрессии (пусть и в «минимально дозированном» объеме) к лицу, которое не совершало преступления, что недопустимо с точки зрения конституционных норм и принципов уголовного права.
Таким образом, предложения об исключении ч. 2 ст. 14 УК РФ следует признать безосновательными. И хотя ч. 2 ст. 14 УК РФ далека от совершенства с точки зрения юридической техники (подробнее об этом пойдет речь далее), а ее применение довольно сложно, стоит вслед за А. Э. Жалинским констатировать, что «отказ от данной конструкции был бы преждевременным»17.
Предписания о малозначительности деяния будут востребованы до тех пор, пока сохраняется противоречие между формой (уголовной противоправностью) и содержанием (общественной опасностью) преступления. Это противоречие, по всей видимости, следует отнести к числу «вечных», неустранимых18. Оно обусловлено различными факторами, имеющими объективный и субъективный характер.
Прежде всего несовпадение формы и содержания преступления становится неизбежным в силу диалектического противоречия между абстрактностью уголовно-правовых норм и конкретностью запрещенных ими деяний. Как известно, «формулируя конкретный состав преступления, законодатель абстрагируется от особенностей и исключительных признаков, присущих множеству деяний, выделяя в качестве юридически значимых только те признаки, которые являются обобщенными, необходимыми и достаточными при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности»19. Уголовно-правовой запрет отражает определенный вид преступного поведения посредством указания на минимально необходимый объем признаков20, причем презюмируется, что их наличия достаточно для того, чтобы признать конкретное деяние преступлением. Однако применяется уголовно-правовая норма к конкретному деянию, обладающему множеством индивидуальных характеристик, которые не могут быть учтены в уголовном законе. Поэтому в реальной действительности конкретное деяние может в силу индивидуальных характеристик (интенсивность посягательства, время, место, обстановка, способ, размер последствий, мотив, цель и т. п.) не обладать общественной опасностью, свойственной преступлениям, хотя по форме оно полностью соответствует абстрактным признакам состава преступления.
Практика демонстрирует множество подобных примеров.
Так, с точки зрения уголовного закона незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, вне зависимости от мотива и цели проникновения, а также его продолжительности. Устанавливая уголовную ответственность за нарушение конституционного права на неприкосновенность жилища, законодатель делает акцент лишь на незаконности проникновения в жилище21, абстрагируясь от иных обстоятельств. Однако в конкретной ситуации совокупность индивидуальных свойств деяния может снизить общественную опасность нарушения неприкосновенности жилища до такого уровня, при котором применение уголовно-правовой репрессии становится явно нецелесообразным. Так, например, Нижегородский областной суд признал малозначительным незаконное проникновение в жилище на несколько секунд, совершенное с целью высказать претензии по поводу производимого жильцами шума22. Это деяние, безусловно, соответствует всем признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, однако с учетом непродолжительности проникновения, мотива, обстановки его совершения оно обоснованно было расценено судом как не представляющее общественной опасности.
Состав грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ) образует открытое хищение чужого имущества любой стоимости. Тем не менее на практике грабеж, предметом которого явилось малоценное имущество, в определенных случаях с учетом незначительного ущерба потерпевшему все-таки признается малозначительным. В качестве примера можно привести открытое хищение коробки мармелада стоимостью 165,55 рубля23, банки кофе стоимостью 102,06 рубля24.
Подобные примеры, перечень которых можно продолжить, убеждают в том, что «законодатель, конструируя состав преступления, в силу объективных факторов (не говоря уже о субъективных) порой не в состоянии учесть все многообразие жизненных ситуаций и успеть за изменением политической, социальной и экономической ситуации в стране. Поэтому в практике возникали, возникают и будут возникать ситуации, когда констатация соответствия между содеянным и составом преступления, описанным в уголовном законе, будет недостаточна для оценки деяния как преступного ввиду отсутствия в нем общественной опасности»25.
Противоречие между формой и содержанием преступления, между уголовной противоправностью и общественной опасностью деяния неизбежно в силу отставания консервативной системы уголовно-правовых запретов от динамики социальных отношений. В результате социально-экономических, технологических, политических, культурно-нравственных трансформаций некоторые деяния, признаваемые преступлениями, утрачивают общественную опасность. «В этих случаях уголовно-правовые нормы уже не соответствуют регулируемым ими общественным отношениям и должны подвергаться изменениям в такой же мере, в какой изменяются последние»26. Обращая внимание на это обстоятельство, Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что «в случаях, когда предусматриваемые уголовным законом меры перестают соответствовать социальным реалиям, приводя… к избыточному применению государственного принуждения, законодатель обязан привести уголовно-правовые предписания в соответствие с новыми социальными реалиями27.
Принимая решение о декриминализации деяния, законодатель всегда отстает, запаздывает. С момента, когда деяние под влиянием социальных изменений утратило общественную опасность, и до момента исключения соответствующего уголовно-правового запрета проходит какое-то время, порой весьма значительное28. В этот временной промежуток (а он может исчисляться годами) юридическая форма деяния, которое продолжает считаться преступлением, не соответствует его содержанию, поскольку оно перестало быть общественно опасным (по крайней мере, в уголовно-правовом смысле). И пока это противоречие между старой формой (уголовной противоправностью) и новым содержанием (отсутствием уголовно значимой общественной опасности) не разрешено посредством декриминализации деяния, сгладить возникшее противоречие может лишь норма о малозначительности (ч. 2 ст. 14 УК РФ).
Объективно неизбежное противоречие между формой (уголовной противоправностью) и содержанием (общественной опасностью) преступления углубляет избыточная криминализация деяний. Оценивая уголовно-правовые нормы на предмет соответствия Основному закону России, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что «федеральный законодатель… обязан избегать избыточного использования уголовно-правовой репрессии»29. Однако представители уголовно-правовой науки солидарны в том, что в настоящее время «законодатель использует уголовную репрессию не очень экономно»; «с каждым годом количество деяний, запрещенных под угрозой уголовного наказания, лишь растет; объемы криминализации постоянно увеличиваются». Развивая этот тезис, О. С. Капинус приводит следующие данные: «За время существования УК РФ в его Особенную часть включено 113 новых статей. В результате столь масштабного реформирования уголовного законодательства были криминализованы свыше 100 деяний. Для сравнения укажем, что исключено из Особенной части УК РФ только 10 статей. При этом полностью декриминализовано лишь 2 (!) деяния – оскорбление (ст. 130 УК РФ) и заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ). Таким образом, несмотря на официальные лозунги о либерализации уголовного законодательства, в нем явно прослеживается репрессивный уклон, который проявляется в перманентном увеличении числа уголовно-правовых запретов и сужении уголовно-правовых границ дозволенного поведения»30. Соглашаясь с подобными оценками, отметим, что с тех пор, когда были опубликованы процитированные строки, количество деяний, объявленных преступными, лишь увеличилось.
Впрочем, опасения у научной общественности и других институтов гражданского общества вызывают не столько высокие темпы и расширяющиеся объемы криминализации деяний (в определенные исторические периоды подобная уголовная политика может быть оправданной), сколько тот факт, что во многих случаях законодательные решения об установлении уголовной ответственности приняты в отсутствие необходимых предпосылок. В частности, в уголовно-правовой литературе в качестве примера избыточной криминализации приводятся уголовно-правовые запреты, предусмотренные ст. 171.3, 171.4, 200.1, 212.1, 322.2, 322.3, 330.2 УК РФ31. В результате возникает феномен так называемого «мнимого преступления», под которым в юридической науке понимается деяние, не обладающее общественной опасностью, но запрещенное уголовным законом под угрозой наказания32.
Избыточная криминализация деяний проявляется не только в конструировании уголовно-правовых запретов в отношении деяний, не обладающих необходимым уровнем общественной опасности, но и в занижении границ криминообразующих признаков существующих составов преступлений, в необоснованной межотраслевой дифференциации уголовной и административной ответственности. В этом отношении показательным примером является законодательное разграничение уголовно наказуемых хищений и мелкого хищения, образующего административное правонарушение. Напомним, что в соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ хищение имущества в форме кражи, мошенничества, присвоения или растраты признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает 2500 рублей и отсутствуют квалифицирующие признаки, предусмотренные ст. 158, 159–159.3, 159.5–160 УК РФ. В результате подобной межотраслевой дифференциации «банальная» кража курицы из курятника, консервированных овощей из погреба, групповая кража бутылки водки, банки консервов, булки хлеба, палки колбасы из магазина признается уголовно наказуемой лишь потому, что она совершена группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ) либо с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), т. е. при наличии квалифицирующих признаков. При этом во многих подобных случаях (а их количество измеряется десятками тысяч) общественная опасность содеянного не дотягивает до криминального уровня, вследствие чего правоприменительные органы вынуждены признавать квалифицированные хищения чужого имущества стоимостью менее 2500 рублей малозначительными деяниями. Как показывает практика, именно в этой сфере положения ч. 2 ст. 14 УК РФ применяются наиболее часто.
В условиях избыточной криминализации деяний разрыв между формой (уголовной противоправностью) и содержанием (общественной опасностью) увеличивается, что неизбежно повышает «спрос» на применение ч. 2 ст. 14 УК РФ, делает ее очень востребованной. Поэтому количественные показатели применения предписаний о малозначительности деяния, по идее, можно рассматривать как один из индикаторов качества уголовного законодательства и использовать этот индикатор в процессе мониторинга правоприменения. Если на практике малозначительными признаются лишь единичные деяния, предусмотренные составом преступления определенного вида, или ч. 2 ст. 14 УК РФ к определенному деянию вообще не применяется, то это может служить подтверждением того, что законодатель, установив уголовно-правовой запрет, адекватно оценил общественную опасность деяния, что уголовно-правовая норма в целом верно отражает социальную действительность. И, напротив, чрезмерно активное, массовое применение ч. 2 ст. 14 УК РФ к определенной разновидности деяний, признанных преступными, свидетельствует о расхождении законодательной оценки и реальной общественной опасности деяния, показывая тем самым потребность в декриминализации этого деяния (полной или частичной). В массовом порядке расценивая какое-либо уголовно-противоправное деяние в качестве малозначительного, правоприменительные органы посылают «сигнал» законодателю о необходимости изменить его нормативную оценку.
The free sample has ended.