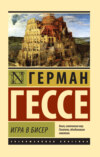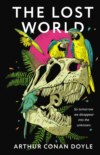Read the book: «Тайна поместья Горсторп», page 6
Сделав изящную каденцию19, ее голос стих, и она просительно вытянула руки. Я склонен поддаваться женскому влиянию. К тому же что было бы привидение Джоррокса против этого? Мог ли я найти призрак в лучшем вкусе? Стоило ли мне подвергать мои нервы угрозе новых встреч с полуистлевшими существами или же прямо сейчас ответить прекрасной гостье согласием? Она, словно угадав мои мысли, наградила меня ангельской улыбкой, которая решила дело.
– Она мне подходит! – воскликнул я. – Беру!
Воодушевившись, я сделал шаг ей навстречу, выйдя из защищавшего меня магического круга.
– Арджентайн, нас ограбили!
Я смутно слышал эти слова, но они были сказаны, вернее, выкрикнуты, много раз, прежде чем я смог наконец уразуметь, что они означают. Переняв их ритм, кровь неистово застучала у меня в голове, и монотонное «ограбили, ограбили, ограбили», подобно колыбельной, смежило мои веки. Когда же энергичное встряхивание заставило меня открыть глаза, я увидел миссис Д’Одд, менее, чем когда-либо, одетую и более, чем когда-либо, разъяренную. Впечатление, произведенное ею, оказалось достаточно сильным для того, чтобы собрать мои рассеянные мысли, и тогда я понял, что лежу навзничь на полу среди пепла, выпавшего из камина. В руках у меня была маленькая склянка.
Я с трудом встал, но от слабости и головокружения не мог стоять и снова упал в кресло. По мере того как мой мозг прояснялся, стимулируемый криками Матильды, я вспоминал события минувшей ночи. Вот дверь, в которую входили мои сверхъестественные гости. Вот меловой круг с иероглифами на полу. Вот бутылка из-под бренди и коробка из-под сигар, которые мистер Абрахамс почтил своим вниманием. Но где сам торговец привидениями и почему из открытого окна свисает веревка? И где, о где же гордость поместья Горсторп – великолепное блюдо, предназначенное услаждать взоры многих поколений Д’Оддов? Наконец, зачем миссис Д’Одд стоит передо мной в рассветной мгле, заламывая руки и твердя одни и те же слова? Прошло немало времени, читатель, прежде чем мой затуманенный ум нашел ответы на все эти вопросы.
Мистера Абрахамса я никогда более не видел, равно как и блюда с восстановленным гербом моего рода. Но огорчительнее всего то, что с тех пор передо мной ни разу не мелькнуло печальное привидение в колеблющихся одеждах. Больше я его не жду. Собственно говоря, события той ночи излечили мою манию сверхъестественного, настолько примирив меня с девятнадцатым веком, что я переселился в заурядное современное здание на окраине Лондона, давно облюбованное миссис Д’Одд.
Если же читатель желает получить объяснение произошедшему, то таковых объяснений может быть несколько. В Скотленд-Ярде не исключают, что мистер Абрахамс есть не кто иной, как Джемми Уилсон, он же Ноттингемский Домушник. Во всяком случае, приметы этого замечательного грабителя очень напомнили мне моего продавца привидений. Упомянутый мной саквояж нашли на соседнем поле. Внутри оказался превосходный набор отмычек и сверл. Глубокие отпечатки ботинок на грязи по обе стороны рва указывали на то, что сообщник, которого я видел накануне приезда мистера Абрахамса, принял у него мешок с ценными металлическими изделиями, выброшенный из окна. Несомненно, эти негодяи, рыская в поисках работенки, услыхали неосторожные речи Джека Брокета, хлопотавшего по моему поручению, и не замедлили воспользоваться соблазнительной возможностью.
Что же касается менее материальных визитеров, чьим причудливым видом я насладился в ту ночь, то стоит ли приписывать их появление какой-либо иной силе, кроме оккультных познаний моего Ноттингемского друга? Я долго колебался и наконец решил рассеять свои сомнения, обратившись к известному медику, которому я послал несколько капель так называемой «эссенции лукоптоликуса» со дна моей склянки. Полученный ответ прилагаю для сведения читателя. Счастлив завершить мое небольшое повествование весомыми словами ученого мужа.
«Эрандел-стрит.
Многоуважаемый сэр! Ваш исключительный случай чрезвычайно заинтересовал меня. Присланный вами флакон содержит сильный раствор хлорала. То его количество, которое вы, как следует из вашего письма, выпили, должно быть эквивалентно по меньшей мере восьмидесяти гранам20 чистого гидрата, чего вполне достаточно, чтобы вызвать у вас частичную потерю сознания с постепенным переходом в полную кому. Людям, находящимся в полубессознательном состоянии вследствие приема хлорала, нередко являются странные виде́ния, изобилующие причудливыми деталями. Наиболее сильное воздействие это вещество оказывает на тех, кто не привык к его употреблению. В своем письме вы сообщаете, что ваш ум был насыщен литературой о привидениях и что на протяжении долгого времени у вас наблюдался нездоровый интерес к классифицированию разнообразных форм, якобы принимаемых сверхъестественными существами. Не забывайте также о том, что вы ожидали чего-то в таком роде и тем самым довели вашу нервную систему до крайнего напряжения. При этих обстоятельствах описываемый вами эффект отнюдь не удивителен. Более того, если бы вы ничего подобного не ощутили, любой, кто сведущ в наркотиках, был бы весьма удивлен.
Засим, милостивый сэр, остаюсь искренне уважающий вас,
Т. Э. Штубе, доктор медицины.
Эсквайру Арджентайну Д’Одду
Вязы, Брикстон».
1883
Перевод М. Николенко
Джон Бэррингтон Каулз
Часть I
Если я скажу, что связываю смерть моего бедного друга Джона Бэррингтона Каулза с какой-либо сверхъестественной причиной, это мое суждение, вероятно, покажется вам опрометчивым. Мне известно, что при нынешнем состоянии умов подобные утверждения допустимы только тогда, когда подкреплены прочной цепочкой фактов. Поэтому я лишь постараюсь как можно лаконичнее и яснее изложить обстоятельства, приведшие к печальному событию, а выводы предоставлю читателям: пусть каждый делает собственные умозаключения. Вероятно, кто-нибудь сумеет пролить свет на то, что для меня тьма.
Впервые я встретил Джона Бэррингтона Каулза, когда приехал в Эдинбургский университет изучать медицину и поселился на Нортумберленд-стрит у вдовы, которая, имея большой дом, но не имея детей, получала средства к существованию сдачей комнат нескольким студентам. Комната Бэррингтона Каулза оказалась на одном этаже с моей. Познакомившись ближе, мы сняли еще и маленькую гостиную, в которой вместе обедали. Так началась дружба, не омраченная ни единой размолвкой вплоть до самой смерти Каулза.
Отец его на протяжении многих лет жил в Индии, где командовал полком сикхов. Мой друг имел благодаря родителю достаточный доход, но редко получал иные знаки отцовского внимания. Письма Каулза-старшего приходили неаккуратно и были коротки, что очень уязвляло сына: рожденный в Индии, он обладал страстным тропическим темпераментом. Мать Бэррингтона Каулза умерла, заполнить пустоту было некому.
По этой причине он сосредоточил все душевные силы на мне, и между нами установилась такая доверительная дружба, какую нечасто встретишь среди мужчин. Даже когда им овладела страсть более глубокая и сильная, наша взаимная привязанность не сделалась слабее.
Каулз был высок и худощав, его оливковое лицо с нежными темными глазами напоминало портреты кисти Веласкеса. Мне редко доводилось видеть молодых людей, более способных привлекать внимание женщин и овладевать их воображением. Как правило, он бывал задумчив, даже апатичен, но если речь заходила о чем-то для него интересном, вмиг оживлялся: на лице появлялся румянец, глаза блестели. В такие минуты Каулз делался превосходным оратором, легко увлекавшим слушателя за собой.
Невзирая на эти данные природой преимущества, мой друг жил уединенно, предпочитая женскому обществу усердное чтение. Он был одним из лучших студентов своего курса, имел медаль по анатомии и премию Нила Арнотта по физике.
Как хорошо я помню тот день, когда мы впервые встретили ее! Много раз, мысленно возвращаясь к тем обстоятельствам, я пытался точно определить, каким было изначальное впечатление, произведенное ею на меня. После того как мы узнали, кто она, мое суждение перестало быть непредвзятым, и впоследствии хотелось вспомнить, что подсказал мне инстинкт при первой нашей встрече. Однако впоследствии, чем бы ни были вызваны мои чувства к ней – разумом или предубеждением, отбросить их оказалось нелегко.
Мы встретились на вернисаже в Королевской шотландской академии художеств весной 1879 года. Мой бедный друг страстно увлекался всевозможными изящными искусствами. Его тонкая натура получала изысканное удовольствие и от музыкальных созвучий, и от гармонии красок на холсте. Итак, придя вместе с Каулзом на выставку картин, я заметил в дальнем конце пышного главного зала удивительно красивую женщину. За всю свою жизнь я не видел другого столь же классически совершенного лица. Это чистый греческий тип: лоб широкий, низкий, мраморно-белый в облачке нежных локонов, линия носа прямая и четкая, губы скорее тонкие, нежели полные, подбородок прелестно закруглен и вместе с тем достаточно развит, чтобы свидетельствовать о необычайной силе характера.
Но самое удивительное в ней – это глаза! Если бы я только мог передать, как они бывают изменчивы – то стальные, то женственно мягкие, они обладают повелительной силой и проницательностью, способной внезапно таять, сменяясь выражением беззащитности… Но не стану говорить о будущих моих впечатлениях.
На вернисаже эту леди сопровождал высокий блондин, в котором я узнал Арчибальда Ривза, студента-юриста. Мы были с ним немного знакомы. В свое время ни одна веселая студенческая авантюра не обходилась без предводительства этого энергичного красавца, но с недавних пор я слышал о нем мало: поговаривали, будто он решил жениться – очевидно, на той молодой даме, с которой пришел теперь на выставку. Я сел на бархатный диванчик посреди зала и, заслонившись каталогом, стал исподтишка наблюдать за парой.
Чем дольше я смотрел на девушку, тем ярче расцветала в моих глазах ее красота. Она была, надо признать, низковата, зато сложена безупречно и держалась так, что, не сравнивая ее с другими, я бы и не заметил недостатка роста.
Пока я наблюдал за ней и за ее женихом, его куда-то позвали. Дама осталась одна и, повернувшись к картинам спиной, принялась внимательно изучать присутствующих, нисколько не смущенная тем, что собственная ее элегантность и красота привлекают дюжину любопытных взглядов. Держась одной рукой за красный шелковый шнур, отгораживающий картины от публики, она переводила ленивый взор то на одно лицо, то на другое так же невозмутимо, как если бы рассматривала фигуры, нарисованные на холсте. В какой-то момент ее глаза остановились и приобрели сосредоточенное выражение. Захотев узнать, чем она вдруг заинтересовалась, я проследил за ее взглядом.
Джон Бэррингтон Каулз стоял перед одной из картин, кажется, Ноэля Патона. Во всяком случае, художник изобразил нечто возвышенное и эфемерное. Лицо моего друга было обращено к нам в профиль. Я уже упоминал о его на редкость привлекательной внешности, но в тот момент он казался просто ослепительно красивым. Очевидно, вовсе позабыв о своем окружении, Каулз всей душой углубился в созерцание картины. Глаза искрились, на чистой оливковой коже проступил смуглый румянец. Молодая дама, не отрываясь, с интересом за ним наблюдала, пока он, встрепенувшись, не вышел из задумчивости и не обернулся. Тогда их взгляды встретились. Она тотчас отвела глаза, но он еще несколько секунд продолжал на нее смотреть. Позабыв о картине, его душа спустилась на землю.
Прежде чем уйти, мы видели ту молодую леди еще раз или два, и я замечал, что Каулз глядит ей вслед. Он, однако, ничего мне не говорил до тех пор, пока мы не вышли на свежий воздух и не зашагали рука об руку по Принсес-стрит.
– Ты обратил внимание на ту красивую женщину в темном платье с белым мехом? – спросил мой друг.
– Да, видел такую, – ответил я.
– Знаешь ее? – произнес он взволнованно. – Кто она такая?
– Лично я с ней не знаком, но уверен, что можно многое о ней разузнать: ведь она, кажется, обручена с Арчи Ривзом, а с ним у меня много общих приятелей.
– Обручена?! – воскликнул Каулз.
– Дорогой мой, – рассмеялся я, – неужто ты сделался так уязвим, что известие о помолвке совершенно незнакомой девушки способно тебя огорчить?
– Не то чтобы я огорчился, – сказал Каулз, заставив себя усмехнуться в ответ, – но скажу тебе откровенно, Армитедж: я еще никогда никем так сильно не увлекался. Дело не столько в чертах лица, хотя они безупречны, сколько в характере и интеллекте, который в них отразился. Если она выходит замуж, то, надеюсь, за того, кто ее достоин.
– Ты говоришь с большим чувством, – заметил я. – У тебя, Джек, типичный случай любви с первого взгляда. Чтобы успокоить твой растревоженный дух, я постараюсь побольше о ней выведать, как только встречу кого-нибудь подходящего.
Бэррингтон Каулз поблагодарил меня, и разговор перешел на другие предметы. Несколько дней ни один из нас не упоминал о той женщине, хотя мой друг был, пожалуй, более задумчив и рассеян, чем обычно. Однажды, уже почти забыв тот случай, я встретил своего дальнего родственника Броуди. Он подошел ко мне на крыльце университета с видом гонца, несущего важную весть.
– Послушай, – сказал Броуди, – ты ведь, кажется, знаешь Ривза?
– Знаю. А что?
– Его свадьба отменяется.
– Отменяется?! – воскликнул я. – А я-то совсем недавно узнал, что он собирался жениться.
– Да, теперь ничего не будет: мне его брат сказал. Если Ривз сам пошел на попятный, то это чертовски подло с его стороны, тем более что девушка необыкновенно хороша.
– Я ее видел, – ответил я. – Но имени не знаю.
– Мисс Норткотт. Живет со старой тетушкой на Эберкромби-плейс. Кто родители, откуда она – никому не известно. Как бы то ни было, бедной девушке отчаянно не везет.
– В чем же ее невезение?
– Ну, видишь ли, это ведь уже вторая ее помолвка, – объяснил Броуди, обладавший поразительным свойством все обо всех знать. – Первым женихом был Уильям Прескотт, но он умер. Очень грустная история. Уже и дату свадьбы назначили, все было готово, и вдруг это несчастье.
– Какое? – уточнил я, что-то смутно припоминая.
– Как какое? Смерть Прескотта. Однажды он допоздна засиделся на Эберкромби-плейс. Когда ушел, никто точно не знает. Известно только, что около часа ночи он быстро шагал в сторону Куинс-парка, – один знакомый встретился ему на пути. Тот парень поздоровался, Прескотт не ответил. Живым его больше не видели. Через три дня нашли тело в озере Сент-Маргарет, возле часовни Святого Антония. Никто ничего не понял. В официальном отчете, разумеется, написали, что бедняга был в состоянии временной невменяемости.
– Очень странно, – заметил я.
– Да, и чертовски жаль девушку, – кивнул Броуди. – А теперь еще новый удар. Как бы он ее не сокрушил, ведь она такая нежная и хрупкая!
– Так ты ее лично знаешь? – спросил я.
– Да, знаю. Мы с ней несколько раз встречались. Если хочешь, могу тебя представить.
– Я, собственно, не для себя стараюсь, а для друга. После такого она, я думаю, вряд ли станет часто выходить из дому, но если случай все же подвернется, я воспользуюсь твоим предложением.
Мы пожали друг другу руки, и на какое-то время я забыл о нашем разговоре. Следующий эпизод, имевший отношение к мисс Норткотт, оказался неприятным. Я должен рассказать о нем как можно подробнее, поскольку это, вероятно, поможет пролить свет на последующие события.
Одним холодным вечером, через несколько месяцев после описанной встречи с Броуди, я шел от больного по одной из самых захудалых улиц города. Было уже поздно. Когда я пробирался сквозь толпу грязных бездельников, собравшихся у дверей большого питейного заведения, один из них, спотыкаясь, отделился от своих приятелей и с пьяной ухмылкой протянул мне руку. Свет газового фонаря упал ему на лицо, и я ахнул, узнав в этом опустившемся существе моего бывшего знакомого – Арчибальда Ривза, одного из самых щеголеватых и утонченных денди во всем колледже. В недоумении я сперва не поверил собственным глазам, но эти черты было ни с чем не перепутать. Опухшее от пьянства лицо Арчи все же не вполне лишилось своей привлекательности.
– Привет, Ривз! – сказал я, вознамерившись спасти его, хотя бы на один вечер, из той компании, в которой он оказался. – Идем со мной, нам по пути.
Он что-то невнятно пробормотал, извиняясь за свой вид, и взял мою руку. Поддерживая его, я дошел с ним до квартиры, где он жил. Мне стало ясно: он не просто страдает от похмелья. Долгое злоупотребление спиртным уже сказалось на его нервах и мозге. Ладонь у него была сухая и горячая, от каждой тени, падавшей на мостовую, он вздрагивал, говорил скорее как больной в бреду, чем как пьяница.
Доведя Ривза до дома, я раздел его до белья и уложил на кровать. Пульс у Арчи был очень частый: его, очевидно, лихорадило. Он как будто бы провалился в дремоту, и я уже собирался выскользнуть из комнаты, чтобы предупредить хозяйку о состоянии квартиранта, но он внезапно вздрогнул и, ухватив меня за рукав, крикнул:
– Не уходи! Мне лучше, когда ты рядом! Так она ничего мне не сделает!
– Она? Кто? – спросил я.
– Ну она, она! – ответил Ривз в раздражении. – Эх, ты ж ее не знаешь! Она дьяволица. Прекрасная, прекрасная дьяволица!
– У тебя жар, ты перевозбужден. Постарайся уснуть. Это должно помочь.
– Уснуть! – простонал он. – Да разве я могу спать, когда я вижу, как она сидит там, у меня в ногах, и смотрит своими глазищами! Смотрит и смотрит час за часом! Это все соки, все мужество из меня высасывает. Оттого-то я и пью. Господи, помоги мне, я и сейчас полупьян!
– Ты очень болен, – возразил я, смачивая виски́ Арчи уксусом, – у тебя бред. Ты сам не понимаешь, что говоришь.
– Еще как понимаю! – резко прервал он меня, подняв глаза. – Прекрасно понимаю. Я сам это на себя навлек. Сам выбрал. Был и другой выход, но я не смог, видит Бог, его принять. Остаться с ней было для меня невозможно. Это выше человеческих сил.
Я сел у постели и, взяв огненную руку Арчи, задумался над его странными словами. Некоторое время он лежал спокойно, потом поглядел на меня и жалобно произнес:
– Зачем она раньше мне не сказала? Зачем дожидалась, чтобы я полюбил ее так сильно?
Он повторил этот вопрос несколько раз, мотая горячей головой, и только тогда наконец забылся тревожным сном. Я тихонько вышел из комнаты и, удостоверившись, что о больном как следует позаботятся, вернулся к себе домой. Слова Ривза еще несколько дней звенели у меня в ушах. Они приобрели для меня больший вес после того, что случилось после.
Моего друга Бэррингтона Каулза тогда не было в Эдинбурге. Он уехал на летние каникулы, и несколько месяцев я ничего о нем не слышал. Когда же вновь начались занятия, я получил от него телеграмму с просьбой закрепить за ним его прежние комнаты на Нортумберленд-стрит. Каулз также сообщил мне, каким поездом возвращается. Я встретил его на вокзале и был очень обрадован тем, что он весел и имеет здоровый вид.
Вечером, когда мы, сидя у камина, говорили о прошедшем лете, Каулз неожиданно сказал:
– Кстати, ты ведь меня еще не поздравил!
– С чем, дружище? – спросил я.
– Как? Уж не хочешь ли ты сказать, будто не слыхал о моей помолвке?
– Помолвке? Нет! Но я рад слышать это теперь и от всего сердца тебя поздравляю.
– Удивительно, что до тебя не дошли слухи. Очень странно. Ты помнишь ту девушку, которую мы видели в академии и которая нас обоих восхитила?
– Что? – воскликнул я, и во мне смутно зашевелилось какое-то недоброе предчувствие. – Она и есть твоя невеста?
– Я знал, что ты удивишься, – ответил Каулз. – Когда я гостил у своей старой тетки в Питерхеде, в Абердиншире, туда приехали Норткотты. У нас оказались общие друзья, и мы познакомились. Слух о ее предыдущей помолвке был, как выяснилось, ложной тревогой. Ну а дальше… Ты представляешь себе, что бывает, когда встретишься с такой девушкой, как она, в таком месте, как Питерхед. Ты не подумай, – прибавил мой друг, – будто я поспешил, сделав ей предложение. Я ни секунды об этом не жалел. Чем дольше я знаю Кейт, тем больше ею восхищаюсь и тем сильнее люблю ее. Впрочем, я тебя представлю, чтобы ты мог составить о ней собственное мнение.
Я выразил удовольствие и постарался принять как можно более легкий, бодрый тон, но на сердце у меня было тяжело и тревожно. Трагическая судьба молодого Прескотта и слова Ривза постоянно вспоминались мне, и, хоть я не видел для этого достаточных оснований, мной овладевало боязливое недоверие к этой женщине. Может быть, у меня сложилось глупое предубеждение против нее, и впоследствии я невольно старался вписывать ее слова и поступки в мою чудовищную полуосознанную теорию – так, во всяком случае, говорят. Каждый волен иметь свое мнение, коль скоро оно сообразуется с фактами, о которых я рассказываю.
Через несколько дней я вместе с Каулзом нанес визит мисс Норткотт. Помню, что, когда мы шли по Эберкромби-плейс, наше внимание привлек пронзительный визг собаки. Оказалось, он доносился как раз из того дома, куда мы направлялись. Нас проводили на второй этаж, где я был представлен старой миссис Мертон, тетушке мисс Норткотт, и самой молодой леди. Она выглядела прекрасно, как всегда, и я не мог удивляться тому, что мой друг так ею увлекся. Лицо ее было чуть румянее обыкновенного, в руке она сжимала тяжелый хлыст, которым только что карала маленького скотч-терьера, чьи крики мы слышали с улицы. Теперь бедное запуганное животное жалось к стенке, жалобно скуля.
– Так значит, Кейт, – сказал Каулз, когда мы сели, – вы с Карло опять повздорили?
– На этот раз совсем немного, – ответила мисс Норткотт, обворожительно улыбаясь. – Он мой старый добрый дорогой друг, но иногда нуждается в исправлении. – Повернувшись ко мне, она прибавила: – Мы все иногда нуждаемся в нем, не так ли, мистер Армитедж? Как было бы полезно, когда бы нас наказывали не в конце жизни за все наши прегрешения сразу, а, как собак, за каждый проступок в отдельности! Это бы сделало нас осмотрительнее, вы не находите?
Я признал, что сделало бы.
– Представьте себе: всякий раз, когда человек поступает дурно, гигантская рука хватает его и сечет кнутом до тех пор, пока он не потеряет сознание, – продолжала мисс Норткотт, сжимая в своей белой руке собачий хлыст и яростно размахивая им. – Это скорее заставит его вести себя подобающе, чем любые разглагольствования о морали.
– Право, Кейт, – сказал мой друг, – ты сегодня что-то очень свирепа.
– Вовсе нет, Джек, – рассмеялась она, – я просто предлагаю мистеру Армитеджу мою теорию для рассмотрения.
Затем они заговорили о своих абердинширских воспоминаниях, а я стал наблюдать за миссис Мертон, все это время молчавшей. Она показалась мне очень странной пожилой леди. Внешность ее в первую очередь обращала на себя внимание полным отсутствием краски: волосы ее были белы как снег, лицо чрезвычайно бледно, губы бескровны. Даже глаза не оживляли этой картины, поскольку имели самый светлый из возможных оттенков голубого. Серое шелковое платье вполне гармонировало с общим впечатлением, производимым наружностью миссис Мертон. Выражение ее лица было странным: причины я тогда понять не мог. Вышивая какой-то старомодный узор, она размеренно двигала рукой, заставляя платье издавать сухое печальное шуршание, похожее на шелест осенней листвы. В этой женщине мне виделось что-то скорбное, наводящее тоску.
Я придвинул свой стул к ней поближе, чтобы спросить, нравится ли ей Эдинбург и давно ли она здесь, но когда заговорил, она вздрогнула и взглянула на меня испуганно. Тогда я понял, что все это время выражало ее лицо: страх, сильнейший всепоглощающий страх. Я мог бы поклясться собственной головой: женщина, сидевшая передо мной, пережила нечто ужасное.
– Да, мне здесь нравится, – произнесла она тихим боязливым голосом. – Мы здесь давно… то есть не очень. Мы много переезжаем.
Миссис Мертон говорила осторожно, словно боясь сказать лишнее.
– Вы, стало быть, местная? Уроженка Шотландии? – спросил я.
– Нет… то есть не совсем. Мы нигде не местные. Мы, знаете ли, космополитичны.
При этих словах моя собеседница повернула голову и посмотрела на мисс Норткотт: та по-прежнему болтала с Каулзом у окна. Тогда миссис Мертон вдруг наклонилась ко мне и едва ли не с мольбой сказала:
– Пожалуйста, не говорите со мной больше. Она этого не любит, и мне потом придется страдать. Прошу вас, не надо.
Я хотел узнать причину столь странной просьбы, но миссис Мертон, заметив мое намерение снова к ней обратиться, поднялась с места и медленно вышла из комнаты. В этот момент влюбленные замолчали, и я почувствовал, что мисс Норткотт смотрит на меня своими проницательными серыми глазами.
– Извините мою тетушку, мистер Армитедж. Она немного странная и легко утомляется. Присоединяйтесь к нам, взгляните на мой альбом.
На протяжении некоторого времени мы рассматривали портреты. Родители мисс Норткотт показались мне людьми вполне обыкновенными: в их лицах я не нашел тех черт характера, которые так ярко выражались в наружности дочери. Один старый дагерротип21, однако, привлек мое внимание. На нем был изображен мужчина лет сорока, очень красивый. Его чисто выбритый крупный подбородок и твердая прямая линия рта свидетельствовали о невероятной силе воли. Глаза, правда, были посажены чересчур глубоко, и лоб казался слегка приплюснутым, как у змеи, что несколько портило лицо. Увидав этот портрет, я почти невольно указал на него и воскликнул:
– Вот, мисс Норткотт, на кого из ваших родных вы похожи!
– Вы находите? – отозвалась она. – Боюсь, это плохой комплимент для меня. Дядю Энтони в нашей семье всегда считали паршивой овцой.
– В самом деле? – ответил я. – В таком случае я очень сожалею о своем замечании.
– Напрасно. Я всегда считала, что он один стоит их всех, вместе взятых. Он был офицером сорок первого полка и погиб на персидской войне22. Это, по крайней мере, благородная смерть.
– Я тоже хотел бы так умереть, – сказал Каулз, и его глаза заблестели, как всегда, когда он воодушевлялся. – Я часто жалею, что не пошел по стопам отца, а занялся этими скучными пилюлями.
– Полно, Джек, тебе пока еще вовсе незачем умирать, – возразила мисс Норткотт, ласково взяв его за руку.
Я не понимал этой девушки. Меня сбивало с толку то, как причудливо смешивались в ней мужская решительность и женская мягкость, и было еще что-то особенное, ее собственное, ощущаемое в глубине. Поэтому я растерялся, когда Каулз, прогуливаясь со мной по улице, задал расплывчатый вопрос:
– Ну, что ты о ней думаешь?
– Она удивительно хороша собой, – ответил я осторожно.
– Это само собой! – раздраженно воскликнул мой друг. – Это ты и раньше знал.
– Еще она, по-моему, очень умна, – сказал я.
Некоторое время Бэррингтон Каулз шагал молча, а потом вдруг повернулся ко мне и спросил:
– Она не кажется тебе жестокой? Ты не думаешь, что она из тех девушек, которым нравится причинять другим людям боль?
– Пожалуй, – ответил я, – у меня было маловато времени, чтобы составить мнение о ней.
Мы еще помолчали. Затем Каулз неожиданно пробормотал:
– Эта старая дура сумасшедшая.
– Кто? – уточнил я.
– Да та старуха, тетка Кейт. Миссис Мертон или как там ее…
Я догадался, что бледная дама поговорила и с Каулзом, но о чем – этого он мне не сказал.
В тот вечер он рано лег спать, а я долго сидел у камина, размышляя об увиденном и услышанном. Чувствовалось, что с девушкой связана некая тайна, причем тайна слишком темная и странная, чтобы можно было ее разгадать. Я подумал о последнем визите Прескотта на Эберкромби-плейс и о трагедии, произошедшей после, связал эту мысль с жалобным криком пьяного Ривза: «Почему она раньше мне не сказала?» – и с другими его словами. Потом я вспомнил испуганную миссис Мертон и ее просьбу более с ней не разговаривать, и странное впечатление, которое она произвела на Каулза, а также эпизод с избитой собакой.
Все эти воспоминания подействовали на меня довольно неприятно, и все же у меня не было оснований обвинить мисс Норткотт в чем-либо определенном. Я только повредил бы делу, если бы попытался предостеречь друга, сам не разобравшись, от чего именно я его предостерегаю. Любые упреки в адрес возлюбленной вызвали бы у него только презрительный смех. Что я мог сделать? Из какого источника добыть достоверные сведения о ее прошлой жизни, о ее характере? В Эдинбурге никто как следует не знал их семьи. Насколько мне было известно, родителей она потеряла, а о том, где выросла, никому не рассказывала. Вдруг меня осенило: среди друзей моего отца был полковник Джойс, долго служивший в Индии при штабе. Он, по всей видимости, должен был знать большинство офицеров, которых направляли туда после восстания сипаев23. Я тут же сел, заправил лампу и принялся за письмо к полковнику. Я написал ему, что очень хотел бы получить сведения о некоем капитане Норткотте из сорок первого пехотного, который погиб в Персии. Описав внешность капитана, насколько она запомнилась мне по дагерротипу, я указал на конверте адрес и тотчас отправил письмо, после чего лег в постель. Отчасти удовлетворенный тем, что все возможное сделано, я по-прежнему был слишком обеспокоен, чтобы уснуть.