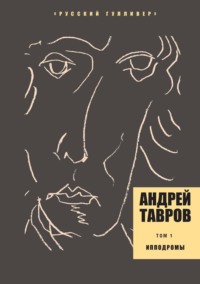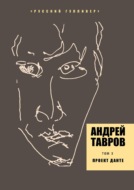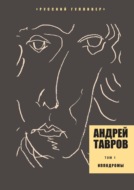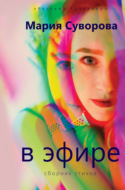Read the book: «Том 1. Ипподромы»
© Андрей Тавров, 2023
© Русский Гулливер, издание, 2023
© Центр современной литературы, 2023
Об ипподромах Андрея Таврова
В издательстве «Русский Гулливер» готовится четырехтомное собрание сочинений Андрея Таврова, большая работа, призванная представить читателю творчество крупнейшего поэта-современника в наиболее полном объеме. Перед вами первый том собрания, названный автором «Ипподромы». Продолжатель традиции метареализма (Алексей Парщиков, Иван Жданов, Александр Еременко, Илья Кутик, Юрий Арабов, Марк Шатуновский и др.), Тавров создает свою поэтику самостоятельно, перекликаясь с предшественниками лишь в формальных вещах. Метареалисты верили, что с помощью метафоры могут описывать мир, и создавать его заново. Сложность их художественных построений требовала навыков работы с образом и словом, прозрений, инсайтов, масштабности замысла, что к концу ХХ века по ряду причин отошло на второй план, дав дорогу легковоспроизводимой актуальной поэзии. Времена меняются, технологии облегчают нам жизнь, но это вовсе не значит, что в области художественного слова происходит прогресс.
Андрею Таврову, несмотря на смену нескольких литературных эпох, удалось создать жизнеспособную поэтику, которая, опираясь сама на себя, проложила себе дорогу из ХХ-го в ХХI-й век, закрепилась в нем, нашла поклонников и последователей. Есть вероятность, что продолжать писать стихи в рамках, предложенных Тавровым, невозможно хотя бы потому, что понятийный аппарат и способности образного мышления существенно оскудели. Великие творцы прошлого (Данте, Блейк, Мандельштам) остаются вне поля зрения начинающих авторов – равняющихся не на образцы прошлого, а на художественный опыт друг друга. Андрей Тавров своим присутствием в литературе создает гравитационный момент – действие на внешнюю часть системы со стороны внутренней. Заданный им вектор стихосложения нельзя не учитывать, современная поэзия немыслима без его стихов. Сергей Алиханов когда-то сформулировал эту мысль следующим образом. «Творчество Андрея Таврова относится к редчайшему ныне виду интеллектуальной литературы. Без системного гуманитарного знания понять эти стихи невозможно. Но тем и хорош поэтический мир Таврова, что уже на дальних подступах отсекает невежд от людей грамотных, либо стремящихся стать таковыми».
В первом томе собрания, представлены стихи от 1968-го года до 2008-го. Буквально с первого стихотворения формулируется кредо поэта, пусть пока не столь выверенное, сколь прекрасное в своей наивности – «и вся в метафорах проснется верба, чтоб этот первый дня безумный свет вписать в рисунок ветреных гипербол». «И чем, случайней, тем верней», говорил другой великий предшественник. Тавров подвижен, он в поиске случайностей и закономерностей. Эмиль Сокольский в очерке «Простые формы в пространстве сложной иллюзии» пишет: «В сущности, все стихотворения Андрея Таврова исходят из концепции обновления поэтического мышления. Концепции, как я не раз замечал, иссушают поэзию: стихи «делаются», а не свободно выдыхаются. Для Таврова же, за творчеством которого я слежу несколько лет, концепция служит источником вдохновения. В одной из своих работ он признался, что для него на текущий день «культя выражает руку намного мощнее и сильнее, чем сама рука. Потому что культя – это очень простая форма тычка, лба кашалота, бессловесного удара, на которую не способны пальцы – такие жеманные, такие холеные, такие способные сложиться в фигу или в фальшивый жест, скопированный с телеэкрана, накрасить ногти, выложить татуировку, надеть кольца, словом – делать то же самое, что делает современное стихотворение».
Чтобы прийти к такому пониманию жеста, нужно написать этими самыми «жеманными» ненужными пальцами километры поэтических строк, признав после этого, что «тычок» или подобный ему жест, всегда действенней поэтического слова. Нечто бессловесное всегда сильнее. Стихи Таврова и рождаются из этой дословесной стихии и тьмы. Именно принадлежность к этой стихии определяет, является ли написанный текст поэтическим или нет. Тавров всегда недоверчиво относился к вторичному, «скопированному с телеэкрана», к центону и цитате. В одном из своих очерков он приводит слова Павла Флоренского о подлинности: «Подлинником, а не копиями вводится художественная энергия в мир, они же лишь расширяют область ее внедрения». Он пишет об утрате поэтической энергии в век массового копирования. «Автор умирал, но не умер, но тем не менее, личностное начало стихотворения, похоже, что сильно деградировало в период редуцирования, изъятия из оборота понятия «автор» <…>. Личностное начало стихотворения (имя) – сущность, пропускающая энергию из бесконечного потенциального резервуара, не может быть зафиксирована словесно и концептуально, но находится ближе всего к личностному имени человека, как к роднику личности, как к «роднику самого стихотворения» по Флоренскому в свободном пересказе <… > имя (в его глубине) человека и имя стихотворения не тавтологичны, как и имена ангела и растения, но явно, что оно, как и все имена, пришло из Райских пространств, чтобы навести сумеречный мир, считающий себя за мир нормативный, на резкость или хотя бы осветить его краткой вспышкой, критической или просветляющей».
Процесс создания метафор не столько ремесленный, сколько интуитивный труд. Я давно перестал понимать назначение метафоры в поэзии, вернее, метафоры как самоцели. Однако то, «что в доме как прялка стоит тишина» у Мандельштама – именно прямое попадание, сообщение, не вызывающее сомнения. Это не творение интеллекта или языка, так работает орган, натренированный к созданию поэзии, чутье, наработанное опытом поколений. Может, меня смущает изобретательность, виртуозность, работа фантазии, а главное – чрезмерная густонаселенность стихов Таврова? Он на мой скепсис отвечает: посмотри, насколько мир многопредметен, тут и улитки, и кирпичи, и деревья, и волны морские, и культурные образы. Почему Бог создал человека так избыточно, так изобильно сложно? Смотри сколько органов восприятия, нюансов, возможностей. Зачем-то это было надо. И несмотря на все это чудовищное разнообразие – во всем целостность, единство. Метафора и существует, чтобы еще раз эту целостность подчеркнуть.
Тавров обращается к земле, осени, героям античного пантеона, к городам и морям, к Сатурну и Себастьяну, Антонену Арто и Гамлету, Москве, к времени, к небесам. «Расшнуруй меня, ворог мой, время, с подбородка – кроссовку с Итаки, чтобы кровь, словно бренное бремя, красным маком отмерзла во мраке». «Чем была ты в моей судьбе? – касанием щек, папиросной бумагой платья, свеченьем ног…». «Если слышишь сейчас скрипенье на белом пера, махни оттуда рукой – мелькнет на обоях, это значит в далекой Гранд-Опера есть пустое место для нас обоих (из «Посвящения отцу»). «Ангел мой, не молчи, закрути барабан, поменяй окуляр!», «Придите, полные света, неизреченного звука! Придите, Ангелы, но приведите с собой крота» (из «Зимы Ахашвероша»).
Именно переход к прямой речи создает вспышки и чувство возвращения на другую землю, уже прошедшую через душу поэта. Личные интонации подкупают, внушают доверие к автору, но выбор собеседника и невероятно широкий круг этих собеседников, напоминает о том, что поэт, разговаривая с читателем, имеет в виду одновременно весь мир. И это должно подкупать еще больше, потому что читатель становится вместе с поэтом всем миром. Тавров пытается уйти от столь привычной нынче позиции поэта – замкнутости на себе самом, от нарциссизма дрожащих пальцев и горящих глаз. «Поэзия – дело не частное и не общественное. Поэзия – дело мировое» (А. Тавров). В одном из интервью Андрей Михайлович говорит, что старается избегать разговоров с самим собой. «Для меня это один из симптомов больного, нецелостного сознания, картину которого развернул Джойс, проанализировал Фрейд и продемонстрировал Беккет. Вообще ХХ век в области литературы (да и живописи с музыкой) посвятил себя изучению больной стороны человеческого сознания, изучению болезней – Кафка, Юнг, Фрейд, Батай… Мне кажется, что пора вернуться к поискам того, что люди испортить не могут, – к заданному в жизни вдохновению, здоровью, глубине необусловленной жизни, а не правилам обусловленного интеллекта». Я когда-то расшифровывал мысль Андрея в другой формулировке: «быть цельным в раздробленном, прямым – в кривом». Был уверен, что это чрезмерное требование к человеку, привыкшему к жизни в мире симулякров и подмен. Жизнь оказалась серьезней наших гуманитарных представлений. Оказалась жестче, проще и архаичнее. Подстраиваться под нее нет смысла, она выстроит нас сама. Другое дело, что обойти стороной травматизм жизни, где по Баратынскому «болящий дух врачует песнопенье», уже не удастся. Стихотворение в виде «текста», и только, приказало долго жить. В мир возвращается песня, молитва, псалом. Все, что может помочь и согреть. Бессмысленные поделки постмодерна в одночасье сметены с рабочего стола современного поэта. Эту пустоту необходимо восполнить.
Мне близка мысль Таврова о существовании в стихотворении двух типов слов. Первый тип обслуживает некоторый дискурс, рассказывает о событии. Это слова, которые расставлены в определенном порядке, и могут жить и поэзии, и прозе (Тавров приводит в пример «Василия Теркина», хотя проще обратиться ко всему корпусу современной актуальной поэзии). Второй тип – слова самодостаточные, как бы вещественные. Они выражают что-то, являют, и сами являются чем-то («Стихи о Неизветном солдате»). Слова второго сорта могут быть из любого лингвистического ряда – от вульгарного до самого высокого – но при этом звучать и действовать, царапать глаз и хрустеть на зубах. В сумме этот словесный орнамент создает ауру стихотворения, которая и является его главным смыслом. Совокупность всего, что в стихотворении есть: созерцательность и движение, тишина и крик. Стихотворение – живое существо. Оно может существовать в пространстве идей до его написания. Поэт угадывает его и однажды неожиданно для себя проговаривает. «И сказал Бог: да будет свет». Действие и слово здесь тождественны.
Поэт Андрей Тавров тем и отличается от других представителей школы метареализма, что не оставил своей веры, что еще недавно было немодно, а даже предосудительно. Его стихи трудно назвать религиозными или духовными, но что-то их явно выделяет из текстов активных безбожников. Иное освещение за кадром, неслышное многоголосье, другой источник вдохновения. В интервью Наде Делаланд Тавров дает неожиданное, но удивительно понятное определение такого рода поэзии. Это та поэзия, которая учитывает обе части цветаевской формулировки – «безмерность в мире мер». Если ударение идет на первой части – то это не поэзия, а медитация. Если на второй – то это редукция поэзии, это поэзия, которое нельзя назвать духовной. Если поэзия внимательна к обеим частям – она духовна. Писать духовные стихи и писать «о Боге» – разные вещи. Большинство стихов о Боге – не являются духовной поэзией. Бог должен быть не назван – он должен присутствовать в стихотворении (лучше, если анонимно). Этих «имен бога» (их отражений) в поэзии Таврова множество. Орфей, Персефона, Рембрандт, Шекспир, Брейгель, Беатриче, Изольда, Лорелея, Гайдн, Иаков, Овидий, Александр Мень, Майлз Дэвис, Ахашверош, Лао-цзы, лебедь, дирижабль, листопад, шум дождя, пар изо рта, черный зонт, пустые дворы…
Симона Вейль говорила, что преступно называть Богом то, что им не является. Андрей Тавров спорит с ней: «Что значит – не является? Это значит, что некая референтная группа решила, что эта вещь называется так-то, или это значит, что человек перечисляет «дерево», «земля», «берег», даже не чувствуя и не ощущая жизни того, о чем идет речь в этих словах? Не говоря уже о таких явлениях, как жизнь, смерть, рождение… Как же их назвать верно, как почувствовать в них то, чем они являются? Прожить это на опыте, приобщиться к этим «вещам». У человека не совсем еще убит этот реалистичный орган восприятия.
В довершении приведу слова Ольги Баллы о поэзии Таврова: «Тавров глубоко архаичен, даже изначален. Он всем собой отвечает на (уже готовый сорваться с читательского языка) вопрос, как совместимо мифологическое сознание со сложным и тщательно осознанным культурным опытом XX–XXI века. Да вот же, совместимо. (Ну, например, потому, что мифологическое сознание глубже любого культурного опыта и ему, строго говоря, ничто не противоречит: оно способно врастить в себя всё)».
Возвращению мифологического и символического сознания в нашу культуру, вот уже полвека способствует поэзия Андрея Таврова, за что, мы, читатели, должны быть ему предельно благодарны. Его образы прозвучат в джазе, в романсе, в голосах наших детей.
Вадим Месяц
Ранние стихи
«Как легок он, предутренний сонет…»
Как легок он, предутренний сонет,
и вся в метафорах проснется верба,
чтоб этот первый дня безумный свет
вписать в рисунок ветреных гипербол.
И закружит, запорошит виски,
как пепел хмеля, пепел становлений,
и так просторно пущено в изгиб
пространство всей упряжкою оленьей!
Вот – кисть. И есть начало. Но прозри,
в какие дали замкнута конечность,
где кончик пальца? в март иль в январи
уходит лёт ресниц? А там беспечно
колечком за́мкнуто в свет сотри,
как мел – она опять возникнет – вечность.
«В снегу Сенат. Смертельный гон…»
В снегу Сенат. Смертельный гон
сжат до диаметра снежинки.
Зеркал клятвопреступны лики,
как листья трепетных колонн.
Все ж помню ветер глаз и рук,
и плеч ссечения в озера,
волну, бегущую во взоре,
и ног стремление к перу.
И то и се, и это тоже,
и чудный миг, когда, светла,
морозной тропочки игла
весь зимний лес ввела под кожу.
В снегу Сенат, как сон во сне.
«Я провижу этот лепет…»
Я провижу этот лепет,
маски, маски под землей,
скульптор толстозадый лепит
невесомый профиль твой.
Он Офелией овеян,
пропадая допоздна,
в преисподней тех кофеен
суть бестелого спознав.
Свет мой, истина святая,
из меня выходит вес,
рано утром улетая
в пустоту иных небес.
Остановлено мгновенье
и дыханье на устах,
словно в легкость дуновенья
с ходу врезался состав.
Я тебя собою прожил,
словно пропил и убил.
Пусть архангел краснорожий
протрубит.
1968
Ночь
Через пространств рост
и я различал вдруг
в острых телах ос
ада седьмой круг.
И, как они, свит
ребрами, я шел
сквозь величин нить
в мозга сквозной ствол.
Я восходил внутрь
себя. Засыпал мир.
Месяц бежал пут,
голос звучал лир.
Черных зонты крыл
взвил Люцифер вновь,
сквозь переход жил
била в виски кровь.
О, я поднимусь вверх,
перерасту мозг,
чтобы в лучах вен
слиться с лучом звезд!
«Ты помнишь цирк из маленького детства…»
Ты помнишь цирк из маленького детства?
Скрипач играл, как губы красил ей.
Какие там еще разыгрывались действа
в амфитеатрах памяти твоей?
А помнишь, плакала у гибели гимнаста,
светились мимы, спали в гриме клоуны,
скакали кони коронованных династий —
здесь есть опилки, значит в мире ровно,
и есть оркестрик – значит, в мире праздник,
и есть иллюзия, а значит в мире тише,
и, может быть, отгрохотали марши,
а значит, ты живешь, живешь и дышишь,
и крыльями все медленнее машешь.
«Прекрасный мир уходит в перелески…»
В. С.
Прекрасный мир уходит в перелески,
и самолет взлетает с бездорожья,
и светел мир, и полон сонной дрожью
твой голосок, всегда прекрасно детский.
И Троя рассылает, словно солнце,
гонцов своих с аортой золотой,
птенцов голубоглазых и питомцев
затем, чтоб в мире не кончался бой.
Затем, что мы пернаты и легки,
дыша картонным воздухом предсердий,
затем, что мы бессмертны, вопреки
тому, что называют смертью.
Нас известят об этой светлой жизни,
и воздух опустевший станет синь,
и голос будет мой в твоей отчизне
незряч и улетающ, словно жизнь.
Парки
Осенние парки со скачущими конями
и глиняным Пьеро, бредущим следом,
сквозные годами, неделями, днями,
горящие неровно, как спицы велосипеда.
Осыпаются парки и шаркают сторожа,
обнажается ствол, как натурщица, сбившаяся со счета.
Листья внизу ложатся, чуть дрожа,
как будто сбросила платье и не решается переступить отчего-то.
И я чувствую, как мое гипсовое сердце постепенно оживает,
в нем пульсирует дым от листьев и светопреломляющий холод,
и лавочки бродят в крови и кровь преображают
в эту осень пустую, как хлопнули дверью – и эхо из холла.
Я прохожу мимо вас, не замечая, будто мимо зеркал,
вижу ясно, как, пульсируя, свиваются с ветками вены.
Холод, тишь, деревья в подсвечниках. Дыханье моего мирка
в невесомом чуде чуть сдвинувшейся Вселенной.
Сонет
G. H.
Живи, хоть на дне дня,
живи, не узнав дна,
живи, хоть не для меня,
но только живи одна!
Но только звени ручьем,
гремучим ключом ручья,
крылом за чужим плечом,
но только пребудь – ничья!
Но минуй этот шум крыл
и листопад эпох,
и губ, и огней пыл,
и нищий фонарь строк.
Живи, словно я жил,
и жить без тебя мог.
1970
Цезарь
Он не писал поэм,
но радовался парадам,
сидела на белом коне
слава триумвирата.
Он не носил грим
и не кривил душой —
в Риме достаточно грив,
чтоб власти достало одной.
Разные могут быть речи,
но к триумфатору – за разом раз! —
слава, белая, как унитаз,
повернута – только навстречу!
И падали звезды с неба
на плеч белоснежный эллипс,
но толпы хотели хлеба,
хлеба хотели и зрелищ.
И он был убит вечером
пером, что бежало охотно,
описывая не плечи,
а побоища и походы.
1971
«Здесь, под крышами этих маленьких кафе…»
В. Гайворонскому
Здесь, под крышами этих маленьких кафе,
укрывающих нас от солнца и листопада,
а также от любимых женщин,
здесь, на мозаичной ладони Бога,
мы с тобой выкурим по сигарете
во славу любимых женщин,
гипсовых и бессмертных,
зажженных нашей памятью.
Во славу наших синеглазых подруг
мы поднимем маленькие бокалы,
похожие на театральный бинокль —
два маленьких бокала – ужин Арлекина,
выполненный в той же кубистской манере.
Потому что нам уже не видеть
оживших рисунков и рукописей детских скакалок.
Ведь мы вспоминаем, и кровь наша отважна.
Ведь мы вспоминаем Эль Греко, чьи-то губы,
разбившийся самолет и еще что-то:
наверно,
бегущую боком собаку уже четвертый век до нас с тобой.
И тут ты заметишь зеленых два глаза
и темную прядь слева,
и я увижу, как из твоей сломавшейся сигареты
вылетит облачко гипса.
«Я пью молоко бесконечных…»
Я пью молоко бесконечных
светил. На ресницы осядут
туманности снегом по саду,
где мокрая ветвь и скворечник.
О, мне головой не постигнуть
следы твоей поступи в небе,
как жгучим шмелям мне под силу
сгибать лишь пружинистый стебель,
а утром сказать полусонно:
ты прежде была невесома.
Петрополь
Летучая мышь или власть
бокалом разбитого града —
трефовая всадника масть
и бешеный конь конокрада?
Сочти, сколько в горле колец,
что в срезе береза ваяет,
дыхания вырублен лес,
и жалят смертельные сваи.
«Душа, ты слышишь пенье…»
Душа, ты слышишь пенье?
Душа, то пляшут мимы,
и в них летят каменья,
и пролетают мимо.
Дождь Франсуа Вийона
Дождь размочил дороги у Парижа,
уже не отражают неба лужи,
хлыст под дождем становится все уже,
и конюх пьян, и в небе мокнет птица.
Дороги шатки и неверны лица.
Все льется: лес, река, дороги, свечи,
все расплывается, и шум, и мнится,
дождь обнажает вместе с грязью плечи.
Все залило, вселенский водопад
не стал потопом по недоразуменью —
одна вода вокруг, усы висят
у ездоков, уснувших в поселенье.
Вода стекает с неба, мост чуть-чуть
не достает хребтом скрипящим стока.
Смывает – все, вчерашний смыло путь
и путь сегодняшний, там, где была дорога.
Смывает глину, шерсть, плевки, отбросы
ресницы, выгребные ямы, розы —
дождь, дождь, дождь, непроглядный дождь
размыл могилы, подступы к дворам,
размыл все буквы, голубеет кость,
размыл все клумбы, лес похож на храм.
Дороги вязки, и посыльный спит,
есть только дождь. Но всадник гонит лошадь!
Дождем наездник с лошадью был слит,
и это отразила площадь.
Есть только дождь кругом, навоз, кареты,
заборы, крыши, окна, шпили, ангел,
все смылось, сплыло, спрятались гадалки,
сирень не видно, дождь один, без ветра.
Есть только дождь…
Но всадник гонит лошадь —
он на привычном в мире бездорожье
нашел в разъезжей грязи медальон,
хотел продать, но только синий глаз
совпал случайно с дождевою каплей —
и с места гнал в карьер Вийон!
Все дождь. И в мире – только капли,
и только капель шум в ушах у нас.
Все дождь, все дождь! Над крышами Парижа
дождь кончился, и, спрятав начертанье,
ездок, свистя, осматривает зданье,
а завтра – снова дождь…
Снег, белый снег…
Снег, белый снег, белее, чем висок,
кружится медленней, чем прядь льняная.
Снег наступает из иных высот.
И волк поет. И музыка иная.
Высокий крест всем телом снега стерт…
Ах, барышни, не грейте соболями
душистую геральдику аорт —
бубновый туз смерзается над вами.
И смерзся полоз, колокол трещит,
душа замерзла возле поднебесья,
и рот поющий продолжает песня,
но в этот холод и она молчит.
Все в мире – снег. Подведена черта.
Застыли в небе ангелов рыданья.
Но снег на крест падет, чтобы у рта
растаять – там, где нет уже дыханья.
1970