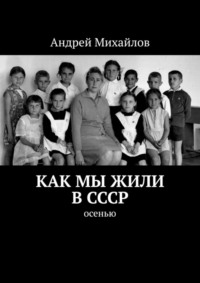Read the book: «Как мы жили в СССР. Осенью»
Серёге Возовикову, Паше Винокурову, Ване Водопьянову, Толику Виницкому, Сергею Вагину. Друзьям, которых уже нет рядом…
Иллюстрации Архив Андрея Михайлова
Фотограф Михайлов Андрей
© Андрей Михайлов, 2022
© Михайлов Андрей, фотографии, 2022
ISBN 978-5-0059-1433-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Напомню, что в рамках этого проекта я вспоминаю жизнь 60-80-х годов прошлого века. Когда СССР, оправившись от последствий социальных проектов эпохи Ленина-Сталина и восстановившись после Великой Отечественной войны, наконец-то получил четверть столетия для более-менее нормального развития. Как и чем жил тот народ, который окружал меня в те годы, я и пытаюсь очертить.
Моё детство, да и большая часть юности, связаны с Алма-Атой, столицей советского Казахстана. Если ещё точнее – с Научным городком казахстанских физиков, посёлком Алатау, в котором располагались два института Академии Наук Казахской ССР. Институт ядерной физики (с атомным реактором!) и Институт физики высоких энергий (с ЭВМ «БЭСМ-6). Там и работали в основном наши родители. Ну а мы, их дети, учились в местной школе (СШ №21 Талгарского района, Алма-Атинской области).
Наш Посёлок был хотя и специфическим населённым пунктом, но мог считаться вполне ординарным уголком Советского Союза – подобных по Стране было разбросано немало. Они вкупе и задавали то особое состояние бытию, которое ныне воспринимается всеми непосредственными свидетелями как феномен «жизни в СССР».
Заключительная книга тетралогии посвящается осени – времени созревания плодов и сбора урожая. Эта пора в СССР резко контрастировала со всеми другими сезонами. Особенно у молодых. Кончалось бесшабашное и быстролётное лето. Всё возвращалось на круги своя.
Заветная тропинка в новый мир
Начало моей школьной жизни пришлось аккурат на эпоху очередной реформы образования. Суть насущной и актуальной проблемы была стара, как сама школа, всегда пытавшаяся под завязку напитать школяра всевозможными знаниями и актуальными навыками. Забывая про то, что болезный не только ученик, но ещё и ребёнок.
Честно говоря, о том, что мне довелось побывать участником школьной реформы, я узнал совсем недавно. А тогда, в 1965 году, вместе с сотней ровесников, я просто сел за парту одного из трёх «первых классов» в школе родной «деревни» (так в шутку называли наши родители наш Научный городок, окружённый колхозами и совхозами). Сел, ничего такого не подозревая. Судьбоносность же новопросвещённой эпохи, если и стала чьей-то головной болью, то не нашей.
1 сентября… Для советской детворы, у которой бескорыстная «тяга к знаниям» культивировалась на идеологическом уровне, этот день был особенно перенасыщен эмоциями и событиями. Не побоюсь сказать (да и кого мне бояться?), что после новогоднего праздника это был самый важный день в году. День, когда по всей нашей огромной стране (Державе!) отдельные ручейки, изливающиеся тут и там из вольных источников летней жизни, соединялись в неодолимый и бурный поток. В одно русло. Устремляясь к школам, техникумам, ПТУ, институтам, университетам и прочим альмаматерам. (Если исходить из масштабов действа, то в этот день происходил какой-то геологический сдвиг, который каждый раз возвращал вольно расплескавшиеся на летней жаре силы в привычное течение.)
Благодаря фотографиям неутомимого светописца Евгения Иосифовича Жукова, сегодня у меня есть возможность не только вспомнить, но и вновь воссоздать атмосферу, которая царила во дворе моей родной школы 1 сентября 1965 года. Та дата стала для меня и моих однокашников особо знаковой – мы шли в школу. Первый раз – в первый класс!

1 сентября 1965 года. Посёлок Алатау. У Школы. Наш 1-й «б».
На одном из снимков, где-то в шеренге моих будущих соратников по 1-му «б», смущённых торжеством момента мальчишек в белых рубашках и девчонок впервые вышедших на люди в новой форме при бантах и фартуках, за огромными букетами из последних роз и первых астр, под прикрытием арьергарда напряжённых родителей, осознающих начало нового этапа и в их судьбах, в поле зрения деловито расхаживающих перед расширенными глазами новых рекрутов всеобщего среднего образования учителей, в какофонии звуков, составленных возбуждённым гулом старших товарищей, непонятным пафосом речей и отчаянно фонящим микрофоном, в потоке мимолётных приветствий, обещаний и поздравлений – затерялся и я. Увидели? Нет? Вот и я не увидел. Хотя присутствовал там совершенно точно!
В тот день вряд ли кто из нас всерьёз задумывался про то, что впереди нас ждёт ещё девять таких вот первых сентябрей! Мы лишь настороженно радовались (а ещё больше – неосознанно волновались) тому, что вот оно, свершилось то, о чём мечтал каждый советский дошколёнок. Первый раз – в первый класс! (Что, как выяснилось, не было абсолютной догмой: уже рассевшись за парты, мы обнаружили, что среди нас есть такие, для кого «первый» был не впервой – учителя тогда ещё не очень печалились по поводу «испорченных показателей». )
Дух обречения
Честно признаться, я умудрился не запомнить ничего конкретного из того 1 сентября 1965 года. (Наверное, с такой памятью из меня вряд ли получится хорошим мемуарист. Или наоборот?) Конкретика улетучилась, но ощущения остались. В душе навечно засел горьковатый запах астр в руках сотоварищей, мобилизующий миазм новой накрахмаленной одежды и всё пронзающий тонкий аромат начинавшегося тления природы – опадающих яблок, увядающих трав, молодого сена на окружавших Посёлок полях.
Перемешанный и взболтанный дух обречённо испаряющегося прошлого и неотвратимо наползающего будущего – вот тот возбуждающий коктейль, который для меня с тех пор знаменовал приближение каждого очередного 1 сентября. Хватишь полной грудью на бегу истомного летнего воздуха и почуешь вдруг трагическое окончание бесшабашных каникул и неминуемость наступления нового учебного года. Но особо остро этот излом мешался в душу именно заветным сентябрьским утром зачинавшим осень, тотчас после волюнтаристического пробуждения, с первым осознанным глотком переменившегося воздуха.

1 сентября 1966 года. Елена Габбасовна Даулетбекова, «наш директор», настраивает нас на начало нового учебного года.
День 1 сентября становился магической гранью, разделявшей два совершенно непохожих мира. Мира «до»: когда по дворам отчаянно скрипели качели, окружающее земное пространство переполнялось неистовым детским гамом, будильники звенели только для взрослых, и заповедный родительский клич: «Домой пора!», раздавался глубоко в сумерках. И мира «после»: когда скрип качелей сменялся скрипом перьев в классах, уличный гам перемещался в спортзалы и на пришкольные спортплощадки, будильники становились одинаково беспощадными ко всем, и уже другой неизбежный призыв: «Иди готовить уроки!», всегда неожиданно и исподтишка обрывал всё самое светлое гораздо раньше солнечного заката.
Аромат Просвещения и скрип Образования
И ещё одним чудесным духом были преисполнены те первые сентябрьские деньки – запахом новых учебников, пропахших свежей типографской краской и ещё не просохшего до конца клея.
В нашем Научном городке, как ни странно, книжных магазинов отродясь не бывало (как и нет до сих пор!). Потому за учебниками и тетрадками приходилось ездить в Город. Городов было много, но Город – единственный, Алма-Ата. В Алма-Ате же случались школьные ярмарки и располагался «Детский мир», где продавалась форма, и рядом с которым находился известный магазинчик школьно-письменных принадлежностей. А ещё за книгами-тетрадками можно было отправиться в Талгар (наш райцентр, который хотя формально тоже считался городом – но Городом для нас сроду не был), или ещё ближе, в Табаксовхоз. Книжные магазины встречались повсюду, кроме нашего Посёлка с его высоколобыми обитателями!

Конец 1960-х. Праздник Букваря – яркий пролог первого учебного года для первоклашек.
Так как мало что тогда доставалось легко и с первого раза – «ездить за учебниками» приходилось по несколько раз. Это был своеобразный ритуал и пролог 1 сентября. В те годы, почему-то, школы ещё не раздавали «в лизинг» школьные учебники. Правда что-то можно было получить «в наследство» от старших товарищей. Но в «наши годы» реформы, ознаменованные переходом на новые учебники, такое проходило редко.
Зато каким удовольствием было пролистать купленные учебники, такие праздничные и девственно опрятные, наполненные всей той необходимой премудростью, которую предстояло переместить в голову в наступающем учебном году. «Азбука», «Арифметика», «Родная речь» – всем им грозила долгая и многотрудная жизнь, сопряжённая с грядущими перипетиями судеб их наивно-счастливых обладателей.
Учебники, вместе с карандашами, ручками, перьями, чернильницами, альбомами для рисования, тетрадками, загружались в портфель (эпоха ранцев была ещё впереди). Получался весьма увесистый груз. Для многих он становился источником искривления позвоночника. Но каждый сам носил своё добро (это уже позже кто-то великодушно помогал в этом особо симпатичной однокласснице). В те времена в нашей школе не водилось ни одного ученика, которого бы возили на занятия на автомобиле – такие возможности даже не маячили в нашем буйном детском воображении.
Однако память задержала не только запахи, но и звуки таинственного «учебного процесса».
«В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит пёрышко слегка
И ложатся строчки на листок».
Правильная и проникновенная (с годами – всё более!) песенка, с чувством исполнявшаяся популярным ВИА «Пламя» (если не ошибаюсь), нуждается в комментарии. В клавиатурно-гелевую эпоху трудно уяснить, какой-такой «скрип» сопровождал уроки полвека назад? Но скрип в классах стоял во время уроков вовсе не фигуральный, а вполне конкретный. Ведь мы учились писать так же (и тем же), как (и чем) несколько поколений до нас – перьевыми ручками со скрипучими стальными перьями, норовившими порвать всё, к чему прикасались. Неофициально этот первый опыт написания прописных букв назывался «чистописанием» – писать чисто, автоматически и означало писать правильно, выводя чёрточки буквенных знаков с нужной последовательностью и нажимом, и только так.

«1 б» класс, образца 1965 года. Наша первая учительница – Людмила Семёновна Ткачук. На столе перед Верочкой Мараткановой – знаменитые чернильницы-непроливашки.
Ещё одним обязательным атрибутом «чистописания» являлись чернильницы-непроливашки (так называемые, но проливались они ещё как!), куда по мере истощения линий обмакивались перья. И обязательная промокашка, усаженная кляксами и кляксочками, отпечатками произведённых в тетрадках строк и обильными творческими дополнениями к ним (жаль, что они не сохранились в архивах – вот было бы чудное свидетельство об эпохе!) А ещё дополнением ко всему этому были парты – деревянные, крашенные, с пазами для чернильниц и ручек, наклонными столешницами и гулко хлопающими крышками.
…Вся эта архаика стремительно уходила в прошлое и превращалась в элемент дремучей старины буквально в ту пору, когда я и мои одноклассники планомерно переходили из класса в класс, получая своё обязательное среднее образование.
Всеобщее среднее – взгляд изнутри
В 1960-х годах в Советском Союзе был осуществлён переход ко всеобщему среднему образованию. Всеобщее – это значит повсеместное и для всех, независимо от регионов, условий и обстоятельств.
10 ноября 1966 года появилось давно ожидаемое Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы».
В нём, между прочим, прозвучало следующее:
«…Считать важнейшей задачей партийных и советских органов в области народного просвещения осуществление в основном к 1970 году в стране всеобщего среднего образования для подрастающего поколения».
И намечалось:
«…Приведение содержания образования в соответствие с требованиями развития науки, техники и культуры; установление преемственности в изучении основ наук с 1 по 10 (11) класс, более рациональное распределение учебных материалов по годам обучения, начало систематического преподавания основ наук с четвертого года обучения (сохраняя действующие условия оплаты труда учителей 1 – 4 классов)».
И (уже тогда!) выделялась насущная и актуальная до сих пор проблема (и линии её решения):
«…Преодоление перегрузки учащихся путём освобождения учебных программ и учебников от излишней детализации и второстепенного материала».
Это уже задним числом я вспоминаю, как на глазах менялись учебники – даже по таким консервативным предметам, как моя любимая «Физическая география материков». У предшественников, к примеру, встречались ещё в качестве иллюстраций рисунки Роборовского, сделанные в 3-й экспедиции Пржевальского. Тогда же вводились и новые курсы, вроде «Обществоведения», «Начальной военной подготовки» и факультативов (у нас это была «Вычислительная техника»). И появлялись неожиданные и невиданные прежде «итоговые экзамены» в разных классах и непонятные «летние практики».
Для нас был актуальным и повышенный интерес реформы к углублённому изучению математики. Несмотря на то что мы учились в обычной средней школе, её отличал выраженный «математический уклон». Правда углублённо изучали математику не все, а лишь те, кто попадал в «математический класс». В него у нас отбирали наиболее нестандартных восьмиклассников. И не обязательно склонных к математике, а просто неординарных и нестандартных.

Набор учебников и тетрадок для пятого класса равнялся в 1970 году стоимости одной бутылки водки. А водка в СССР не была дорогой.
Чего стоили новые веяния нашим родителям? Дополнительно к школьной форме, портфелям, трико и кедам – затрат на те самые новые учебники, которые ранее можно было просто позаимствовать у отучившихся старших товарищей. Практики «проката» учебников из школьной библиотеки, напомню, в те годы не существовало, так что покупка их становилась частью нормального ритуала подготовки к каждому новому учебному году. О том, сколько всё это стоило в действительности, свидетельствует обнаруженная в архиве «смета», написанная моим детским почерком. Набор учебников для пятого класса (плюс 50 двухкопеечных тетрадок), если верить точности подсчёта, обошёлся семейному бюджету (родители на двоих получали в месяц около 300 рублей) в 3 рубля 15 копеек.
Не ангелочки!
Кому-то из читателей «племени младого» (тещу себя мыслью, что такие всё же встречаются) эти предвзятые записки могут показаться чересчур идеалистическими и породить иллюзию, что поколения их отцов и дедов были прямо-таки образцами добродетельности и прилежания. Вот и нет! Среди нас случались всякие. Встречались и такие, на ком клейма поставить было некуда. Вся разница в том, что они в ту бытность не считались героями и не делали погоды в школах.

Однако и все прочие дети тех былинных поколений всегда оставались детьми. А быть детьми в Советском Союзе, когда «всехние» родители строго с 9 до 17 отбывали на работе (и никто не опекал своих чад так, как ныне, не ждал у дверей школы, не названивал через каждые пять минут на мобильник, не нанимал репетиторов-нянек-охранников) было куда приятнее, чем ныне. Мы сами решали, что делать после занятий, с кем дружить и как поступать в сложных ситуациях. И сами собирали весь положенный урожай синяков и шишек. И, в подавляющем большинстве, ещё до окончания школы чётко представляли, чем займёмся в своей грядущей жизни.
А ангелочками не были, нет. Да и какие ангелы могли свободно порхать в атеистической атмосфере СССР?
О советском парт-арте
…Разбирая доставшуюся мне фототеку фотокружка Областной станции юных техников, я наткнулся на негативы, которые внешне казались попросту испорченной плёнкой. Но на всякий случай засунул их в сканер. И…
И вспомнил целый жанр народного школьного творчества, расцвет которого пришёлся на моё время. Художественную роспись (резьбу) по партам. А заодно – стенам, заборам и прочим доступным поверхностям.
«Писать на стенках туалета,
Скажу я вам, – немудрено…
Ведь по сравнению с г… ном мы все поэты!
(А по сравнению с поэтами – г… но!)»
Такой поэтический перл, намаранный классическим стилем, украшал когда-то дверь кабинки нашего мужского школьного туалета и вызывал восторг истинных ценителей поэзии. И он был не сиротлив. Хотя его можно было отнести к самым невинным образцам «туалетного жанра». Но писать (и рисовать) на стенках туалета – не велика смелость. Как и на заборах и стенах школы. Это всё равно, что лаять и лайкать в интернете. Анонимность при соблюдении мер гарантирована.
Совсем иное – художественная роспись парт в классах. (Парт-арт!) Акт почти героический, потому как, мало того, что всё происходит под неусыпным взором учительницы, прямо во время урока (никакой дурачок не стал бы тратить на это внеучебное время), так ещё и идентификация обеспечена – кто где сидит, тот за то и говорит.

Потому-то творческая интенсивность и художественная ценность произведений парт-арта возрастала прямо пропорционально удалённости от неусыпного ока. И самые высокохудожественные образцы (вершинные достижения) были приурочены именно к «задним рядам», где высиживали своё образование самые свободолюбивые участники учебного процесса.

Большинство парт-знаков, надо признать, были вообще-то далеки от высокого искусства и являли собой стихийные зачатки нынешних социальных сетей, распространяя информацию, которую кто-то хотел поскорее сделать публичной (вроде «Петя + Маша», и рядом – «Петька – дурак!»). Однако встречались и высокохудожественные сюжеты.
Что до техники, то до появления шариковых ручек она была куда разнообразнее и изощрённее, нежели после. В арсенале классиков использовалось, к примеру, настоящее граффити, процарапываемое стальными перьями в слоях разных красок, новые пласты которых покрывали столешницу парты перед каждым учебным годом.
Так что, когда обычное наказание для свободных художников и невольных поэтов (остаться после урока и отдраить парту с содой и мылом) уже не давало должного результата, ввиду глубокой рельефности клише, художнику-рецидивисту грозила крайняя мера – принести в школу краску и кисть и выкрасить столешницу наново.
Что, понятно, воспринималось настоящими мастерами, как обыкновенная «грунтовка холста» для дальнейшего творчества.
Пьянящий аромат рукописного СМИ
Но, не одними столешницами парт и стенками школы ограничивалось наше изобразительное и литературное творчество. Знает ли мой дорогой читатель каков размер листа ватмана? И что такое плакатное перо? А как пахнет свежая тушь? Нет? Тогда совершенно точно ты никогда не состоял ни в какой редколлегии и ни разу не участвовали в выпусках стенгазет!

1968 год. Конкурс стенгазет.
Когда у человечества не было интернета, компьютеров, принтеров, «форумов», «групп», «друзей», цифровой фотографии и прочих хитро-мудрых «штучек» XXI века, человечество всё же не прозябало в невежестве, разобщенности и унынии от невозможности громко и принародно высказать то, что наболело. И хотя в те «допотопные» годы для публичного выражения своего «фи» приходилось напрягать свой собственный мозг и прилагать какие-то персональные умения, сам процесс протекал не менее увлекательно и захватывающе, чем ныне, в эпоху коллективного вики-разума, метавселенных, электронных скоростей и универсального способа выразить всю бурю переполняющих эмоций человека с помощью одного смайлика.
Стенгазеты сопровождали всю историю СССР и появлялись в самых неожиданных местах – на бревнах фронтовых блиндажей, на брезентовых стенках палаток во время массовых восхождений, в «красных уголках» бараков ГУЛАГА, в лабораториях ученых… К их выпуску приложило руку не меньшее количество граждан всех возрастов, чем то, что сейчас крутится во всех соцсетях вместе взятых.
В 1960-е-70-е годы стенная печать уже не приравнивалась к средствам массовой информации. Но всё ещё считалась серьезным и самодостаточным средством пропаганды и агитации. Стенгазета с выверенным и хлестким названием существовала в каждой школе и в каждом классе. Её выпускал каждый пионерский отряд и даже каждое отдельное пионерское звено. Не было ни одного праздника без массового выпуска праздничных ватманов с аккуратной каллиграфией и цветастым художественным оформлением. Стенгазеты откликались на все школьные события, отмечали всенародные торжества, локальные победы и сообщали о ЧП.
Стенгазеты выпускала избранная шумными собраниями редколлегия. Однако очередной выпуск становился не только грустной обязанностью (все идут по домам, а ты…), но и своеобразной игрой, дополнительным способом проявить оригинальность своего суждения и неповторимость таланта.
Стандартный размер школьной стенгазеты определялся стандартным размером листа ватмана. В особых случаях листы склеивались или вывешивались несколькими «страницами».
Назавтра, когда новоиспечённое творение выходило в свет и занимало своё место там, где и заповедано статусом, – на стене, возле неё тут же собиралась шумная толпа читателей-почитателей. Читатели слетались на запах – от свежего издания исходил привлекающий аромат свежей туши, гуаши и новизны.
Следующим этапом публичного выражения своих мыслей и чаяний были уже настоящие газеты, которые выходили в СССР миллионными тиражами. В первую очередь детские, заточенные под пионерию, наподобие всесоюзной «Пионерской правды» и казахстанских «Дружных ребят». «Дружные ребята» издавались в Казахстане с 1933 года и в середине 1980-х печатались тиражом в 180 тысяч экземпляров дважды в неделю.
В каждой газете существовал тогда обязательный отдел писем, который разбирал и читал всю ту корреспонденцию, которая ежедневно приходила от читателей. Культ писем, существовавший в Советском Союзе, предполагал, что написать письмо, запечатать его в конверт, подписать адрес и засунуть конверт в почтовый ящик должен уметь к 4-му классу каждый школьник. (Я подробнее останавливался на этом в зимней книжке.)
Писать письма в газеты не боялись и не стеснялись. Вовсе не обязательно посвящая в тайны своих переписок родителей. Так что почта от читателей приходила в редакции мешками! И каждое послание полагалось зарегистрировать, прочитать и… В случае если оно достойно – опубликовать, а в противном – ответить адресату.

Конец 1960-х. Редколлегия за работой. Жора Федосеенко, Надя Маслова, Ира Павлова, Таня Винокурова. Великолепные выпускники Школы 1972 года.
Но случались среди советских школьников такие, кто чувствовал в себе журналистский потенциал и не довольствовался простыми «письмами в редакцию». Движение юнкоров, как и всё то, что поддерживало государство, отличалось порядком и массовостью.
Юные корреспонденты становились своеобразными внештатными сотрудниками, получавшими свои задания в редакциях. Главной радостью их, правда, был не гонорар за статьи (как у старших товарищей), а счастье от самой заметки, опубликованной в газетах. Многие «зубробизоны» нашей журналистики, до сих пор радующие (или не радующие) читателей СМИ своими опусами, начинали путь в профессию именно такими молодыми и ранними юнкорами с горящими глазами и затаёнными амбициями.
Однако до постоянного сотрудничества с редакциями добирались немногие. Но движение было массовым. Кружки юнкоров существовали в каждом Доме пионеров. А слёты юных корреспондентов разных уровней проводились регулярно.
Конкурсы стенгазет, обмен опытом друг с другом, общение с «настоящими журналистами» из районных многотиражек и радио, пионерские рапорты, наставления ветеранов войны и партии, награждения лучших – всё это вкупе составляло увлекательное действо, захватывавшее воображение тинэйджеров той эпохи.
Так же, впрочем, как и всё, в чём нам приходилось тогда участвовать: сбор металлолома и макулатуры, военизированная игра «Зарница», состязания на призы «Золотой шайбы» или «Кожаного мяча», соревнования по лыжам или лёгкой атлетике, всякие межклассные и межшкольные баскетбольно-волейбольные баталии, читательские конференции, посещения спортивных секций и кружков юных техников, всевозможные юннатские акции, «кавээны», олимпиады по математике или биологии, пешие походы по горам-долам и «местам боевой славы», пионерские костры, песенные конкурсы, строевые смотры. И прочие атрибуты того ушедшего навсегда пионерско-комсомольского детства.