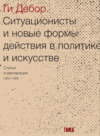Read the book: «Культурология для культурологов. Учебное пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей», page 2
Вторую группу «относительно культурологических» методологий, отвечающих только на вопросы «как» и «к чему это ведет», составляют:
– цивилизационизм, понимающий процессы культурной динамики как процедуры кумулятивного накопления специфических местных культурных черт, что приводит ко все большей локализации культур в особых формах, называемых цивилизационными признаками. История мыслится как процесс постепенного нарастания локальной специфичности обществ, завершающийся их гибелью (по тем или иным причинам) и образованием новых обществ, проходящих тот же цикл;
– диффузионизм, объясняющий культурную динамику, напротив, постоянной эстафетой культурных достижений, передаваемых от народа к народу, что в результате ведет к технологическому и интеллектуальному прогрессу во всем мире. История видится процессом пространственного распространения отдельных достижений (новаций) и всеобщего социокультурного развития в этой связи.
Еще одна особенность культурологии – это уровень обобщений. Философия культуры проводит обобщения на уровне умозрительных категорий (культура-вообще, которой, естественно, в природе нет, это – теоретическая абстракция; есть только разные культуры разных социальных групп – народов, конфессий, сословий и т. п.), история культуры – на уровне непосредственно наблюдаемых и описываемых явлений (артефактов). Культурология же осуществляет свои обобщения преимущественно на уровне культурных типов: исторических – цивилизации; социальных – элитарная, народная и массовая культуры; коммуникативных – устная, письменная и экранная культуры; функциональных – культуры производителей продовольствия (крестьян), материальных производителей (горожан), интеллектуальных производителей (интеллигенции), производителей порядка (элиты) и беспорядка (криминала) и иных типах. Зачем нужна такая аналитическая типологизация? Именно затем, чтобы глубже раскрыть причины и цели тех или иных форм коллективной жизнедеятельности, ответить на вопросы «почему» и «зачем».
Разумеется, это далеко не все вопросы, которыми занимается культурология. Но это отражает основные проблемные поля общей теории культуры.
Краткая история культурологии в России
Термин «культурология» впервые был применен в 1915 году немецким философом В. Оствальдом, однако широкую известность получил с 1939 года благодаря трудам американского культурантрополога Л. А. Уайта. Уайт видел необходимость в том, чтобы вычленить из традиционной культурной антропологии (этнологии), исследовавшей преимущественно культурные различия между народами, специальную науку – культурологию, ориентированную на изучение универсальных явлений культуры, единых для разных народов. Это позволяло ставить вопрос о культуре как общем понятии, универсальной «специфической модальности человеческого бытия» (Г. С. Кнабе), создать общую теорию культуры как категории. Тем не менее, в западной науке термин «культурология» не привился, а проблема, поставленная Уайтом, исследовалась в основном в русле лингвистической философии (семиотика, структурализм, постструктурализм, постмодерн), приверженцами французской школы «Анналов» (историческая антропология), социологами американской Гарвардской школы и их последователями (структурный функционализм).
Вместе с тем культурология в течение 1960–1980-х годов начала постепенно распространяться в советской науке, а в 1990-х годах произошел своего рода «культурологический бум» прежде всего в сфере российского образования. В принципе можно проследить два основных источника отечественной культурологии.
В послевоенные десятилетия в СССР периодически проходили кампании «критики взглядов буржуазных ученых». В 1960-е годы на волне одной из таких кампаний армянский социолог Э. С. Маркарян, якобы дискутируя с Л. Уайтом, фактически ввел термин «культурология» в нашу науку и под видом критики «буржуазных концепций» начал знакомить научную общественность СССР с культурологическими концепциями Уайта и других американских «неоэволюционистов», а также с собственными комментариями к ним. В подобной инициативе первыми его поддержали ростовские ученые Ю. А. Жданов и В. Е. Давидович, ленинградцы С. Н. Артановский и М. С. Каган, свердловчанин Л. Н. Коган, к ним присоединились и московские специалисты С. А. Арутюнов, Б. С. Ерасов, Э. А. Орлова и др. Я упоминаю здесь лишь старшее поколение ученых; разумеется, среди научной молодежи апологетов этого движения было гораздо больше (включая и автора этих строк, выросшего на книгах Маркаряна). В период с середины 1960-х по начало 1990-х годов вышло уже несколько десятков книг по культурологии, написанных отечественными учеными, и около десятка переводов в основном западных социологов культуры (Э. Дюркгейма, А. Моля и др.).
В середине 1980-х годов в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН АН СССР) открылась специальная лаборатория по изучению культуры, где под руководством И. Л. Галинской и С. Я. Левит начался массовый перевод на русский язык классических трудов западных философов культуры и антропологов, которые через несколько лет начали издаваться большими тиражами. Наши культурологи старшего поколения стали первыми профессиональными комментаторами этих трудов. Апогеем этой тенденции в начале 1990-х годов стало преобразование Всесоюзного НИИ культуры, занимавшегося в основном проблемами музееведения, в Российский институт культурологии. Лидером научных исследований в институте стала Э. А. Орлова – наибольший «западник» в нашей культурологии, что на несколько лет определило направленность работы института в целом. Это было одно направление возникновения российской культурологии – на базе освоения теорий западной философии, антропологии, социологии, психологии и т. п.
Но была и другая линия. В условиях идеологической зашоренности, царившей в стране, либеральная интеллигенция искала какой-то относительно легитимный способ выражения собственного, немарксистского мироощущения в культурно значимых текстах. В основном это были представители гуманитарного знания (историки, филологи, литературоведы, искусствоведы и др.). И они нашли искомый выход в сфере так называемого культуроведения (термин Ю. В. Рождественского), которое начало проявляться в повышенном интересе к объектам старины и исторической традиции, в движении охраны национального культурного наследия и т. п. В числе этих ученых следует назвать С. С. Аверинцева, А. И. Арнольдова, Л. И. Баткина, Г. Д. Гачева, А. Я. Гуревича, П. С. Гуревича, В. В. Иванова, Д. С. Лихачёва, Ю. М. Лотмана, В. М. Межуева, Е. М. Мелетинского, Ю. В. Рождественского, В. Н. Топорова и др.
Усилиями этой группы либеральной интеллигенции формировалась другая ветвь российской культурологии, базировавшаяся прежде всего на традициях отечественной исторической, филологической и искусствоведческой наук, на лингвистических реконструкциях нравов и быта минувших времен, на изучении мифов и языческой обрядности в рамках развитой отечественной школы мифологии, на семантическом анализе искусства как источника информации о культуре прошлого, но – главное – на различных вариациях теории локальных цивилизаций, идущей еще из XIX века от Н. Я. Данилевского и возрожденной в середине XX века Л. Н. Гумилевым. Кстати, именно в середине 1980-х годов впервые в СССР на русском языке вышли книги и зарубежных классиков теории цивилизаций: О. Шпенглера и А. Тойнби. Своеобразным ответвлением цивилизационных исследований, выросшим непосредственно из концепций русских «евразийцев» и этногеографических воззрений Гумилева, является школа «социоестественной истории» (Э. С. Кульпин и др.), синтезирующая современные идеи социальной синергетики и давние теории геодетерминированности исторических процессов.
Следует отметить, что огромное влияние на формирование этой ветви культурологии оказала чрезвычайно мощная традиция российского востоковедения; не будет преувеличением сказать, что российская гуманитарная культурология в существенной мере воспользовалась опытом востоковедческих исследований, распространив его на изучение русской и западной культур. Разумеется, и здесь не обошлось без обращения к достижениям зарубежных коллег: во-первых, французских семиотиков, под влиянием которых сложилась знаменитая московско-тартуская семиотическая школа во главе с Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским; во-вторых, французских же историков школы «Анналов», чья методика оказалась близка российским традициям изучения культуры повседневности и под воздействием которой началось формирование отечественного аналога школы ментальностей во главе с А. Я. Гуревичем, Ю. Л. Бессмертным, А. Л. Ястребицкой.
Таким образом, в течение 1960–1980-х годов в стране шло параллельное формирование двух сравнительно автономных культурологий: социальной, апеллировавшей к опыту англоамериканской и немецкой антропологии, и гуманитарной, имевшей в своей основе отечественные корни и связанной с французскими школами семиотики и «новой истории». Все 1990-е годы были посвящены попыткам объединения этих ветвей и превращения культурологии в некую «супернауку», синтезирующую в себе социально-научный и гуманитарный подходы к познанию общества и культуры.
В 1989 г. культурология была легализована как новое направление (специальность) высшего образования и как общеобразовательная дисциплина. В стране начали открываться первые культурологические кафедры, создаваться первые учебники по общеобразовательной культурологии, в чем безусловное первенство принадлежит Московскому государственному техническому университету им. Н. Э. Баумана и непосредственно Н. Г. Багдасарьян, а также Российскому открытому университету (ныне – Университет РАО) и сотрудничавшим с ним в те годы С. П. Мамонтову и Б. С. Ерасову (авторам двух первых в России учебников по общеобразовательной культурологии).
В числе основателей специального культурологического образования в стране следует назвать Г. В. Драча – в Ростове, С. Н. Иконникову – в Санкт-Петербурге, Г. И. Звереву, Т. Ф. Кузнецову и автора этих строк – в Москве.
С 1996 года культурология была введена в номенклатуру специальностей Миннауки и ВАК России. Были учреждены ученые степени доктора и кандидата культурологии, стали открываться диссертационные советы по культурологическим специальностям.
Но был и еще один фактор, определявший претензии культурологии как «супернауки». Дело в том, что основным заказчиком культурологического знания было (и в большой мере остается сейчас) образование. В 1992 году, когда из вузовских программ была убрана марксистская теория, на культурологию обратили внимание как на дисциплину, способную заменить исторический материализм. Соответственно от культурологии ожидали, что содержательно она станет «общей теорией всего», т. е. безграничным по своему размаху обществоведением (аналогично истмату). Но заказчик не учел того, что общество и его культура – это не одно и то же. А культурология изучает именно культуру (в отличие от социологии, изучающей общество). Этот социальный заказ в известной мере дезориентировал культурологов, которые в 1990-х годах занялись построением теорий общества и его динамики на базе культуры.
Хотя на этот счет было написано немало интересных работ, но нацеленность на ложный предмет изучения, в конечном счете, сыграла против культурологии. Ведь у нее были не только сторонники, но и весьма сильные противники, которые упорно боролись с наукой о культуре как сферой знаний, неизбежно конкурирующей в ряде проблемных областей с философией, а также практически со всеми социальными и гуманитарными науками. Серьезный кризис наступил в 2000 году, когда под нажимом влиятельного лобби философов и социологов и вопреки протестам Российской академии наук Министерство по делам науки и изобретений Российской Федерации издало приказ, «закрывающий» культурологию в качестве самостоятельной науки как не оправдавшей социальный заказ. Взрыв возмущения деятелей гуманитарной сферы, поддержанный известными корифеями литературы и искусства, а также негативная позиция Министерства культуры Российской Федерации привели к отмене этого приказа и выработке компромиссного решения. Культурология была восстановлена в виде двух специальностей: 1) теория и история культуры; 2) музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов. Возобновлены защиты диссертаций по культурологии. А что касается культурологического образования, то оно и не прерывалось.
Итак, «супернаука» не состоялась. Культурология, наконец, локализовала объект и предмет своего познания на культуре, ушла от организационных форм к технологиям и продуктам человеческой жизнедеятельности. Но объединения социального и гуманитарного направлений культурологии так и не произошло. Они остались сравнительно самостоятельными течениями изучения культуры, ориентированными на разные методологии. Это разделение получило даже региональное выражение. Например, московские культурологи в массе своей больше склоняются к социально-научному направлению, а санкт-петербургские – к гуманитарному (разумеется, и там, и там можно найти представителей обоих направлений, но доминирующая ориентация все же чувствуется). А ведущий научный центр – Российский институт культурологии даже организационно разделен на два этих направления.
Культурологические учебные заведения и подразделения почти все склоняются к гуманитарной культурологии. Образовательный Госстандарт 2000 года также усиливает доминирование гуманитарной составляющей в учебных планах (приблизительно 45 % – на гуманитарное и лишь 20 % – на социально-научное знание в общем объеме часов).
В 2006 году в Санкт-Петербурге было создано Российское культурологическое общество (позднее зарегистрированное под официальным названием Научно-образовательное культурологическое общество), которое призвано сыграть роль общественной академии для культурологов (в Российской академии наук пока еще нет отделения культурологии). В числе задач, которые должно решить общество, – выработка общих критериев, по которым то или иное исследование может быть отнесено к профилю «культурология», расширение номенклатуры культурологических специальностей, расширение поля социального заказа на культурологию, формирование культурологического экспертного сообщества, формирование научно-популярного сегмента культурологической науки, проведение грамотной информационной политики в интересах культурологии и пр.
На сегодняшний день культурология остается комплексно востребованной только системой образования. Вместе с тем культурологи начинают уверенно завоевывать площадки социальной коммуникации, социокультурной экспертизы, общеадминистративной референтуры. Но все это не имеет системного характера. Общество еще не осознало широких познавательных и экспертных возможностей культурологии, возможностей практического применения широкопрофильных знаний культурологов. Но это осознание постепенно начинает формироваться.
Культура и история: потребность в переживании социального опыта
Приступая к рассуждению о соотнесенности истории и культуры, важно определиться в отношении к вопросу о целенаправленности истории как социального движения и достоверности ее как науки. С точки зрения философии позитивизма и опирающейся на нее социальной науки, история априорно лишена какой-либо телеологичности, целеориентированности, внутренней осмысленности и является более или менее случайным результатом коллективной жизни людей. Я бы даже рискнул определить исторический процесс как динамику практической реализации людьми коллективных форм их деятельности, а также как аккумуляцию, селекцию и трансляцию в наибольшей мере оправдавших себя образцов социального опыта по достижению этой цели. В таком случае историческое знание (наука) может быть определено как особый способ описания и систематизации наиболее значимых процессов и результатов осуществления людьми своей социальности, то есть технологий их коллективного существования.
Обращаю внимание на то, что при этом речь идет о способе, избранном нами – заинтересованными лицами – для описания событий прошлого, систематизированных нами же по тем или иным основаниям, удобным для нас. Можно систематизировать эти же события и иным образом, на других основаниях, искать иные их причины. Это приведет к совершенно иным интеллектуальным и идеологическим результатам и будет рассматриваться как особая система парадигм исторического познания (например, эволюционная или цивилизационная, но в принципе могут быть и другие). Сама по себе история не является живым существом и не может иметь каких-либо самостоятельных целей, смыслов, намерений и прочих проявлений свободной воли, свойственных человеческой личности.
Возникает вопрос, почему же история выглядит столь логичной и последовательной, что порой поражает нас своей выраженной векторностью и телеологичностью? Отвечаю известной максимой: истинно лишь то, во что мы сами веруем. Не веруйте, не убеждайте себя в особой мистике истории, и она окажется не более систематичной и последовательной, чем наша повседневная жизнь. Это мы искусственно систематизируем хронологическую последовательность событий, порой «насилуя фактуру», которую иначе не удается описать сколько-нибудь складно. Это вовсе не значит, что реальная совокупность событий социального бытия столь же упорядочена, как, впрочем, это в равной мере не означает и того, что социальное бытие менее упорядочено, чем мы это видим или нам хочется это видеть. Вопрос в том, что каждый из нас понимает под достаточной степенью упорядоченности событий, чтобы показать ее как неотъемлемое свойство истории.
Сразу же уточню свою позицию и по вопросу различения «двух историй» – истории как совокупности реальных событий прошлого и как науки, описывающей это прошлое. На мой взгляд, практически все, что мы знаем о прошлом, – это и есть совокупность текстов, созданных теми или иными людьми (жившими прежде или нашими современниками), описавшими это прошлое с большей или меньшей степенью субъективности. Говоря о тексте, я имею в виду не только письменные документы, но и любые продукты человеческой деятельности – вещи, сооружения, произведения, поступки, суждения, – каждый из которых может быть прочитан и дешифрован как текст. Но знакомство с первоисточниками – вещественными, документальными и другими свидетельствами в их подлинной, уникальной конкретике – удел узких профессионалов, которые обобщают, систематизируют и «переводят» сумму изучаемых ими фактов на язык связного повествования, так или иначе отражающего их собственную интерпретацию и навязывающего нам авторское понимание материала. Недаром в Англии исторические исследования принято относить к сфере художественной литературы, а не науки. Я уже не говорю о степени субъективности самих исторических документов; ведь их составляли живые люди в конкретных социальных обстоятельствах, испытывавшие давление со стороны властей и т. п.
Здесь уместно вспомнить о теории «нарратива» и сослаться на авторитет Ж.-Ф. Лиотара и Ж. Дерриды. Прошлое открывается для человека только в форме «повествования» о нем, совершаемого кем-либо (например, самим Господом посредством «откровения» или человеком, рискнувшим присвоить себе сакральные функции «раскрытия правды» о днях минувших). Авторизованность подобного подхода неизбежно предполагает субъективную интерпретацию прошлого, а все прочее, могущее обнаружиться в культуре за пределами такой истории, – тем более фикция (фантазмы и симулякры, по Лиотару и Бодрийяру). Таков профессиональный метод изложения истории как авторизованного рассказа, к которому я не только отношусь с полным уважением, но и сам при необходимости делаю то же самое (другого метода нет), отдавая себе отчет о масштабах личностного переживания истории и степени авторской интерпретативности в ее описании. Этот же принцип доминирует в произведениях художественной литературы и искусства, в традиционных преданиях, мифах и легендах, суммой сведений которых и этнической традицией, сформировавшейся именно в недрах религиозно-художественной культуры, в существенной мере формируется историческая эрудиция всякого общества. Я не говорю уже о конфессиональной догматике как таковой, историческая фактурная доказуемость которой в данном случае даже не обсуждается, но роль которой в наших массово распространенных взглядах на историю трудно преувеличить.
Поэтому вопрос о том, что подразумевается под историей – подлинные события или их интерпретации, данные историками, писателями, художниками, философами, религиозными пророками и так далее, в принципе не имеет значения. Все, что мы знаем об истории, базируется почти исключительно на сумме авторизированных рассказов о прошлом, в лучшем случае имеющих некоторое отношение к объективно доказуемым фактам, или совершенно недоказуемых мифологемах – социальных, конфессиональных, национальных и т. п.
Вот пример, ставший почти классическим: все мы знаем пушкинскую эпиграмму на графа М. С. Воронцова «Полумилорд, полукупец… полуподлец…». А ведь это писалось о прославленном герое Отечественной войны 1812 года, генерале, непосредственно защищавшем Багратионовы флеши под Бородином (которые по справедливости следовало бы назвать Воронцовскими флешами; Багратион непосредственно на флеши фактически не заезжал)1, первым вошедшем в Париж в 1814 г., командире русского оккупационного корпуса во Франции (под покровительством которого зрели будущее декабристы). Конечно, у Пушкина не сложились личные отношения с генералом, и за публичное ухаживание за женой Воронцова – одной из самых красивых женщин того времени – поэт был выслан из Одессы в Кишинев. Похоже, Пушкина оскорбила не столько высылка, сколько то, что генерал от инфантерии и генерал-губернатор Таврии не снизошел до дуэли с мелким гражданским чиновником. И вот в нашем культурном сознании один из самых прославленных русских военачальников остался «полуподлецом». Не ссорьтесь с пушкиными.
Поэтому исследователю необходимо четко различать историческое событие (или персонаж) и закрепившуюся в культурной традиции его интерпретацию.
Другой вопрос, обладает ли субъективно проинтерпретированное знание о прошлом объективной научной значимостью. Думаю, что обладает настолько, насколько такого рода значимость вообще присуща оценочному подходу, зависящему от социального контекста его реализации. В отличие от физики, законы которой не поддаются интерпретации с точки зрения интересов общества (соответствует ли нашим национальным интересам закон всемирного тяготения?), гуманитарное зна ние всегда оценочно, всегда отражает интересы и ценности некоего сообщества, группы и т. п., что и было доказано еще философами-неокантианцами и М. Вебером. Оно значимо постольку, поскольку соответствует психологической комфортности членов данного сообщества, его самооценке и самоидентификации, выступает «оправданием» его прошлого и настоящего, особенностей культуры, нравов, обычаев и т. п.
Гуманитарное знание (включая историческое) дает возможность теоретически обобщить и отрефлексировать социальный опыт коллективного существования, накопленный многими поколениями предков. С этой точки зрения оно, так же как и искусство, обладает высочайшей социальной значимостью, становясь основой нашей психологической уверенности в себе как в обществе. При этом никаких объективных законов мироустройства оно (как и искусство) не открывает, поскольку подобные законы, как об этом свидетельствуют естественные науки, не поддаются ценностной интерпретации. Атомный вес водорода или строение ДНК не могут обладать большей ценностью для России и меньшей для Франции. А вот деятельность Карла Великого имеет, безусловно, разную ценность для французов и русских. Это значит, что в отличие от ДНК история Карла имеет разные культурные смыслы для разных обществ и интересна именно этой разностью. А из этого следует, что гуманитарные науки изучают не объективную правду о чем-либо (например, о каких-либо событиях), а ее частные и субъективные интерпретации – рефлексии свидетелей, а чаще – побочных трансляторов информации об этом. Иначе говоря, история изучает не правду о каких-либо событиях, а правду о чьих-то точках зрения (в том числе авторов исторических документов) по поводу этих событий. Это и есть нарратив.
Анализ эволюции жизни на Земле показывает, что от низших ее форм к более высоким непрерывно шло усиление значимости фактора коллективных форм существования особей, факторов социальности и ассоциированности как основного механизма популяционного выживания и воспроизводства. Межпоколенное поддержание коллективных форм жизни обеспечивает социальное воспроизводство группы, «правил игры», на основании которых коллектив сохраняет свою устойчивость. «Правила игры» не задаются извне, но вырабатываются самими членами ассоциации в процессе накопления практического опыта коллективной жизнедеятельности. У животных это происходит на уровне генетически наследуемых инстинктов, у людей – в результате разумного поведения, ориентированного на социально наследуемые культурные образцы.
Столь же показательна эволюция механизмов адаптации: у растений приспособление к изменению условий существования выражается в мутации видовых морфологических черт; у животных изменчивость видовых признаков дополняется локальной адаптацией отдельных особей и популяций посредством изменения стереотипов поведения, в частности, способностью к обучению (классический пример – цирковая дрессура). У человека же после сложения основных расовых типов морфологическая адаптация фактически свелась к незначительным элементам акселерации, главным же средством приспособления стало изменение сознания и способов поведения, особенно способов осуществления социальности или коллективного взаимодействия в процессе жизнедеятельности.
Не буду оригинальным, если назову описываемые явления коллективной человеческой жизни словом «культура». Культура людей функциональна и выступает как аналог того, что у животных мы называем биологическими механизмами выживания и популяционного воспроизводства в естественной среде. У людей такого рода механизмы работают в условиях социальной среды, то есть в ситуации взаимоотношений с человеческими коллективами. В свою очередь, практически вырабатываемые способы выживания и социального воспроизводства в конкретных исторических условиях, описанные в динамике, и есть история того или иного сообщества. Замечательный польский писатель и культуролог Станислав Лем называл различные культуры «локальными стратегиями выживания». Круг замыкается: культура – это способ выживания и воспроизводства социального человека в истории, а смысл истории мы находим в динамике накопления социального опыта выживания и воспроизводства, то есть в культуре.
Где же в этой схеме высокие духовные порывы, творчество, креативное начало, имманентно заложенные в человеке? Отвечаю: на каждом шагу. Духовность во всех ее проявлениях – это манифестация некоторых идеальных форм осуществления социальности, то есть воплощенных социальных конвенций по поводу «правил игры» коллективного сосуществования людей. Как правило, духовность, понимаемая в таком смысле, оперирует социальными проблемами на таком уровне рефлексии, до которого основная масса человечества еще не доросла.
Таким образом, я прихожу к выводу (и подозреваю, что являюсь далеко не первым) о том, что понятия «история» и «культура» в существенной мере тождественны. История есть описание динамики того, что в статике рассматривается как культура; смысл истории в том, чтобы быть динамикой культуры, а смысл культуры в том, чтобы быть статикой истории.
Можно поставить вопрос и по-иному. В конце концов, никакой истории и культуры на свете нет. Это лишь слова, условные обозначения. Как факт существует человеческая деятельность. Ее событийный ряд мы договорились называть словом «история», совокупность форм и результатов – словом «культура». В таком случае история культуры – это событийный ряд порождения и существования форм и продуктов человеческой деятельности. При понимании того, что история и культура – лишь разные ракурсы описания человеческой деятельности, их тождество становится еще более очевидным.
Когда история и культура расходятся в этом тождестве, появляется такой феномен, как памятник. Памятник – это культурный артефакт, переживший свою актуальную историю, семантически остающийся свидетельством прошлого, но социально уже неактуальный.
Можно сказать, что культура – это предмет истории, совокупность того, что может быть систематически описано в качестве повествования (текста), создающего образ сколько-нибудь целостного прошлого. Культура – это также и смысл истории, значимый социальный опыт коллективной жизнедеятельности людей, который заслуживает быть систематически описанным в качестве истории. В этом случае понятия «общая история» и «история культуры» различаются весьма условно. Поэтому представляется справедливым понимать под историей культуры собственно всеобщую историю, рассматривающую исследуемый материал под определенным углом зрения ради выявления универсальных и уникальных параметров социального опыта коллективного существования и социального воспроизводства всякого конкретно-исторического общества в его уникальном пространстве и времени.
В связи с этим возникает вопрос о культурогенезе. Было ли у культуры какое-либо происхождение, начальная историческая точка отсчета? Думаю, что нет. Имел место процесс постепенной трансформации генетически наследуемых инстинктов социальности животных в социально наследуемые паттерны коллективного взаимодействия людей. Накопление этих паттернов и составило то, что мы называем культурой. Но культурогенез тем не менее имеет место и заключается в бывшем, происходящем и будущем непрерывном порождении новых культурных форм и их объединений в новые локальные системы. Культурогенез можно назвать процессом преодоления накопившейся традиции под давлением изменившихся внешних обстоятельств существования, что было, есть и будет всегда.
Таким образом, я прихожу к выводу о том, что культура и история, в сущности, представляют собой один феномен, различающийся лишь благодаря исходной позиции исследователя. Когда его интересует динамика событий, этот феномен он называет историей, если же ему интереснее статика – устойчивые компоненты ситуации или феномена, то она называется культурой. На самом деле ни в истории, ни в культуре динамика и статика сами по себе не доминируют, а лишь условно акцентуируются исследователем.