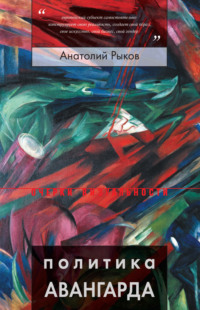Read the book: «Политика авангарда»
© А. Рыков, 2019,
© Е. Габриелев. Оформление, макет серии, 2019,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
Памяти Ирины Анатольевны Рыковой, моей матери
Предисловие
Искусство авангарда – один из наиболее сложных для интерпретации феноменов мировой культуры. Несмотря на то что историография традиционно идентифицируемых с понятием авангарда явлений художественной культуры труднообозрима и исключительно богата подчас диаметрально противоположными концептуальными подходами, очередная волна исследований в данной области свидетельствует о начале совершенно нового этапа в изучении этой проблематики. Выработке и настройке сложнейшего методологического инструментария сопутствовали раскрепощение исследовательских практик и установление новой междисциплинарной научной парадигмы. Искусство авангарда таким образом приобрело множество неизвестных доселе теоретических измерений, а также исторических и бытовых контекстов, которые сделали репрезентацию этого явления в мировой науке более конкретной и многогранной.
Исследовательская практика последних десятилетий позволяет с полным основанием говорить о том, что ключевым препятствием и одновременно одним из основных стимулов в осмыслении авангардистской революции остается не подлежащая сомнению теснейшая связь «современного искусства» с политическими процессами. При этом «слепым пятном» в исследованиях авангарда был, разумеется, не интерес к политическому как таковому. Скорее речь может идти о серии посттравматических синдромов, вытеснении из исторической памяти целых пластов рецепции современного искусства. Этими вехами стали мировые войны, революции и противостояние идеологических систем, ознаменовавшие собой эпоху диктата «политики», ставшую эпохой догматичного и непримиримого диктата различных типов «эстетики».
Отвлеченные теории авангарда перестали казаться приемлемыми именно в тот момент, когда теоретический подход к современному искусству возобладал окончательно. Исследование исторической обусловленности «теорий авангарда», их психологических и бытовых корней максимально конкретизировало наши представления о рецепции современного искусства. Вероятно, будущее принадлежит работам гибридного типа, в которых термины «история» и «теория» будут заключены в кавычки. Эмансипация исследовательских практик на рубеже ХХ – ХХI вв. определяется осознанием того, что любой «факт» истории искусства конструируется в рамках тех или иных теоретических или идеологических дискурсов. Отказ от эссенциалистских представлений о неизменной природе искусства явился наиболее плодотворным сдвигом для современного искусствознания, открыв новые пути к осмыслению давно волновавшей ученых проблематики.
Поскольку «сущность» искусства оказалась подвижным продуктом разнообразных процессов производства и потребления «художественных произведений», никакая «теория» не может подменить собой богатство опыта, равно как и никакой «опыт» не вправе претендовать на независимость от теории. Авангард всегда находился в эпицентре интеллектуальной и социальной истории, открывая бесконечную череду метаморфоз, переходов между различными дискурсами. Возможно, в будущем именно исследования в области исторического авангарда приведут к созданию новой парадигмы социальной истории ХХ в., новой концепции современности.
Введение
Историография искусства ХХ в. – порождение эпохи глобальных теоретических концепций. Вопрос «Что такое искусство?» находился в фокусе внимания искусствоведов и философов правой и левой ориентации по обе стороны «железного занавеса». При этом как правые, так и левые дискурсы выработали целый ряд клише, институционализация которых в рамках университетской традиции надолго задержала развитие эмпирических исследований. Гипнотическая сила этого набора ложных оппозиций, навязанных схем мышления, заранее детерминирующих выводы той или иной искусствоведческой работы, разумеется, проявляет себя и в современной науке. Одним из примеров подобного рода оппозиций может служить дихотомия искусство/экономика, в свое время определившая «сакральный» статус произведения искусства в рамках формалистической парадигмы. Искусственное исключение художественного творчества из сферы производства и потребления, вынос за скобки его маркетинговых, рекламных стратегий сужает символический потенциал научных реконструкций авангардистского движения.
Другая оппозиция, буквально парализовавшая на некоторое время исследовательскую работу в данной области, – искусство/политика – игнорировала многие примеры взаимопроникновения этих двух форм символического поведения, политического и художественного дискурсов в «реальной» и «интеллектуальной» истории ХХ в. Исходя из неких «готовых», «закрытых» концепций искусства и политики, авторы отказывались от исследования конкретных форм контаминации этих сложных явлений. Между тем искусство и политика – не сферы с четко очерченными границами, и разделение их в конкретных исследовательских практиках зачастую представляется проблематичным. Абстрактные рассуждения о пользе и вреде «истории» для «искусства» не должны отвлекать нас от тщательного изучения социальных и политических контекстов художественного творчества. Многообразие документов и культурных памятников ХХ в., не вписывающихся в какую-либо из имеющихся в наличии «общих теорий авангарда», «деконструирует» тенденциозные подходы к проблеме, выступающие в роли иллюстрации того или иного «мировоззрения».
Искусство и религия – еще одна требующая деконструкции оппозиция. Квазимагические практики современного искусства, его способы «подключения к сакральному» невозможно изучать исходя из неких эссенциалистских концепций религии и художественного творчества. Общая неопределенность в вопросе о природе искусства и сакрального опыта служит естественным фоном для любых исследований в данной области. Поскольку целью изучения специфики того или иного примера как раз и является определение конкретных механизмов трансформации «общего» (искусство/религия) в «реальной» арт-практике, изменчивая «сущность» искусства, варьирующаяся в зависимости от объекта, контекста и интерпретации, и есть подлинный предмет искусствоведческих исследований, непредсказуемых в своих конечных выводах.
Расизм, национализм, милитаризм накануне 1914 года обладали богатейшей «художественной» родословной, без учета которой невозможно формирование сколько-нибудь объективной картины развития современного искусства. Традиционные представления об искусстве как союзе истины, добра и красоты, уходящие в конечном счете в область религиозных верований, препятствовали беспристрастной оценке этого аспекта истории авангарда. Приходится признать, что экстремистские и даже преступные теории легко интегрируются («вчитываются») в интерпретационную ткань произведений искусства различного художественного ранга, а сами авторы шедевров мировой культуры вполне могут являться носителями тех или иных идеологических «инфекций». Это не отменяет «нейтральности» и принципиальной открытости любого искусства. «Считывая» некий «тоталитарный» код, мы раскрываем лишь определенный аспект бытия произведения, заставляющий, впрочем, полноценно функционировать все его «художественные» компоненты.
В некоторых случаях колоссальное суггестивное воздействие политических символических систем позволяет говорить о том, что их формы рецепции в области изобразительного искусства приближаются к определенным типам религиозного опыта. Вполне логичной поэтому представляется гипотеза о том, что беспрецедентное вторжение политики в художественную сферу в «коротком двадцатом веке» и было в конечном итоге обусловлено этим смешением религиозного и политического, то есть возникновением в ХIХ – ХХ вв. целого ряда светских/политических религий.
Особого внимания в этой связи заслуживает оппозиция эстетическое/политическое, появляющаяся задолго до известной работы Вальтера Беньямина. Уже в ХIХ в. эстетизм был неразрывно связан с политической сферой и был возможен только в рамках детально артикулированной социальной философии искусства. В дальнейшем эстетическое неоднократно маркировалось с помощью идеологического словаря понятий, превратившись в настоящее «яблоко раздора» в западной политической теории, неотделимой от искусствознания. «Эстетическое» ассоциировалось с фашизмом, капитализмом, либеральной демократией, историзмом, национализмом, различными активистскими или пассивно-созерцательными практиками и мировоззренческими установками. Центральное место в современной концептуализации феномена эстетического занимает проблема отчуждения: синтез чувственного и рационального как идеальная утопическая модель эстетического опыта сменилась образами дистанцированного, «садистского» восприятия действительности, «модернистскими» и «тоталитарными» версиями эстетизма.
Долгое время эстетика рассматривалась как символ освобождения от всевозможных форм онтологизма и «мира данности», альтернатива религиозному мышлению. Процесс постепенной «виртуализации» жизненного мира в этой концепции оценивался как важнейший симптом становления мышления «западного типа». «Прогрессивность» подобных изменений связывалась с обретением независимости от «неизменных законов бытия», созданием человеком «собственной», «третьей» реальности, отличной от природной действительности и пространства религиозных представлений. Европейский субъект самостоятельно конструирует свою реальность, создает свой образ, свое искусство, свой бизнес, свой гендер. Эстетическое в данном случае предполагает своеобразный эффект дематериализации, отсылающий к мифу о всемогуществе человека, антропоцентризму эпохи Возрождения.
Дискуссия об исчерпанности возможностей капиталистического метанарратива и легитимировавших его концепций «технологического мистицизма» (объединявших «эстетический проект» с «виртуальной реальностью» позднего капитализма) породила волну нового критического переосмысления феномена эстетического. Необходимость очередного парадигматического разворота в исследованиях в данной области также диктовалась дискредитацией связанных с тоталитарным мышлением разновидностей активизма и антропоцентризма.
В этом контексте глубоко символичным представляется тот факт, что такие отцы-основоположники модернизма, как Бодлер, Ницше или Уолтер Патер, в то же самое время были ключевыми фигурами в истории эстетизма как особого феномена культуры ХIХ столетия. Особенно показателен случай Бодлера, автора одной из наиболее последовательных и провокационных версий эстетизма: соединение религиозного и политического измерения, включавшего игру с дискурсами классизма, сексизма, расизма и милитаризма, в текстах Бодлера исключительно важно для дальнейшего развертывания модернистского синтеза политического и художественного. Ирония, всегда присутствующая у французского поэта, не отменяет того факта, что мифологема «искусство для искусства» конструируется им как особая политическая экстремистская позиция, игровое «зеркальное» отражение «иконоборческих» стратегий.
Необходимо помнить об условности терминов «авангард», «модернизм», «реализм», «современное искусство». Изучая «авангард», мы исследуем различные риторические системы, их функционирование в тех или иных контекстах. С этой точки зрения «форма» есть такой же конвенциональный термин, как и «реальность», а оппозиция реализм/модернизм абсурдна, будучи никак не связанной с конкретикой истории современного искусства. Термин «реализм» в настоящее время – это «западный» термин, лучше всего разработанный в западном искусствознании. На Западе «реализм» до сих пор моден и ассоциируется с борьбой против господствующих и коррумпированных идеологий. От Караваджо до Рона Мьюика и Дэмиена Херста здесь обнаруживается своеобразная преемственность. В России «реалистическое» измерение авангарда, равно как и его «классическое» измерение, не прочитываются, их символические коды остаются чужими для отечественных исследователей.
В истории искусства Нового и Новейшего времени авангард и реализм трудно разделить. В ХIХ столетии реализм/авангард получил благословение от многочисленных «светских религий» современности (сенсимонизм, фурьеризм и т. д.). Свобода от заданных программ и идеологий, отсутствие метафизического ядра и «второго измерения», работа с шоковым опытом объединяют эти явления мировой культуры. В этом отношении можно согласиться с расширительной трактовкой реализма в работах Линды Нохлин, утверждавшей, что под знаком реализма проходит вся история современного искусства. Современный исследователь занимается «символами» реализма, его «ярлыками» и кодами. По своему символическому капиталу, «литературности» реализм отнюдь не уступает, к примеру, символизму, но парадокс реализма/авангарда как раз и заключался в «программной» борьбе со всякими теориями и программами, исключении из искусства идеологического измерения. Отношение к реализму в современной России, в позднем Советском Союзе представляет собой особый частный случай и тяготеет к религиозным или, по крайней мере, онтологическим формам рецепции этого феномена.
В современном искусстве «реализм» понимается очень широко, это своего рода пуристская установка. Он может интерпретироваться как «буквализм», «чистый опыт», «чистое действие», «чистое искусство», то есть как способы сопротивления коррумпированному символическому (вербальному, идеологическому) измерению. «Реальность» становится неким «откровением», скрытым от взора обывателя, погрязшего в схемах и конвенциях. Именно в свободе от риторики, «культуры», в «правде» видели, по мнению авторитетного американского исследователя Томаса Кроу, радикализм Жака-Луи Давида его революционно настроенные современники. Утонченность, искусственность, конвенциональность противопоставлялись архаике, примитивизму, «правде», террору, смерти.
Начиная с Караваджо, а может быть, и раньше реализм оказывается «терроризмом»; им объявлен беспощадный террор по отношению к обывателю и культурным нормам. Вместе с тем «терроризм» современного искусства с самого начала имел архаические черты, он переплетается с ритуалом и мифом. «Полнота реальности», к которой апеллирует «реализм», может отсылать к прошлому. Фантазм «полноты реальности» становится частью мифа о регенерации, возрождении неких утраченных культурных ценностей и тем самым может приобретать реакционные черты.
Иконоборческая составляющая реализма в его широком значении проявит себя в наиболее радикальных направлениях современного искусства. «Истина» – центральное понятие поэтики реализма – понимается здесь негативно, как отсутствие лжи, идеологии, идеального. Авангардистская концепция свободы подразумевает этот диалог с неинтеллигибельным, негативным, в конечном итоге опирающийся на гегельянскую традицию и отсылающий прежде всего к «романтической» диалектике раба и господина в «Феноменологии духа». Борьба с метафизикой, благодушными идеалистическими системами, находящими в мире «смысл» и «гармонию», стала лейтмотивом современного искусства, от реализма до минимализма. Авангард ценит опыт, а не законченные доктрины, и в этом отношении он часть современной научной картины мира.
История классического немецкого искусствознания началась с отрицания возможности «простого подражания» действительности. Наука об искусстве, таким образом, рождается, по сути, как опровержение «реализма». То, что мы имеем в виду сейчас, говоря о «реализме», есть его скрытая иконологическая программа, связанный с его легитимацией «корпус текстов». Мифология или иконология реализма – важнейшая составляющая мифологии современного искусства, существенно дополняющая его «формалистическую» составляющую. Экстремистские стратегии авангарда/модернизма, строившиеся вокруг понятия формы, как некоего квазирелигиозного, утопического субстрата, типологически близки аналогичным стратегиям, группировавшимся вокруг терминов «материя» или «реальность». Вера в проникновение к «реальности», в возможность обретения некой «полноты жизни», аутентичности существования есть часть квазирелигиозной модели мышления в той же мере, что и потребность отречения от профанной действительности в утопическом пространстве «формы».
Освобождение «правды» или «формы» от наслоений «культуры» или «цивилизации» – утопический лозунг авангарда, который оценивается критически современной наукой именно в силу сложности характера тех неэссенциалистских, вербально-визуальных концепций искусства, которые лежат в ее основе. «Чистота» формы или «невинность» реальности мгновенно маркируется современным искусствознанием как протототалитарные, утопические конструкты, дискриминирующие интеллектуализм и рациональные способы познания действительности. В то же время «реализм» и «формализм» интересны как определенные системы ценностей, опирающиеся на свою мифологию, иконологию, серию литературных источников. У «реализма», разумеется, нет привилегированного доступа к «реальности», равно как у «формализма» нет единства с «формой». Речь идет о символах «телесного», неинтеллигибельного, формального, конкретного, материального, недоступного «инструментальной рациональности», всегда неуловимого, недостижимого. «Природа», «форма», «стихия», «жизнь» – это мифологические понятия, которыми питались метанарративы авангарда.
В эпоху холодной войны формализм стал «официальной» теорией искусства на Западе, в то время как термин «реализм» использовался советской пропагандистской машиной для определения «прогрессивных» тенденций в мировой культуре. Но все эти сами по себе показательные примеры апроприации авангардистской риторики – не более чем частные случаи, отдельные интерпретации «реализма» и «формализма». Абсолютная идентификация «реализма» или «формализма» с полуофициальными доктринами СССР или США нанесла ущерб полноценному исследованию риторических систем авангарда. Необходимо учитывать симпатии элиты (боровшейся с господствующими идеологиями) в России и на Западе к «формализму» и «реализму» соответственно, принимая во внимание существование различных подходов к данной проблематике.
«Полнота жизни», «подлинная реальность», «ауратичное бытие» – все эти фантазмы так называемой «философии жизни», «консервативной революции» и других модных течений рубежа ХIХ – ХХ вв. превратились в источники виталистических мифологий авангарда. С момента своего возникновения авангард был связан не только с утопическими политическими проектами, но и с попытками создания «светских религий», тяготеющих к мифическому концепту «чистого действия». В России теория реализма зачастую онтологизируется в рамках религиозной философии (Павел Флоренский) или советского марксизма (Михаил Лифшиц). На Западе на первый план выходит экзистенциальная сторона этого феномена, индивидуальные творческие поиски. «Реализм» не был официальным стилем нацистской Германии, фашистские теоретики не использовали этот термин. В то же время любой тоталитарный режим основывался на вере в реальность определенного сакрального типа, поэтому однозначное противопоставление фашизма реализму представляется некорректным.
Западное искусствознание рубежа ХХ – ХХI вв. радикальным образом изменило наши представления об авангарде, который, утратив в глазах ученых свой элитарный характер, оказался вовлеченным в политическую и культурную историю ХХ в. с ее мощными тоталитарными и националистическими движениями, массовым искусством и современными пиар-технологиями. У авангарда не было иммунитета по отношению к вирусам сексизма, классизма или расизма; что касается границ между элитарным и массовым искусством, то они в современном научном дискурсе фактически снимаются. Водоразделы между классикой, авангардом и массовой культурой не кажутся в настоящее время ни самоочевидными, ни абсолютными. «Классическое искусство» – такой же условный и проблематичный термин, как и «авангард»; четкая граница между классикой и авангардом существует лишь в воображении обывателя.
Классика – один из главных фантазмов авангарда. Наряду с «архаикой» и футуристическими проектами «классика» в ее различных изводах противопоставлялась представителями модернизма филистерской и «дегенеративной» современности. Давид, Ницше, Бодлер, Сёра, Сезанн, Пикассо создали свои версии «классики», неотделимые от истории современного искусства. Параллельно в искусствознании ХIХ – ХХ вв., становление которого проходило под знаком все тех же модернистских мифов, формировались концепции классического искусства, мало чем отличавшиеся от современных авангардистских теорий. Теории классического, представления о Ренессансе и барокко, Древней Греции и Риме сами по себе были частью модернистской эпохи, что осложняет исследование данной проблематики.
Искусство авангарда – такая же бесконечная череда «индивидуальностей», «исключений» и «частных случаев», как и классическое искусство. Ни одна теория не сможет предсказать особенности дискурсивного поля того или иного конкретного текста, его семиотического механизма. Искусство нельзя подменить теорией. Вместе с тем в широком смысле искусство и есть теория, стратегия – маркетинговая или идеологическая – в той мере, в какой оно является частью «большой истории искусства» и, в частности, составляющей школьной или университетской учебной программы. Исследователи, как правило, имеют дело с искусством как социальным и идеологическим феноменом, известность и влияние которого «куплены» ценой его отнюдь не бескорыстной включенности в мировые властные механизмы. «Источники» и «референты» искусства авангарда – это не «истина, добро и красота», а конкретная историческая действительность с ее противоречиями и конфликтами. Переход от «истории» и «идеологии» к «музею» и «вечности» и есть подлинный предмет исторической интерпретации искусства. Эта «институционализация» индивидуальна, если речь идет о «большом искусстве», но ее интеллектуальная изощренность не застрахована от цинизма и «двойного кодирования». Идеализация искусства – авангардистского или классического – ни на шаг не приближает к его пониманию. Хотя искусство, начиная с эпохи романтизма, нередко воспринимается в качестве некоего суррогата религии, «реальная» история искусства жестока и бессмысленна, как и сама жизнь.