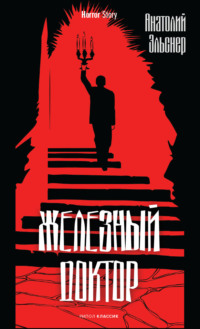Read the book: «Железный доктор»
© Марков А. В., вступительная статья, 2021
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Доктор Смерть как лжепсихоаналитик
Определить жанр романа Анатолия Оттовича Эльснера «Железный доктор» можно таким образом – это не просто хоррор, но еще и антинигилистический роман. Таких романов много писалось в XIX веке и в России, и во Франции, например, «Некуда» (1864) Н. С. Лескова или «Ученик» (1889) Поля Бурже. Цель таких романов – ответить на триумф естественных наук, сопровождавшийся распространением механистического материализма. Рассмотрение живой природы как машины, человека – как совершенных часов, идей – как продукта работы мозга, а совести и чести – как необязательных реакций на раздражения окружающей среды среди многих других мелких порывов было необходимо для утверждения научной медицины. Всю вторую половину XIX века во врачебной науке шли методологические споры, следует ли рассматривать человеческий организм как один из организмов, наравне с организмами чайки, кита или обезьяны, или же в человеке есть психофизиологические явления, которых нет у других животных и без учета которых его лучше не лечить.
Во многом такие споры были связаны с созданием лабораторий в современном смысле, когда многие эксперименты, химические или биологические, становятся небезопасными, их перестают демонстрировать на лекциях, как это делалось еще в начале XIX века, но создают специальные помещения с идеальными условиями. Тайна лаборатории – один из главных сюжетов любого хоррора, страшного романа, что закономерно, учитывая, что лабораторию трудно контролировать, а ее продукция может понадобиться прямо сейчас, например, во время эпидемий. Современный историк науки Бруно Латур в книге о Луи Пастере показал, как автономная лаборатория стала таким же признаком современности, как небоскреб, банк, бомба, самолет – со всеми этими вещами связываются страхи, но с лабораторией – самые необычные из страхов: не мутирует ли ученый, когда подолгу сидит в лаборатории? Тем более лаборатория всегда в чем-то напоминает монастырь, в чем-то – университетский кампус, в чем-то – военный городок, и исследования современных социологов, например, «обнинский проект» Галины Орловой, показывают, как большой научный эксперимент, вроде строительства реактора, меняет привычки людей не меньше, чем, например, переезд из деревни в большой город.
Но несмотря на все страхи публики, в конце концов во всех странах побеждает «сильная программа», убеждение, что эксперименты на животных вполне могут подсказать метод лечения человека, хотя какие-то черты «слабой программы» мы находим и сейчас в национальных медицинских традициях – скажем, в нашей стране диагностируются авитаминоз или вегето-сосудистая дистония как специфически человеческие болезни, явления одновременно физические и психические, и врачи лечат то, с чем должны бы иметь дело психотерапевты. Но все же мы понимаем, что такое доказательная медицина и чем она отличается от парамедицины – как многоэтапно тестируются лекарства, чтобы их безопасность и лечебное действие стали признаны.
Но обратной стороной утверждения научного метода стал страх перед его холодной рассудочностью, беспощадной расчетливостью, поспешной и при этом не до конца понятной риторикой. Когда генерал говорит о войне, хотя бы понятно, чего он хочет, а чего хочет ученый, когда выступает с призывами к счастью человечества? Вероятно, такой страх публики перед рациональностью всегда сопровождал философию, поэтому медики со времен Античности выступали всегда как корпорация, объединение людей, доверяющих друг другу, чтобы их не обвинили в шарлатанстве или причинении вреда. Но в XIX веке появляются медики, имеющие собственные клиники или хотя бы занимающиеся полностью частной практикой как личные врачи, и один из них – как раз герой романа Эльснера. В начале XX века в Берлине и Мюнхене, Москве и Петербурге в модном стиле модерн строятся здания неврологических и других частных клиник, рассчитанных на состоятельных клиентов. Соответственно, практикующий частным образом врач, замкнутый в своем кабинете, становится одним из прототипов ученого-маньяка, стремящегося улучшить мир или создать новую человеческую породу – хотя, конечно, в частных клиниках просто лечили действительно страдающих пациентов.
Антинигилистический роман показывает всегда одно – как последовательный материализм, будучи понят как способ отношения к миру, ведет к преступлению или возможностям преступления. Конечно, в начале ХХ века такой тип романа стал устаревать, потому что философия того времени – герменевтика Дильтея, феноменология Гуссерля, неокантианская систематика Когена, новая социология Дюркгейма, новая теология Бультмана – доказала, что ряды ценностей и ряды фактов заведомо различаются. Можно быть материалистом, исходя из наблюдений над фактами окружающего мира, но это не значит, что нужно думать только о своей или о чужой выгоде. Можно быть атеистом, не находя достаточных доводов, подтверждающих факт высшего бытия, но это не значит, что можно считать все одинаково низшим и заслуживающим только уничижения, беря на себя власть над чужой жизнью и смертью. Конечно, большинство врачей не читает ни Дильтея, ни Гуссерля, ни Хайдеггера, но обновленная атмосфера эпохи препятствует смешению понятий «бытие» и «ценность», хотя кое-где оно по инерции встречается до сих пор, когда говорят, например, о «склонности к труду в крови».
Герой романа Эльснера стоит, вероятно, первым в ряду русских литературных докторов-маньяков, которые ставили эксперименты на людях: например, профессор Преображенский в «Собачьем сердце» М. Булгакова – явно сатирическая фигура пошловатого и корыстного человека, мурлычущего арии и лечащего номенклатуру, вполне наследующего профессорам-нигилистам, материалистам в обыденном смысле. Еще выразительнее маньяк в бульварном романе Иво Има (Афонькина) «Похитители разума», вышедшем на русском языке в 1947 году в Мюнхене: там описан нацистский садист, скрещивающий людей и обезьян. Безумный ученый стал героем триллеров и графических романов, и сразу надо заметить, что он имеет и свою честную и благородную ипостась: от доктора Томаса Стокмана в пьесе Г. Ибсена «Враг народа» (1882) и врачебного опыта Чехова и Булгакова до Рика Санчеза в мудром мультипликационном сериале «Рик и Морти» (2014). Такой ученый – тоже скептик, циник, атеист, но он добр и щедр к людям по одной простой причине – он не умеет манипулировать, он знает, что сам уязвим, смертен, имеет много слабостей, что законы Вселенной сильнее его, что настроение может зависеть от случайно пролетевшей мухи, что без толики юмора не справиться со сколь-либо сложными задачами исследовательского поиска. Смотря на немыслимые приключения Рика Санчеза, мы учимся справляться со страхами, а входя в триллер Эльснера, понимаем, откуда эти страхи взялись.
Злой доктор Эльснера носит фамилию Кандинский – для нас это фамилия прежде всего художника-авангардиста. Но в 1903 году, когда вышел роман, публике был известен только один человек с такой фамилией, дядя будущего художника, психиатр Виктор Хрисанфович Кандинский. Ему принадлежит знаменитое исследование «О псевдогаллюцинациях», изданное посмертно вдовой врача в 1890 г. и явно известное Эльснеру, судя по некоторым поворотам сюжета и отдельным словам из новейшего словаря тогдашних психологов. Так, В. Х. Кандинский открыл явление галлюцинаций наяву, например, когда человек совершает какое-то действие, но не может дать себе отчет, что именно он совершает это действие, кажется, что это «кто-то» движет рукой и поднимает тело со стула. Простое физическое существование при таком расстройстве оказывается источником мук, человек самого себя видит автоматом и со страхом глядит на то, как автоматичны и механичны его привычные действия. Кандинский в варианте Эльснера – это не бескорыстный и добродетельный исследователь, которым был его реальный прототип, очень ранимый человек, а наоборот, коварный соблазнитель, восходящий к «либертенам» эпохи Просвещения, умеющий поймать в риторические ловушки невинные души. Ловкими построениями и лукавой улыбкой он внушает собеседникам, что они автоматы, а значит, убить другого человека – значит всего лишь «остановить маятник».
Но зловещая риторика этого героя иная, нежели у персонажей маркиза де Сада – это не доведенный до абсурда рационализм, подменяющий ключевые аргументы наиболее сильными эмоциями, а незаконное использование того, что психоаналитики называют переносом: приписывание черт погибшего или исчезнувшего человека новому человеку, включая того же психоаналитика, который в результате может восприниматься как лучший друг или как злейший враг. Известен анекдот про психиатра, который с помощью разумных и фактических доводов попытался объяснить пациенту, страдающему манией преследования, что того никто не преследует; тогда пациент законно решил, что преследует его сам врач, организовавший в свое время атмосферу и ситуацию преследования. Любой перенос в психоаналитической практике требует повышенного внимания, тогда как наш доктор-убийца, наоборот, заставляет совершать перенос за переносом – видеть в нем самом любимого человека, в близком родственнике – врага, в медицине – объяснение всех загадок мира, в убийстве – самую случайную из случайностей. Система соблазняющих переносов, лишающих людей любого чувства реальности, погружающая их в эмоциональные грезы, раскрыта в этом романе с небывалой убедительностью.
Сам Анатолий Оттович Эльснер был педагогом, драматургом, романистом, живо интересовавшимся любыми новыми поветриями, от спиритизма до сектантства, состоял в переписке с Л. Н. Толстым. Великий классик упрекал Эльснера в склонности к фантастике, в том, что он берет современность с ее неожиданными направлениями мысли и патологиями, но не знает до конца, откуда произошла эта последняя. Но то, что было слабостью Эльснера, когда он пытался писать реалистические или исторические произведения, сделалось его силой, как только начал сочинять хорроры и оккультные романы. В них новые направления в психологии и психиатрии, как и нарождающийся психоанализ, получили свое полное отражение – пусть и в очень гротескном зеркале. Вероятно, любому начинающему психологу и психоаналитику следует с карандашом в руке прочесть этот роман – здесь сказано, каким не должен быть специалист в общении с клиентами, что недопустимо, как злоупотребление отдельными техниками аргументации в ходе сеанса может привести к убийству или иным преступлениям. Психоаналитическая культура стала неотъемлемой частью современной жизни – даже если мы не ходим на сеансы, мы каждый день слышим термины вроде «травма» или «терапия»– и этот роман можно считать первой русской инструкцией по технике безопасности в этой области, несомненно увлекательной и зрелищной в лучшем смысле.
Александр Марков, профессор РГГУ
Железный доктор
Если моя книга никому не понравится, то она все-таки, может быть, хороша. Если она некоторым понравится, то, наверное, хороша. Если же она всем понравится, то, наверное, никуда не годится.
Дидро
I
В одном из номеров Н-ой гостиницы было много студентов. Играли в винт, потом ужинали, потом опять пили. В конце концов высокий белокурый студент – Бриллиант – стал приготовлять жженку. Лампы были потушены и лица в синем свете горящего сахара казались призрачными. Бриллиант высоко поднял бокал и с шутливым видом провозгласил:
– Господа, вы, конечно, очень мало подготовлены к тому, что я вам должен сообщить сию минуту. Куницын, этот самостоятельный юный жрец Эскулапа с гордой душой, Куницын, который всегда проповедовал принцип полной самостоятельности, этот Куницын одним своим убийственным поступком опрокидывает все величавое здание, эффектно воздвигнутое на шатком фундаменте из цветистых слов и фраз. Но прежде, чем я поведаю вам о его преступлении, предлагаю, господа, окиньте его величавую фигуру вашими презрительными взорами.
Стройный брюнет, на которого обратились при этих словах глаза всех присутствующих, стоял с видом наружного спокойствия в бледно-матовом лице и, чтобы скрыть выражение своего счастья, хмурил свои брови над черными, весело вспыхивающими глазами.
Бриллиант с комическим пафосом продолжал:
– Теперь переведите ваши взоры на сию молодую особу, Лидию Ивановну Травину, и смотрите на нее с самым уничтожающим презрением. Вспомните, господа, что она в течение нескольких лет, находясь в нашем холостом кружке, не только с презрением отвергала брачные узы, но даже прямо заявляла, что это достойно разве папуасов и что она сама, подобно госпоже Сталь, не имеет пола. Она говорила нам только о звездах, планетах, об обширных морях, омывающих материк Марса, о бесчисленных светилах, зажженных безличной природой, и речи ее были полны величия и самой назидательной строгости. Смотрите же на нее сначала, смотрите хорошенько.
Девушка лет двадцати, с короткими, доходящими до плеч светло-каштановыми волосами, с чрезвычайно нежным лицом, на котором теперь пылал яркий румянец, закинула назад голову и залилась веселым счастливым хохотом, звенящим, как колокольчики; горло ее билось, как у поющей птички.
Бриллиант продолжал:
– Преступление их обоих ужасно, господа. Вообразите, они задались целью оплести себя тяжелыми брачными кандалами в предположении, что вдвоем им веселее будет совершать свой жизненный путь.
– Кандалами! – воскликнула девушка с пламенным оживлением. – Вы, кажется, воображаете, что мы два каторжника. Совсем вы ошибаетесь – если я и наложу на него цепи, то носить их будет совсем не обременительно: я их совью из одних роз чистейшей любви.
Она не выдержала и снова рассмеялась, но как только ее голова опять стала отклоняться назад, Куницын охватил ее талию руками и, видя пред собой ее смеющиеся розовые уста, прильнул к ним своими губами.
В этот момент дверь с шумом раскрылась и вбежавший с перепуганным лицом юноша воскликнул:
– Господа, произошел ужасный случай, слушайте. – Он высоко поднял руку, как бы заявляя этим жестом о важности сообщаемого им события и, когда студенты, в ожидании чего-то необыкновенного, уставили на него свои взоры, он с выражением испуга, громко сказал: – Наш таинственный доктор, который вчера нас так заинтересовал своими оригинальными взглядами на жизнь, в настоящее время сидит в своем кресле мертвым.
После короткого молчания послышались с разных сторон всевозможные восклицания ужаса и недоверия, а Бриллиант сказал:
– Ты говоришь, доктор Кандинский умер. Согласись, тебе просто это приснилось, любезный друг. Я его видел не более как часа два назад.
– Я не знаю, найдется ли идиот, который в подобного рода вещах найдет уместным шутить. Повторяю, Кандинский сидит теперь в своем кресле мертвым. Пойдемте, господа.
Он направился к двери, и вся толпа студентов последовала за ним. Они прошли бесконечный коридор, поднялись на несколько ступеней кверху и остановились у широко раскрытых дверей большой комнаты. Вошедшие как бы замерли в чувстве бессознательного ужаса и какого-то пугливого любопытства.
Прямо против них, в ярком освещении двух стоящих на письменном столе ламп, рельефно выделялась сидящая в кресле фигура человека с изжелта-пепельным окаменелым лицом, с правой рукой, приподнятой с крошечным флаконом к раскрытому и судорожно сведенному в последней конвульсии рту, с левой рукой, протянутой вдоль колен, в окоченевших пальцах которой находилась кипа бумаг. Из-под черных полуопущенных бровей с необыкновенной грустью смотрели безжизненные светлые глаза. Мертвое, с красивыми чертами лицо окаймляли черные, начавшие серебриться сединой волосы и борода. Труп был одет изысканно-прилично, в черный сюртук и белье безукоризненной белизны.
Долго все хранили молчание, находясь под впечатлением того невольного уважения, какое обыкновенно вызывается зрелищем неожиданной смерти.
– Ужасная картина, господа, – с нервной быстротой проговорила Лидия Ивановна, в страхе переводя плечами, точно в ощущении холода. – Самое ужасное – это то, что он сидит, как живой, и я никак не могу представить себе, что он мертв.
Бриллиант шепотом проговорил:
– Он умер мгновенно. Смотрите этот флакончик… Можно сказать наверное, что там остатки синильной кислоты. Это – яд, убивающий скорее, нежели выстрел в сердце. Вот почему, оставшись в своей прежней позе, он имеет такой вид, точно сейчас заговорит.
– А это, господа, что такое? Посмотрите, у него в руке очень толстая тетрадь.
С последней фразой девушка, поборов свой ужас, сделала несколько легких шагов и быстрым движением, наклонившись к трупу, взглянула в тетрадь.
– Господа, вот удивительно – он завещает вам эти записки.
Толпа, побуждаемая чувством охватившего ее любопытства, двинулась к самоубийце, и один из молодых людей прочитал:
– «Исповедь доктора Кандинского и история его преступлений и покаяния, завещаемая студентам-медикам».
Некоторое время все стояли молча, с выражением изумления в лицах.
– Чего же мы, собственно, боимся, господа? – сказала девушка, решительно делая шаг вперед. – Смотрите, он даже руку нам протянул, как бы говоря: «Не стесняйтесь».
Она дотронулась до тетради.
Труп слегка качнулся, и она выпала.
Лидия Ивановна испуганно отскочила, лицо ее стало неподвижным, и глаза с ужасом смотрели на страшного мертвеца. Немного спустя вся компания студентов сидела вокруг круглого стола, с любопытством рассматривая бумаги. Один из студентов хотел было приступить к чтению, но Лидия Ивановна с резкой шутливостью его оборвала:
– Вы читаете, как дьячок. Читайте, Терибасов.
– Читайте вы сами, Лидия Ивановна, – возразил тот.
– Да-да!… – подхватили несколько голосов. – Пожалуйста, читайте вы…
Она не стала себя упрашивать и ровным и мелодическим голосом начала читать, время от времени с улыбкой посматривая на студентов, тонкими пальцами потягивая кончики косынки и передергивая худенькими плечиками.
II
«Мое существование кончается, я это чувствую, я вполне ясно понимаю полнейшую невозможность моего дальнейшего пребывания на земле. Я не знаю, как я покончу с собой, да это совершенно безразлично. Важно и даже, может быть, поучительно одно: брожение мыслей в уме моем и болезнь моей души, вызвавшие невозможность дальнейшей жизни. Я – доктор медицины, и в моей ранней молодости наука не укрепила мой шатающийся юношеский ум, а наполнила его ядом отрицания: плоды науки часто бывают ядовиты и сок их гибелен. Что со мной произошло, то, хотя и в миниатюре, происходит иногда и с другими, и потому повторяю: моя история поучительна. Вместе с духом всеотрицания я стал совершать, так сказать, мысленные преступления, и делал это с тихой злобой и гордостью самой опасной, потому что она происходила от сознания превосходства моего ума. Проникая в глубины наук, я испытывал сладостное упоение и мой ум получал, так сказать, орлиные крылья, но чем больше было знаний, тем больше я отдалялся от нравственных законов добра и любви, тем больше проникался идеей безграничного зла на земле. Положит ли кто-нибудь на мою могилу хотя камень, – не знаю, да мне и не надо ни камня, ни креста: моя жизнь не останется без следа, я сам воздвигну себе монумент – такой же зловещий и холодный, как моя жизнь, – мои записки. В них вы найдете своего рода анатомическое вскрытие, только не тела, а духа. Мы, медики, любим резать мертвецов и чувствуем себя польщенными, когда найдем в теле присутствие яда; мне представляется гораздо более почтенным делом вскрыть свою душу и обнаружить яд помыслов, отравляющих всю жизнь так же верно, как тело скрытый в желудке ядовитый паразит. Делая это страшное вскрытие, я хочу принести пользу людям, единственную, какую я могу сделать; при взгляде на меня всякий скажет: как был жалок и страшен этот несчастный доктор – и не захочет быть похожим на меня. В этом смысле мои записки для некоторых будут зеркалом, в котором каждый сможет видеть отражение своего собственного преступного «я». Быть может, подумают, что мои мысли, бывшие для меня чашей, полной отравы, исключительно мои и несвойственны другим людям. Господа, прежде всего мы все скептики, стоящие на шатком мостике между злом и добром. В пользу добродетели мы часто говорим только для приличия или, вернее, по трусости; на самом деле мы обыкновенно мысленно переходим мостик, отделяющий добро от зла и преступления, и на той стороне его часто чувствуем себя совершенно в своей стихии. Мы все, если хотите, преступники в помыслах, а перейти от идей к действиям – только маленький шаг, по крайней мере, для человека с характером решительным. Я полагаю, что в моей юности храм моей души был нисколько не менее возвышен, нежели у каждого из вас, и вся разница между нами только одна: при пылком воображении я был немного решительнее вас, да, пожалуй, глубже и мучительнее чувствовал противоречие зла и добра на земле. Струны моей души звучали несколько посильнее, нежели у других, вот и все. При изящной внешности я, как уже сказал, имел пламенное воображение и душу холодную, закрытую для любви и приязни к людям. К себе подобным я всегда чувствовал некоторое презрение, и я не знаю, чем это объяснить: душа моя, если хотите, походила на роскошные, но холодные апартаменты с божеством, изображающимся коротеньким «я», где посторонним давалась маленькая аудиенция в несколько слов. Заметьте еще следующее: я был необыкновенно чувствителен ко всякого рода красоте: лица, форм, пластичности движений; внешнее уродство, старое лицо, толстота, раздутые животы, безобразные рты, носы – все это вызывало во мне отвращение, брезгливость к людям, переходящую в злость, и часто кончалось мысленным издевательством над человеком вообще. Я полагаю, что во мне странно совмещались поэт и медик, и против моей профессии резко протестовали во мне мои оскорбленные природные чувства. Для них не было пищи: я видел вокруг себя одну обнаженную, отталкивающую действительность и стал крайним прозаиком, гордящимся положительностью, реальностью своих мыслей и выводов. Я помню, что, предаваясь разным научным упражнениям, я любил, на основании физиологических и анатомических данных, делать заключения о вещественности всего созданного, об отсутствии души, бессмертия и пр.
Во всем этом нет ничего ужасного, тем менее указывающего на будущего утонченного злодея. Совсем наоборот: душа поэтическая и сильная, тонкий, анализирующий ум, характер гибкий и твердый; прибавьте к этому знание людей и умение обращать их в полезных для себя слуг – да, это все условия для образования удачника-карьериста. Не удивляйтесь, господа, если я прямо скажу, что все, что случилось со мной, случилось исключительно потому только, что я избрал самую роковую для меня профессию – медика. В ней, то есть в медицине, был яд для моего ума, и, благодаря свойствам моей души, в моей профессии я черпал материал для оправдания моих преступных замыслов. Читая эти строки, вы подумаете, что я впадаю в абсурд, и не согласитесь со мной. Да, это непонятно для вас, но прочитайте исповедь моей души – и вы увидите, как я безусловно прав, и поймете, что такому человеку, как я, дать власть лечить больных – значит вложить в его руки косу смерти.
Врачу, как и священнику, надо быть простым, как ребенок, иметь душу, отзывчивую к страданиям всякого человека; если же вы увидите на лице медика отражение внутреннего холода, скрытую иронию, услышите от него высокомерную велеречивость, брезгливость к грязной нищете и обнаженным язвам больного и, наоборот, льстивую ласковость к человеку богатому, знайте: это не врач, а палач; бегите от него и не верьте его знанию; в лучшем случае оно сомнительно, а когда врач рассыпает его безучастно, со скрытым зложелательством или тайной иронией, то как раз незаметно для себя станет убивать вас.
В течение пяти лет пребывания моего в университете все указанные свойства моего характера все более развивались. Я делался честолюбив, холоден, все более замыкался в себе, втайне все более гордился своими знаниями. Моим любимейшим занятием было анатомирование трупов, и делал я это с чувством неизъяснимой любознательности и одновременно с этим отвращением к мертвым телам. Человек вообще мне представлялся удивительно противным физически и ничтожным – духовно, что не мешало мне делать очень высокую оценку силе своего собственного ума. Под влиянием моих занятий все люди моему воображению начали представляться просто голыми телами с накинутой одеждой на них; разгуливая по улицам Москвы, я мысленно видел их на анатомических столах и в душе злобно иронизировал, представляя себе их распухшие животы, нервы и мускулы. Человек мне представлялся просто машиной, и ничего больше, а мир – лабораторией, где все живущее кончает свое существование под анатомическим ножом смерти.
Вот все, что я хотел сказать о себе. Это не предисловие, а скорее эпилог. Все, что следует далее, написано мной не теперь, а в годы моей молодости, слогом, в котором, кажется, отразилась моя душа – холодная и гордая – и мой ум – иронизирующий, скептический и злой».
* * *
Лидия Ивановна, прочитав последнее слово, свесила тетрадь на колени и неподвижно уставила в пространство серьезные голубые глаза. Над бровями ее образовалась морщинка, и обыкновенно бледное лицо светилось теперь каким-то внутренним светом.
После нескольких минут общего молчания студенты начали друг на друга вопросительно посматривать.
Бриллиант сказал:
– Господа, эта история – весьма мрачная исповедь заблудшейся в лабиринте скептицизма и полу-знаний докторской души. Все-таки я полагаю, что он прав: многие из нас чуточку походят на него, и жребий Кандинского не так исключителен, как кажется.
На эти слова последовали шумные возражения. Волновались больше всего именно те, которые чувствовали свое сходство с автором записок.
– Покорно благодарю – я вовсе не намерен себя причислять к каким-то уродам. Если есть такие медики, то очень жаль; но, во всяком случае, это не более как нравственная извращенность, обобщать которую смешно и дико, – проговорив все это громко и резко, с волнением в голосе, Куницын пристально посмотрел на Лидию Ивановну и добавил: – Он врет – от слова до слова.
– Кто – мертвец?!. Ну нет, не думаю. Извини, любезный друг, ты что-то странен сегодня, – сказал Бриллиант.
К бледным щекам Куницына прихлынула яркая кровь. Его волнение было настолько сильно, что все это заметили и начали смотреть на него удивленно. Между тем Куницын, волнуясь, но все-таки с некоторым фатовством и искусственным смехом, наклонился к девушке и спросил:
– Лидия, я вам скажу причину своего волнения – я хочу сделаться медицинской… звездой… знаменитостью…
Девушка медленно поднялась и, глядя с необыкновенной серьезностью в лицо своего жениха, сказала:
– Володя!.. Да что же это значит!.. Звезда, знаменитость! Фу ты, Господи, как странно!.. Да почему же именно вы должны воссиять?.. Признаюсь, я не вижу для такой надежды никаких данных. – Она рассмеялась и продолжала: – Но вот что, голубчик Володя, удивительно: я сама почему-то думала о вас, когда читала эти записки, и знаете ли, что именно… – Договаривайте, не стесняйтесь, Лидия, что вы думаете – ну-с…
– Вы слишком самолюбивы, эгоистичны и холодны к людям. Куницын, вы будете плохим врачом… Вам противен вид больных… Помните, как вы раз плевали, выйдя от чахоточного в клинике… Я до очевидности ясно понимаю – вы, как и этот несчастный самоубийца, будете с отвращением смотреть на больного бедняка и убежите от него в богатые палаты…
Она неожиданно остановилась: взволнованное лицо юноши стало бледным и на минуту приняло злое выражение.
Девушка долго смотрела на него и вдруг рассмеялась своим тихим протяжным смехом:
– Куницын, бедненький мой… Не верьте мне… ведь я такая болтунья, и притом так часто ошибаюсь. – На этот раз наверное ошибаетесь, и очень грубо, – возразил он резко, – но я прошу вас ответить: на основании каких это аргументов вы составили такое мнение обо мне?
Она вдруг сделалась серьезной:
– Я вам отвечу, но не теперь… после прочтения этих записок. Володя, ведь вы против этого ничего не можете иметь? Я надеюсь, мы сегодня не будем спать, господа. Слушайте.
Все затихли, и Лидия начала читать.