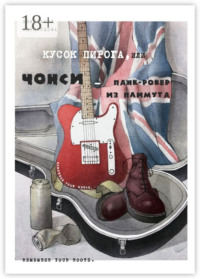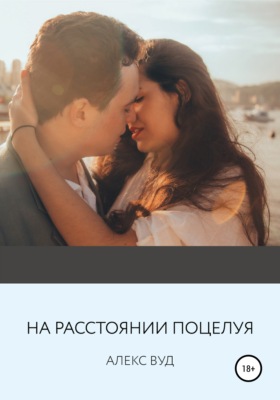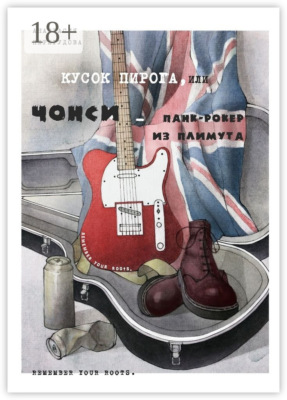Read the book: «Кусок пирога, или Чонси – панк-рокер из Плимута»
Главный редактор Дмитрий Скрябин
Помощник редактора Сергей Скрябин
Художник обложки Анна Вакуленко
© Анастасия Перегудова, 2017
ISBN 978-5-4485-7126-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Посвящается моей семье
Предисловие
Дорогие читатели, я постараюсь быть предельно краткой в своих размышлениях (хотя, мне только повод дай..). Ведь самой уже не терпится, когда вы приступите к знакомству с Чонси!
Мое безумное погружение в идею о панк-рокере из Плимута началось еще зимой 2015-го (хотя заражение музыкой и англоманией случилось гораздо раньше, году эдак в 94-м…). Все мое внимание, мысли и силы тогда были сконцентрированы на рыжем мальчугане и его жизни, приключениях, проблемах и мечтах. Да что там, я до сих говорю о Чонси как о реально существующем человеке! Для меня он больше, чем просто фантазия, как и остальные персонажи, к которым прониклась я не меньше Чонси, каждого полюбила, каждого выслушала и приняла.
Конечно, перечитывая сейчас свою книгу (о боже, мне даже слово «книга» произносить странно, неужели свершилось, неужели это явь!), я осознаю, что мои мысли и стиль письма претерпели изменения, как и вообще то, что произошло со мной после периода работы над «Куском пирога». Но, знаю точно, что я ни капли бы не переиначила, так как в истории про Чонси заключена огромная часть меня. Масштабный путь взросления я прошла вместе с любимыми героями, наблюдая за миром их глазами. И видеть плод своего воображения в книжном варианте – под настоящей обложкой, с настоящей редактурой и с настоящими шелестящими страницами – все равно что держать в руках коробку с надписью: «Осторожно! Хрупкое!»
А теперь выпускаю я свое творение в свет, как будто лодку отвязываю от причала и наблюдаю, как она медленно отплывает в море.
Эта история – моя дань музыке. Не только панк-року: в целом – музыке, которая заключает в себе весь мир, как бы гиперболично ни звучало. И – дань творчеству, в любом его проявлении: многогранному, безбрежному, вечному.
Напоследок скажу вот что.
Эта книга для тех, кто живет музыкой. Кто знает, каково это, когда во время концерта заряжаешься каким-то электричеством от музыкантов, а при прослушивании любимых песен в груди разгорается немыслимый пожар, точно говорю, – пожар!
Для тех, кто жаден до новых ритмов и композиций. У кого в голове живет невероятное количество вызубренных мелодий и текстов песен.
Для тех, кто и на творчество, и на мечты, и на свой собственный мир рамок не цепляет, кто честен с собой и знает, чего хочет, кто рвется в бой и не ищет легких путей. Кто остается верным себе, но не страшится перемен, – и помнит о своих корнях.
Для настоящих мечтателей, путешественников и свободолюбивых поэтов.
15 сентября 2017
Часть 1. Красные ботинки, черные шнурки
Шнурки завязывать я научился, будучи полноценным трехгодовалым отпрыском, хотя, признаться честно, задатки такого талантища зародились аж за полгода до того – поистине символичного – события.
Еще не исполнилось мне тогда и двух с половиной лет, как я, непоседа, шалости которого дошли до ушей всех жителей на пять кварталов вперед, под три фута ростом, вовсю колесил на беспедальном велосипеде по дому, не боясь постоянно спотыкаться о задернутый край колючего ковра. И затем, на подкашивающихся от двухколёсного раздолья ногах, как угорелый, мчался через кухню в гостиную, а оттуда – в прихожую, где, отдышавшись, пел и плел одному мне известные, затейливые фигурки и гордиевы узлы из шнурков, какие в изобилии водились на пыльной обувке отца и брата возле коврика перед входной дверью. (Лишь счастливице-маме не доставалось от меня сюрпризов, поскольку на ее туфлях-лодочках не имелось шнурков, равно как и стремящихся бесконечно запутываться, мудреных ленточек).
Мой брат, тогда еще четырнадцатилетний, Гровер, хохотал надо мной, если заставал за таким сокровенным занятием, а вскоре вообще прозвал меня за такие проделки «шнуровочным монстром». Увы, отец не был в восторге, когда приходил после трудного рабочего дня – а порой и приползал с початой бутылкой хереса, – он отворял ударом кулака дверь, торжественно ступал (или же торжественно вползал) на скрипучую половицу с криком: «Дорогая, мать твою, я вернулся!» И, к моему немалому удивлению, отец тут же (не успевал затихнуть скрип половицы) замечал, что все ботинки его, от парадных штиблет до башмаков-ветеранов со стертыми до дыр пятками, отныне переплелись извивающимися нитями шнурков. Мне они представлялись копошащимися в кипящей кастрюле вермишельными червяками, я даже пробовал их есть, но было четкое ощущение этакой недоваренности.
– Твою ж дырку за шнурок! – принимался в стократ громче обычного орать отец, пока мама не выбегала к нему из кухни в измазанном мукой и кусочками теста фартуке, приправленном ядрено-бордовыми пятнами вишневого джема. Перепачканная густым месивом из тягучего теста ложка в ее руке представлялась мне, просовывающему преисполненный любопытства кончик носа между лестничными балками со второго этажа – весьма опасным холодным оружием. Удивительно, но у меня и в мыслях не было этакого, чтобы спрятаться от разгневанного отца. А Гровер спохватывался и брал всю вину на себя: спускался по лестнице вниз, захлопывая дверь в свою комнату, прерывая тем самым прослушивание музыкальной пластинки (по его же сведениям, он там якобы уроки делал, в таком-то шуме!), и сознавался папе в том, что, мол, это он напортачил – и, ах, эх – как ему стыдно! Хотя, отец явно не верил его показному раскаянию. Я же в свою очередь неотрывно глядел вниз, где на стенке прихожей висели часы и ждал, когда же часовая стрелка прекратит, наконец, колотить по циферблату с такой силой, что мое сердце, казалось, сейчас выпрыгнет и поскачет по ступенькам вниз. Игриво-хитрый блеск в отцовских глазах, чей взгляд вмиг устремлялся в мою сторону, отражался в моих зрачках неким свечением, приносящим болезнетворное ощущение сознанию, находящемуся где-то глубоко-глубоко в голове, и даже частично – области грудной клетки. Оттого-то я дышал так надрывно, вспоминая любимые черно-белые фильмы мамы, в которых видел порой мужчин и женщин, облаченных в строгие костюмы: хватались они за левый бок и выпучивали от скорбного шока глаза. («Воды мне! Воды!»).
А дальше, в кромешном безмолвии, – словно мы с отцом имели способность к телепатии, – я на цыпочках спешил по крутой лестнице вниз, стыдливо опустив голову. Как будто на эшафот спускался (кто это придумал, что на эшафот поднимаются?!), – а отец выступал моим личным палачом. Его суровый, пытливый взор пронзал меня насквозь (и это при моей опущенной голове-то!); Гровера он просто отталкивал в сторону, да и матери велел немедля возвращаться обратно к плите.
Так мы и оставались наедине: отец – с его долгоиграющей на губах улыбкой, полной ехидства, притворства и перчинки злости, и я – мысленно трансформирующийся в невидимку и вечно заламывающий за спиной пальцы, будто по костяшкам, как по ирландскому клеверу, гадал о предстоящем виде наказания. Ни разу при этом я не заплакал; ни один мускул на моем арестантском белом лице, как и на загрязнившемся годами лице отца, не дрогнул: от него мне и передавалась эта «мускульная сила» в такие, далекие от райской семейной идиллии, моменты.
Любимым кусочком моей неспелой душонки для отца являлась та ее часть, которая отвечала за чувства растерянности и одиночества. Поэтому любил он наказывать меня весьма скучным (как по мне), в меру изощренным образом: привести в порядок шнурки выходило лишь малой платой за восхитительный предыдущий беспорядок. Проторчать на крыльце перед домом с игрушечным зайцем в руках, в этом ужасном мире, в котором все шнурки на своих местах, – вот это уже превращалось в настоящую муку. Цеплялся, помню, я за лапу плюшевого зайца, глядя на его наполовину обгрызенные соседским псом уши, плюхался на верхнюю ступеньку деревянной лестницы на крыльце и глядел на заходящее за горизонт солнце. Никаких слез и всхлипываний не издавал: знал, что отец скоро пожалует за мной и потащит обратно в дом, либо мама выбежит из дома, устало улыбнется и возьмет меня на руки прежде, чем усадить за стол и накормить овсянкой со шпинатом. Все это я принимал за игру, – вроде пряток, но с видоизмененными правилами. Даже глаза, бывало, зажмуривал и на пальцах считал до пяти.
Когда на заячьих изуродованных ушах появлялись первые блики лунных поцелуев, а тени деревьев и качающихся на ветру веток расползались по моим рукам и босым ступням, за моей спиной раздавался резкий скрип двери. Отец откашливался и звал меня в дом. А я, радостный, бросал на лестнице несчастного зайца, такого же несчастного, как и я минутой раньше, и вприпрыжку мчался на кухню. А иногда отец сажал – буквально закидывал – меня к себе на плечи и, пошатываясь, заходил в дом, издавая ртом жужжащие звуки, будто он – самолет-истребитель, а я – летчик, управляющий его ушами точно штурвалом. Уши отца соседский пес не грыз, видно, боялся его, и не зря боялся.
Помнится, стоило нам очутиться на кухне, как отец отпускал меня и, хлопая по спине, велел садиться за стол; сам он занимал свое место на стуле с расшатанными ножками. И брался он за очередную банку пива, до тех пор заглатывая забродившие алкогольные злаки, пока банка не прилипала к руке, а изо рта его не начинали выходить звуки отрыжки и пьяного смеха. Мама тем временем, вздыхая и прикладывая ко лбу то правую, то левую ладонь, что-то усердно выговаривала отцу, затем вставала, вытирала руки о фартук и накладывала мне шпината в тарелку. Из всех ее слов, что долетали до моих ушей, я понимал только то, что она невесть как зла на отца, а тот в свою очередь и бровью не шевелил – продолжал хлебать со дна початой банки остатки бурых капель и махал на мать рукой. Я даже слова вымолвить не мог: не освоил тогда и маломальских азов общения, не говоря уже о серьезном вмешательстве в «разговор взрослых». Сидел себе, дрыгал ногами, не доставая до пола, мычал себе что-то под нос да пачкал и без того заляпанный стол шпинатом, когда ронял вилку во время выдуманной мной игры в шпинатных человечков. Человечки эти приходили мне на помощь в любой затруднительной ситуации и волшебным шпинатным образом служили мне верой и правдой.
Однако долго сидеть за столом, слушая невнятное бормотание отца в ответ на мамины упреки, я не мог. Шпинатные человечки в доспехах из овсяных хлопьев выстраивались в ряды и колонны, спешили ко мне, мама же, абсолютно не замечая ни меня, ни моих верных солдат, забирала посуду, швыряла в раковину, и там они геройски погибали под струями воды. Уши мои горели от стыда и отчаяния. А мама хватала с подоконника сигареты и продолжала порицать отца. Руки ее начинали дрожать, она переходила на крик, лицо и шея покрывались красными пятнами; вот только я не понимал, почему кожа мамы меняет цвет, – тогда как на лице отца ни один мускул не подрагивает. Сигаретный дым вперемешку с алкогольными парами, ужин, разбавленный скандалом, вечер с приправой из злости и отчаяния. Мама без остановки курила одну за другой, тогда я успевал тихонько положить вилку на стол, сползти со стула и убежать прочь с кухни. Подальше от дыма и криков, чтобы не слышать, как ругаются родители.
А убегал я в комнату к брату. Днем брат ходил в школу, и с малых лет я четко сознавал, как не хватает мне Гровера, даже если не видел я его всего-то пять пролетов на циферблате между черной девяткой и двойкой, пока тикающая стрелка выделывала один за другим круги. Вечером за столом Гровер обычно помогал мне управляться со столовыми приборами: кормил кашей и вытирал мне подбородок, если кусочки еды не помещались у меня во рту; учил правильно держать вилку, напевал какие-то мудреные мелодии и даже игры на ходу выдумывал, будто мы с ним находились на борту космического корабля, и тарелка с кашей превращалась в пульт управления огромной махиной, бороздящей просторы неизведанных галактик. Подобным образом он частенько отвлекал меня от вспыхивающих между мамой и папой споров; однако иной раз вертел пальцем у виска и поднимался к себе, чтобы в менее напряженной обстановке подготовиться к школе. По крайней мере, именно это Гровер отвечал обеспокоенной матери, если та вдруг замечала, что он не притронулся к ужину; сам-то он втихаря хватал со стола недопитую отцом банку пива и тащился к себе, готовиться если не к занятиям, то к чему-то одному ему известному. Тяжко вздыхая и насмешливо качая головой, мама бралась за пачку сигарет, краем глаза глядя вслед Гроверу, и вновь возвращалась к разговору с отцом на повышенных тонах. Отец же предпочитал отмалчиваться, распластавшись в позе морской звезды на диване.
Взбирался я вверх по лестнице, карабкался по ступеням, подобно миниатюрному своему зайцу, и, вставая на цыпочки, дотягивался до дверной ручки. Гровер как ни в чем не бывало валялся обычно на кровати, упираясь ступнями в стену, и с зажмуренными глазами что-то певуче бурчал себе под нос, даже если никакой мелодии вовсе не разносилось по его комнате. Но в основном музыкальные звуки, разлетающиеся по комнате брата, не смолкали. Звуки, которые представлялись моему детскому воображению чем-то лимонно-апельсиновым на вкус и даже мягким на ощупь, оседали в памяти сразу же, как только проникали в уши. Ползком добираясь до кровати Гровера, я залазил наверх и, чуть стесняя его движениях, в точности до дюйма повторял позу брата – ступни упираются в стену, голова запрокинута, руки покоятся на груди, а глаза прикрыты. Делая вид, что не замечает меня, Гровер продолжал напевать мелодии, которые называл странными (и не менее страшными) для меня словами – «реггей», «рокстеди», «ска» и «соул». Пытаясь выговорить хоть одно из них, я тыкал пальцем в сторону грампроигрывателя и выдавал, как штампованные: «эгги», «стеди», «ка» и «сол».
А затем, что отчетливо врезалось мне в память, Гровер начинал меня щекотать. Так просто, легоньким махом заваливал на подушку и щекотал. Я пищал, подобно зверьку, выгибаясь в спине и пиная малюсенькими коленями брата в бока и живот. После того, как дышать от смеха было уже нечем, а глаза слезились, Гровер скатывался на ковер, непременно стаскивая и меня за собой. Глядя в прорези солнечного света, скользящего по вуали из однослойной пыли, он мерно ловил губами воздух, а я прислонялся ухом к его груди и слушал, как колотится сердце. Колотилось оно точно в такт тем самым мелодиям, что звенящими ручьями расплескивались по комнате.
– Эгги, эгги, – картавил я и хитро прищуривался, словно выжидая реакции брата.
– Реггей, – поправлял Гровер, заливаясь хохотом. – Вот она, музыка, Чонс. – Он терся носом об мою наполовину лысую макушку, а потом шутливо спихивал меня с себя и принимался скакать по комнате, как заводная обезьянка, чтобы я захотел поймать его и опять столкнуть на пол. В те моменты я ощущал нечто особое, что тогда еще не мог описать ни словами, ни мыслями – то, что впоследствии бы сумел причислить к состоянию непомерного счастья.
Связь с Гровером, который, сам того не сознавая, постепенно становился для меня кем-то средним между братом, мамой и папой в одном лице, крепла с каждым днем, что мы проводили вместе. Я всегда смотрел на него снизу вверх – в прямом и переносном смысле: в основном, конечно, в силу своего роста. Однако такой взгляд, «снизу», являл собой не что иное, как выражение искренней симпатии и уважения по отношению к брату. Глядя на него, с самых малых лет, я видел лицо человека, на которого, вопреки всему, хочется равняться. И карикатурно впитывать в себя его мимику, жесты, привычки – как во время просмотра диснеевского мультфильма, антропоморфным героям которого веришь, отчасти пытаясь им подражать.
Со временем воспитание мое всецело сосредоточилось в руках Гровера. В то время как отец большую часть дня проводил в порту, чередуя свои умения таскать тяжелые грузы с пришвартованных суденышек с умением мастерски прохлаждаться и лакать из бутылки горячительные напитки в не лимитированных количествах, Гровер читал мне сказки, на плюшевом медвежонке учил драться и придумывал какие душе угодно игры. Его изощренному воображению предела не было. Оттого и развлечений у нас было предостаточно.
Мама же безвылазно торчала на кухне, – то слоеные пироги с абрикосовым вареньем наготавливая, то добела натирая раковину и начищая плиту, окна и стены. Буквально помешанная на чистоте вокруг, но при этом ни капли не беспокоясь о чистоте внутри себя (она ограничивалась далеко не одиннадцатью штуками сигарет в день), мама сломя голову носилась по дому и, даже когда мыть уже было нечего, зорким взором выискивала малюсенькое пятно, крохотный след от раздавленной мухи, либо соринку на краешке стола, и принималась тереть, тереть, тереть, с губкой в руках и сигаретой в зубах. Волосы ее торчали в разные стороны, а лицо искажалось гримасами непреодолимой скорби, будто на ее глазах только что сдох уличный котяра; шея и руки ее покрывались красными пятнами точно так же, как при рьяных словесных разборках с отцом, и я не понимал, почему она никак не может взять и остановиться. Вот так и хозяйничала она не покладая рук, сновала туда-сюда, с раннего утра до самого вечера, ожидая, пока входная дверь на первом этаже хлопнет со всей силы, ознаменовывая столь шумным звуком приход отца. Отец приходил довольный, обласканный солнцем, ветром и морем, подогретый алкоголем, вполне готовый к новой ссоре и скандалу. Которые мама незамедлительно устраивала. Потому и заниматься со мной, маленьким проказником, времени не хватало, и она перекладывала все на плечи Гровера. Будучи абсолютно рассеянной, когда речь заходила о воспитании детей, мама могла запросто спутать, какой за окном день недели, тем самым позволяя Гроверу запросто прогуливать школу, не задумываясь при этом, почему, собственно, ее старшенький так часто запирается в комнате и на всю громкость врубает магнитофон. Ему, видимо, так лучше запоминается, думала она, со включенной на четыреста тридцать два герца музыкой.
Лишь изредка мама выпадала из своего моюще-чистящего режима и, засунув в рот очередную сигарету, звала нас с Гровером, каждый раз словно заново вспоминая о нашем существовании. Закидывая меня к себе на плечи вверх тормашками, Гровер тащил меня вниз, и мы, плюхаясь рядом с мамой, с двух сторон прижимались и так в тройных объятиях смотрели телевизор. Обычно мама настраивала канал на черно-белое старое кино, герои которого смешно мельтешили на экране, а речь заменяла игра на пианино. Наблюдая за кинозвездами того, старого доброго Голливуда, мама замирала и тушила о подлокотник дырявой обивки дивана сигарету. Когда я вспоминаю эти наши вечера, передо мной неизменно возникает образ смешного человека в черной шляпе-котелке. Он ходил корявыми шажками, расставляя ноги в своих больших ботинках так, словно хотел станцевать, но стеснялся – как раз-таки из-за своих клоунских ботинок. Мама смеялась, искренне и задорно смеялась, расслабляя плечи и откидываясь на спинку дивана. Перемещая взгляд то на смешного человечка в шляпе, то на маму, то на Гровера, который тоже хохотал, я начинал хихикать вместе с ними. Тогда, поворачиваясь в мою сторону, Гровер подмигивал мне и говорил: «Это Чарли Чаплин, Чонс, запомнил?». «Чали…», – улыбался я, глядя на экран, на того самого «Чали» с огромными ботинками, черными усами и утиной походкой.
– Вы только гляньте, он ведь настоящий романтический герой: и бродяга, и мечтатель, – как-то сказала мама. Мечтательно вздохнув, она потянулась и посмотрела на меня взглядом, полным душевной мягкости и скрытой печали. Затем усадила меня к себе на колени, принявшись поглаживать мой загривок на затылке, и прошептала на ухо: «Мечтатели никогда не умирают». Но тогда я не осознал вложенный в четыре коротких слова смысл, не понял, чего вдруг мама произнесла это вслух. Я только улыбался маме и прижимался к ней всем тельцем, чтобы вдохнуть исходивший от нее запах. Кукурузная мука, стакан молока, сладкий перец и душистый укроп – вот какой вкусный аромат представляла собой мама. И я всегда старался разгадать этот аромат, разобрать его на отдельные ноты-запахи. Утыкаясь носом в пропитанный ароматами кухни передник, я засыпал в маминых руках, слушая, как они о чем-то говорят с Гровером, пока в телевизоре играет звонкая песенка, сопровождающая похождения Чарли Чаплина.
Когда Гровер, делая одолжение учителям и директору школы, все-таки появлялся на уроках, я оставался с мамой. Она кормила меня разными кашами, добавляя в них ягоды и кусочки фруктов, гладила меня по волосам и пела песенку про паучка, пока собирала меня на прогулку. Притоптывая ногой, я учился петь, едва поспевая за ней своим писклявым голоском, а она улыбалась и целовала меня в обе щеки, оставляя на коже следы своей морковной помады, в нос по-прежнему забивался бессменный запах маминой кулинарии.
Однажды я потащил маму наверх, в комнату брата, где на второй полке книжного шкафа стоял проигрыватель: указав на музыкальную штуковину пальцем, я взглянул на маму и завизжал: «Эгги! Эгги!» Удивленно вскинув бровью, она пожала плечами и, взяв первую попавшуюся пластинку Гровера, поместила ее на основание проигрывателя и сместила иглу. Заслышав знакомые ямайские мелодии, под которые брат так любил качаться из стороны в сторону, я задрал вверх ручонки и принялся двигаться, подобно тому смешному человеку в котелке из телевизора, хлопая в ладоши и заливисто смеясь. Мама начала танцевать рядом со мной, а потом так отчаянно вцепилась в меня, присев передо мной на колени, обняла и начала покрывать морковными поцелуями мою макушку, – так, словно потеряла меня, а теперь нашла и не могла поверить своим глазам. Хлопковая ткань ее платья врезалась мне в нос, она покачивала меня в такт музыке, и что-то неразборчиво бормотала. Мама всхлипнула и прослезилась – то ли от переполняющего ее счастья, то ли от непонятной мне грусти.
Я так и не разгадал ее слёз. Но, чтобы доставить ей удовольствие, впервые практически без запинки спел про паучка.
Исключительно благодаря Гроверу, который умел изъясняться на моем, детском, птичьем языке, я узнал, что наша мама всего-навсего была чересчур сентиментальна, она очень сильно любила нас, но порой из-за рассеянности и нервозных состояний, вызванных каждодневными ссорами с отцом, забывала, как мы нуждаемся в ней.
– Она сама не вспомнит, – говорил Гровер, – и мы с тобой должны ей помогать.
Когда мне было четыре года, я вовсю отплясывал на детской площадке с высоко поднятой головой и чумазыми щеками; нахватавшись от брата всяких словечек, ходил себе, шаркая по песку, и воображал себя теми парнями, чьи голоса звучали из магнитофона Гровера. К тому же, на мне висели чудные подтяжки, которые присобачил к моим джинсам Гровер. Мало того, что он вытворял такое с моей одеждой, в связи с чем мама панику разводила, так он еще и мои отросшие волосинки взъерошивал и укладывал их то набок, то наверх – так, что на голове у меня торчал рыжий загривок. И если кто-то из детей хихикал над моим обликом, я с важным видом, научившись выговаривать букву «р», упирал руки в боки и заявлял: «Реггей!»
Преображал Гровер не только меня, – себя в первую очередь. Роясь как-то раз в кишащем старыми вещами чулане, он пытался выгрести оттуда как можно больше пригодных шмоток; и ему удалось: измазанные пятнами от солярки джинсы откопал, еще и отцовские рабочие ботинки на толстенной подошве из хлама выудил. Я с преогромным любопытством совал свой нос во все дела брата, как пучеглазый совенок на него глядел, а потом в ладоши хлопал и говорил: «Я тоже хочу-у-у!» Усмехаясь, Гровер по привычке трепал меня по макушке и возвращался к примерке нарядов, таких, чтобы соответствовать особому стилю. Он вертелся перед зеркалом и прямо на себе зашивал дырки в рубашке, которую выклянчил у отца, пока тот был в добром расположении духа. Одежонка практически пришлась Гроверу впору – наш папа не славился избыточной массой тела, а на Гровере слегка раздутая рубашка смотрелась замысловато и свежо. Подвернутые джинсы, протертые в коленях, громоздкие ботинки с крепкой шнуровкой и болтающиеся подтяжки – в таком виде он выглядел сурово, хотя его прическа вызывала у меня смех: сбритые виски и торчащие на макушке темно-русые волосы. Так Гровер изобретал свое новое эго.
Летом шестьдесят четвертого он умудрился напортачить на сто лет вперед (но как же он, балбес, собой гордился!). Дело было так. Найдя себе друзей и приятелей «по духу и прикиду», Гровер частенько пропадал до самой ночи, причем он никогда не имел привычки сообщать, куда направляется. Да мама и не интересовалась: знала, что спорить с шестнадцатилетним отпрыском бесполезно, а уж тем более отговаривать его от тех или иных затей. Что касается папы, ему вообще было сугубо плевать на то, почему его старший сын заявляется домой то пополуночи, то вообще на рассвете; отец либо очередным пузырем пива на кухне был занят, либо таскал все те же грузы в порту, а то и в пабе в картишки перекидывался. Вот Гровер и позволял себе такие вольности, но при том не забывал обо мне. Я-то, еще мелкий сорванец, по дому на велосипеде разъезжал, пока мама собиралась – вернее, пыталась собраться – со мной на прогулку, еле поспевая угнаться за мной. И чаще всего я следил за братом – за тем, куда это он намыливается, одновременно натягивая штанины и во весь голос напевая льющиеся из магнитофона мелодии. Как только меня замечал, нарочито резко останавливался и со свойственным монстру рыком налетал на меня и хватал на руки. Закидывал на плечо и так кружил, умудряясь и щекотать еще, до тех пор, пока я не раскраснеюсь от переизбытка смеха и щекотки. Тогда, приземляя меня на диван или край стола, Гровер трепал меня за веснушчатые щеки и нос, взлохмачивал мне волосы и говорил: «Увижусь с друзьями и вернусь, не скучай». Вдобавок по возвращении обещал мне страшилок рассказать.
Ну а в то самое злополучное (для самого Гровера, конечно, – ох, какое счастливое) лето он умотал с дружками в Брайтон, что в пяти часах езды от нашего Плимута. Помню, как я рвался поехать с ним, но меня, учившегося правильно букву «л» выговаривать, никто, конечно же, с безумным братишкой не отпустил. Вернулся Гровер только через три дня, которые лично для меня тянулись невыносимо долго, несмотря на то, что мама скучать мне не давала: сказки Уайльда читала, в парк кормить белок водила, даже «битлов» мне включала. А папа, отлучившийся на некоторое время от своих дел в порту, катал меня на спине и знакомил с карточным миром, щедро делясь секретами шулерства и продуманных ходов в покере, – за что получал подзатыльники и порицания от мамы, – попивая при этом банки пива, скрежещущие боками друг о друга как корабли у причала. А когда на третий день послышался скрип ступенек на крыльце, я завизжал и, спрыгнув с велосипеда, понесся к двери.
Как только дверь отворилась и с нее щедро посыпалась облезшая мутно-бирюзовая краска, на пороге показался Гровер: растрепанные волосы, разодранное колено на правой штанине, грязнущие и истоптанные ботинки и самое комичное – иссиня-черный фингал под левым глазом и запекшиеся полоски крови под носом, на нижней губе и мелкие ссадины на щеках. Стоял он довольный, как мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие, во все зубы улыбался и с ноги на ногу переминался. Он мгновенно подхватил меня с пола и прижал к себе, принявшись слегка подбрасывать в воздух и говорить, как скучал; а я начал хохотать, не понимая, что стряслось с братом, и что за черная краска у него на лице. Ну а мама… мама, выйдя из кухни и завидев Гровера, сначала зажмурилась, а потом резко и широко раскрыла глаза, принявшись хвататься за голову и повторять: «Боже, о, боже мой, боже мой». А я так и заливался смехом, пока Гровер не остановился, чтобы взглянуть на перепуганную маму. Она провела ладонью по его лицу и, только хотела ринуться в ванну за полотенцем и обеззараживающими средствами, как вдруг Гровер остановил ее и велел идти на кухню, где он все и расскажет.
Как оказалось, со своими дружками Гровер попал в самый разгар потасовки, развернувшейся на брайтонском пляже между хард-модами и рокерами. Говорил он с придыханием и возбужденно размахивал руками и слюной брызгал, как будто только что смолотил целый лимон. Мама лишь охала и ахала, не понимая и половины «субкультурных» словечек, что произносил мой братец, и совсем на разделяя его восторженной реакции на случившийся мордобой. А папа же, наоборот, едва ли не аплодируя сыну за буйно проведенное время (ему впору!), хлопнул Гровера по плечу и даже сунул ему в руку свою драгоценную банку пива. В общих чертах поведал Гровер нам свою историю, с непомерным весельем и безумством; все сидел, раскачиваясь на ножках стула, только и успевал, что испарину со лба отирать и осушать протянутую папой банку пива (я и сам-то еле поспевал за его зажигательными речами). Все бы ничего, и обошлось бы без грохота мощным отцовским кулаком по столу, если бы не упомянул Гровер, переходя на тон ниже, что после такой-то прославленной драки упекли их с дружками на сутки в полицейский участок. Полицейские, говорил он, сновали туда-сюда в смешных котелках-фуражках на головах, а потом как разгонялись и, разогнавшись достаточно, своими дубинками треклятыми, точно волшебной палочкой из дурной сказки, отвешивали неслабые удары всем без разбору – что рокерам, что модам досталось в равной степени. На этом моменте рассказа отец так громко стукнул по столу, что Гровер от неожиданности со стула грохнулся; мама тем временем натирать виски принялась, а я внимательно наблюдал за кряхтящим на полу братом, хотя и веселили меня изрядно его истоптанные подошвы ботинок.
Папа надавал брату подзатыльников, схватил мамины сигареты и, разъяренный, вышел на крыльцо покурить и дух перевести. Недовольная выходкой Гровера мама ограничилась охающим и ахающим возмущением и «допытывающими взглядами», от напряжения вены на ее веснушчатом лбу проступили сквозь тонкую кожу, а шея вновь покрылась багровыми пятнами. Сам Гровер, поднявшись с пола, взгромоздился обратно на стул и, виновато кашлянув, извинился перед мамой, мол, с кем не бывает, и схватил меня за шкирку, потащив наверх – для продолжения приключенческой истории. Придя к нему в комнату, мы плюхнулись на ковер; брат снял ботинки, откинув их под стол, и усадил меня к себе на колени, немедля вернувшись к дальнейшему рассказу. Вдохновенно он описал, как одной левой бил высоченного рокера в клепаном ремне, который впоследствии, тот самый рокер, и угодил Гроверу прямо по правой ноге – как истинный хвастун, он закатал штанину и продемонстрировал мне свой чернящий синячище. Еще и с двумя парнями они чуть не посшибали друг друга с ног, отвешивая то смачные хуки справа, то пытаясь низвергнуть друг друга, физиономией уронив в жгучий песок.