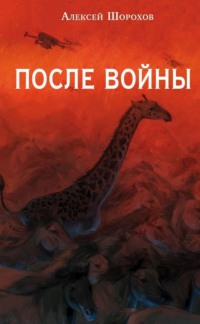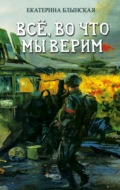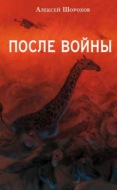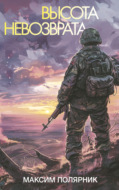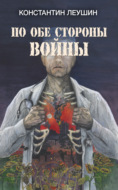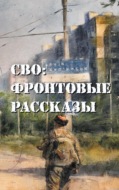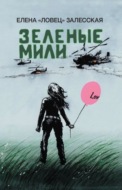Read the book: «После войны»
* * *
© Шорохов А. А., 2025
© Багринцев Д. (худ.), 2025
© ООО «Яуза-каталог», 2025
О повести Ромаядины
Еще нередко доносится до нас разгульная фраза, порожденная лихим XX веком, о войне, якобы списывающей «все». Христианин, а тем более православный христианин, думает и делает иначе, наперекор «принципу».
Счета наших прегрешений растут каждый день, и приумножаются они порой за счет заблуждений не только наших, но и ближних – родни, друзей, за которых в ответе и мы сами. И война этих счетов не списывает, но лишь предлагает шанс какие-то из них искупить. Особенно давнишние заблуждения круга и социального класса и личные, конечно же, тоже, главнейший из которых – непонимание страны и ее исторического пути, перерастающее в глухую, а потом и открытую ненависть к тому, что есть Россия и ее вера.
Объяснить Русский Путь в годы войны гораздо проще, чем в мирные лукавые годы: вот мы, а вот вечно обозленный на нас и натурально безбожный, погрязший в себялюбии «мир», которому мало нашего всемирного покаяния перед ним за несуществующие грехи настолько, что нужна всеобщая наша погибель. Чтобы «Баба-яга», как метко прозвали на фронте один из наиболее крупных вражеских беспилотников, больше не морщилась от противного ей русского духа.
История московской и не слишком русской по крови семьи раскрывается Алексеем Шороховым действительно мастерски, цепко и едко, без жалости не к людям, но к прегрешениям, ставшим образом и жизни, и мысли. Но, как настоящий русский писатель, он своих несчастных запутавшихся героев – любит. И не прощает, ибо это Господня прерогатива, но дает им шанс искупить бездарные годы, выпутаться из петель общих для интеллигентской прослойки миражей русофобии, по сравнению с которыми неволя Лаокоона – просто «цветочки».
На Руси (да только ли на Руси) и равнодушие, и неприязнь, и ненависть, и все, что не есть любовь, обычно искупают кровью, но вот что странно: русские свою запутанность кровью искупить готовы в любой момент, а не совсем русские мнутся и стесняются, ища способов полегче, «менее затратных». В том и принципиальная и почти непреодолимая разница между одними и другими.
Прочтите повесть с финалом, скажем так, открытым, и сделайте выводы. К ним нас понуждает главным образом наш долг верующих людей.
Сергей Арутюнов
«Зернышко нового мира»
О военных рассказах и повести «Бранная слава» Алексея Шорохова
Первое, чем удивляет повесть Алексея Шорохова, – своим названием. Уже в нем – новый ракурс взгляда на войну. «Бранная слава» – словно взгляд из ХIХ, а то и XVIII в. с их духовным неразменным золотом, имперским пафосом завоевания пространств, истовой верой в богоданность государей… Сегодня это взгляд свежайший, что и говорить. Как будто поднявшимся вдруг ветром истории выдуло все наносное. И вот он вновь – очищенный от всех лукавств века ХХ – «классовых противоречий», бизнес-интересов, социальных и экономических хитросплетений – русский человек. Позади трон, впереди враг. Все предельно ясно.
Но не все так просто. Зная Алексея Шорохова прежде всего как современного большого русского писателя, тончайшего поэта, уже в названии ищешь подтексты. В чем же они? Если знаешь русскую литературу последних десятилетий (а впрочем, столетий), первой примстится ирония. «Болезнь иронии» – так диагностировал русскую литературу Александр Блок еще в первой четверти ХХ века. Но что гадать – когда можно просто перевернуть страницу…
Переворачиваешь, и точно – манкое и емкое название не то что совпадает с содержанием, а дает ему первую жизнь, оно – как отправная точка, счастливо опроставшаяся мамкина утроба. Да и ирония там, а точней – ее смертельный сплав с болью и горечью. На все это Алексей Шорохов имеет право. И на иронию, даже сарказм, замешанный на солдатских соленых шутках, а тем более на боль и горечь истинные, страшные. Шорохов год воевал, ушел на СВО добровольцем, был ранен. А перед этим много лет колесил по ДНР и ЛНР с гуманитарными «буханками», является организатором и участником проекта «Буханка для Донбасса», читал свои стихи бойцам и жителям республик.
Военную повесть (так обозначил жанр сам автор) «Бранная слава» сопровождают несколько рассказов. Они тоже военные по месту действия и проблематике, рассказывающей о себе устами и поступками своих героев.
Один из героев военной же пьесы Булгакова, генерал Хлудов, сказал: «Ничего нельзя сделать на войне без любви». С любви начинается уже первый военный (он же антивоенный) рассказ Шорохова «Жираф». Раньше все знали, что девушки, порой не самые красивые, идут на «мужские» факультеты (физические, математические и т. д.) за любовью, чтобы не засидеться в девках, выйти за смекалистого и технически подкованного парня замуж. Оказывается, такова природа женская – что за любовью поведет и на войну. По крайней мере, такова Жираф – санинструктор Лиля, приехавшая из Москвы за ленточку. Жирафом прозвана за особую «масковскую» экзальтированность и иллюзии, в общем – за полную неприспособленность к войне.
А навел на эту «погремуху» жираф настоящий – из зоопарка при лесничестве на Кинбурнской косе. Зоопарк разбомбили хохлы, и жираф, прибившийся к табуну диких лошадей, скакал, «возвышаясь над табуном, как сигнальная вышка с наброшенной на нее светло-коричневой маскировочной сетью». Как видите, русская проза. Хоть с этим поздравим себя: СВО еще не кончилась, а проза уже есть.
Самый безмятежный символ детства и мирного счастливого города – зоопарк – разорван вражеской артой. И неприкаянные, раненые или убитые животные редких пород становятся зловещим символом братоубийственной войны, «явления, противного самой природе человеческой», по выражению Льва Толстого, участника обороны Севастополя.
И все-таки неубиваемый, разбежавшийся по Кинбурнской косе зоопарк – еще и символ жизни, божественно вечной, неуничтожимой. А нескладная девочка Лиля – символ любви, которая и на войне, как божья травка, прорастет сквозь груды покореженного смертоносного железа, разбитых стен и человеческих костей.
И в этом пограничном состоянии – между одной жизнью и тысячью смертей – даже матерый и обветренный снарядными разрывами командир с позывным Седой, Лилин избранник, находит в своем сердце новые внезапные ростки юношеской нежности, отеческой любви… Вот так, все на войне вперемешку. Герои, казалось бы, суровые, циничные, спешат жить, чувствовать, дарить, влюбляться, жертвовать – наверстывая впрок то, что в следующие сутки может навеки для них оборваться.
Так, герой другого рассказа Петручио, в миру Петрович, который никогда не был в Италии и уже не будет, мужик «пятьдесят плюс», словно переживает на войне вторую молодость. Хотя, скорее, юность, если не школьные годы – «новообретенный ветреник» покрасил автомат, выменял у морпехов серебряный перстень с летучей мышью, прикупил «нож Боуи», вместо «благородной окопной небритости» соорудил язвительные усики.
А все от любви к парикмахерше местной, которая на поверку оказалась наводчицей вражеской ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). И любовь Петручио закончилась трагически. «Нет повести печальнее на свете». Хотя почему же – Петрович-Петручио погиб в бою, видел врага глаза в глаза, как мало кому на этой войне выпадает, даже обманутый, лишенный АК, достал двух нациков «ножом Боуи», «задвухсотил» – видно, юная, ярая пружина любви помогла. Любви, конечно, не к дебилке-парикмахерше, а к родине советской.
Рассказ «По ту сторону глины», начав с описания обыденных фронтовых будней (адских в этой кровавой обыденности), постепенно приоткрывает историю семьи Узбека (Игоря), погибшего бойца, становится пронзительной, суровой сагой. Более того – обличительным документом, исследуя который, сердце полнится бессильной ненавистью к подонкам – ликвидаторам великой страны, палачам сотен тысяч и миллионов семей. Это они сеяли семена национальной розни, сталкивая в кровавых конфликтах народы, жившие прежде в единой стране. «Кто же это убивает, сталкивает, режет? – Никто! Сам порядок вещей!» – ужасался Лев Толстой в «Войне и мире». Правильно, Лев Николаевич, дорогой, сам «порядок вещей», более точное имя которого – капитализм. Войны – именно его извечная примета, ибо бизнесу, точнее, крупному капиталу (а только он сейчас и рулит) плевать, на чем там «зарабатывать», «барыжить», «тырить», сколько плачей матерей, калек, детей бездомных… Ведь в войнах «норма прибыли» поболе, чем даже в микрокредитных схемах.
Разумеется, не вдаваясь в социально-экономические рассуждения, художник Шорохов констатирует одно: для Анны Михайловны, покинувшей «звезду Востока и СССР» Ташкент, все настоящее осталось там. А что же здесь? А здесь ее сын, доблестный воин РФ, заслуживший боевые награды в Чечне и Афгане, приговорен к долгим годам заключения. Что же поделать, подкуп следствия и самого суда более «обеспеченной» стороной (опять же примета родимого капитализма!) сыграл роль решающую. Затем он «искупает кровью» преступление на СВО, где, как мы знаем, намного гибельнее и кровавей, чем когда-то в Сирии, Чечне, Афгане… Игорь погибает. И все же слезы его матери светлы – она исполнена воспоминаниями о жизни лучезарной и осмысленной. Доброй и ясной. Праздничной и справедливой. А что же есть у матерей последующих поколений?.. Но здесь вместе с автором мы умолкаем.
Повесть «Бранная слава», возможно, более автобиографична, чем рассказы. Повесть начинается с разрыва американской корректируемой бомбы, после чего дом, где заняли позиции бойцы отряда «Вихрь», «сложился в пыль, в труху». Главного героя повести Егора Акимова, как и Алексея Шорохова в июле 2023-го, вынесло взрывной волной, остался чудом жив – но впереди госпитали. Потом – работа над военной повестью, которую мне почему-то хочется назвать романом. Настолько богата, ярка галерея образов «Бранной славы». И одновременно – сложна и таинственна. Столько в ней переплетшихся сюжетных линий, пусть явленых предельно лаконично, с воинской командной четкостью формулировок. Столько судеб – зримых, непростых людских путей, духовных – вверх и замутненных – вниз, со свистом.
Плеяда истинных героев «Бранной славы» в повести, по сути, продолжает строй литературных образов, данных в рассказах.
Макс – несмотря на контузию, откапывающий из обломков Акима. Потерявший память, но дословно помнящий все православные молитвы (Макс до войны – алтарник в храме).
Соболь – мотая уже третью войну, вывозит раненых друзей из-под обстрела, уже сам раненный смертельно. За рулем «таблетки» он «положил душу за други своя». И кровь, которую он и не пытается остановить, «вытекающая из него, проступающая красными густеющими полосами на камуфляже», – и есть его молитва. Это она «спасла всех наспех перебинтованных доходяг в салоне».
«Очень, очень немногие могут подняться до такой молитвы. Соболь поднялся. И застыл на ее вершине».
Многие герои «Бранной славы» – суть истинные герои России, которыми нам предстоит гордиться десятилетиями. Бог даст – и веками. И не только нам, а человечеству. Потому что, несмотря на жуть кромешную предательски-торговую за их спиной, они – там – ведут себя как люди. Потому что там они – как петровские рекруты из крепостных, как суворовские чудо-богатыри, партизаны в лесах 1812 года и голодные бойцы чеченских компаний ХХ и ХХI веков – воюют за какую-то еще не явленую им настоящую Россию. А чтобы та явилась «во всей славе своей», эту все-таки надо спасти!
Более сложный герой – Яша. Самоотверженный российский воин, сначала стрелок БМП, затем, когда башню бронемашины сорвало (слава Богу, успел Яша выскочить и отбежать), продолжил воевать в пехоте. Вот там, после укропского обстрела упавший без сознания Яша попадает в плен.
Автор избавляет читателя от натуралистических подробностей пыток, которыми «славятся» азовцы.
Но вот картина разминирования при помощи «живого мяса», то есть пленных, которое азовцы, яко их духовные отцы, эсэсовцы Второй мировой, практикуют на Донбассе, впечатляет.
Яша чудом выживает, когда на мине подрывается его товарищ по несчастью. Яшу спасают – выносят из-под обстрела разведчики.
Волею судеб из госпиталя Яша попадает прямиком на телевидение. Со временем становится завсегдатаем армейских ток-шоу. Поначалу раненый боец не понимает, в чем, собственно, его героизм на минном поле состоит? Куда более полезными и героическими ему представляются позиционные бои, вывоз «трехсотых» под огнем.
Но журналистам ТУ лучше знать, как формируются рейтинги программы! И Яша на инвалидной коляске раз от раза все более красочно, добавляя новые подробности от скуки, живописует свой путь по минному полю. Молодецкие оценки штатных экспертов – мол, «наши ПВО нарезают „Хаймарсы“, как колбасу» Яшу почти уже не возмущают. Слушая инструкции хорошенькой ведущей и просто пермолвки рядом – какие темы на ток-шоу можно поднимать, а каковые нежелательно или вот, как сына телеведущей отмазать от армии, – Яша проваливается все глубже в вязкую трясину лицедейства, фигур умолчаний и виртуозных софизмов, диванного пафоса и закулисной возни. Куда заведет этот путь Яшу – еще вчера отважного и честного бойца? Автор умалчивает: в отличие от боевого опыта, возможно, ему еще недостает стажа ток-шоу и соответствующих наблюдений. Но обрисовано уже весьма ощутимо – путь этот скользок.
Как и рассказы, повесть «Бранная слава», конечно, не могла остаться без пронзительной и хрупкой линии любви. Во второй части повести – преимущественно мирное пространство, так сказать, глубокий тыл. И нагрянувшая на Егора, пронзившая его любовь – на белом пароходе, выплывшем, как будто из советского кино-мечты. Наш герой, конечно, несвободен – «глубоко женат», то есть с детьми, незадолго до путешествия на пароходе, то есть до встречи с полюбившей его юной Дашей, сталкивается с предательством близкого человека. Казалось бы, микропредательством – сегодня же все микро, микрокредиты, микточипы, микроимпульсы, но все эти микро совершают дельце колоссальное, формируя микрочеловека, обреченного на полное слияние с микромиром (с его рейтингами от амеб и инфузорий в туфельках от Лабутена и прочих семейств простейших).
Но любовь героя войны света с тьмой, встреченная в отпуске по ранению, несказанна и чудесна. А «чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох». Даша тоже из Донбасса, из разрушенного Мариуполя. Родители погибли при бомбежке, соседку расстреляли нацики.
Они сразу отличили друг друга в толпе отдыхающих – по израненной ауре, подбитой душе. И, проплывая старинные грады и веси – Ярославль и Мышкин, Кострому и Ипатьевский монастырь, – Егор рассказывает Даше бесконечную, бескрайнюю историю российского царства, словно бесконечно объясняет сам себе, за что воюет в Новороссии, какое именно бессмертие с детства распахивается перед ним.
Но Даша – не высокий дух ее, не душа, израненная киево-саксонским безразличием и злобой, а бренное ее существо (ну то есть и душа) – не может противиться вполне конкретному сегодняшнему тыловому бытию. То есть у нее вполне себе по Марксу «бытие определяет сознание». А значит, попрощавшись с Егором, уже не способная забыть его никогда, на московской пристани Дашенька сядет в роскошную тачку успешного коммерсанта и отправится на весьма комфортную микропланету, орбита которой ни с кровью Донбасса, ни с иными «кругами ада» на территории бывшего СССР совершенно не соприкасается. (В этом тоже фатум нынешнего мирового бытия, зверино-рыночного, оболгавшего и разорвавшего нашу страну в ярости дикой и до сего дня отнимающего у нас души и надежды, само званье человеческое).
Егор, неисправимо православный воин, вытянет еще и Дашу, и себя в возрожденный, как птица Феникс из пепла, Дашин родной Мариуполь. «На месте руин росли новенькие, чистенькие МИКРОрайоны, залатывались и стеклились выжженные девятиэтажки, блестел и дрожал в прощальном сентябрьском мареве свежий асфальт на улицах.
– Посмотри, любимая, город из своего покореженного, опаленного нутра, из закопченных, поломанных ребер выталкивает наружу новую неубиваемую жизнь!»
Этими словами Егор воодушевляет Дашу, терпеливо старается возжечь в ее сердце прежний духовный огонь, еще не ведая, что «новая неубиваемая жизнь» уже и в ней. Поэтому она так чутко и прислушивается к себе. Это – его и ее ребенок, зернышко нового мира, новороссийской планеты. Самой русской! И как же хочется, чтобы эта новая планета, новая русская жизнь изначально становилась на крыло, не зная страха, лжи, угроз смертельных!..
Михаил Крупин
Победа пахнет фиалками и напалмом
Африканская повесть
От автора
Публикуемая в этой книге африканская повесть была написана в 2002–2003 гг., когда никакой ЧВК «Вагнер», ни даже надежд на возвращение России в Африку в помине не было.
А вот русские воины на Черном континенте уже были.
И все маркеры современности, включая будущую бандеровскую Украину, – были.
Просто кто-то умеет увидеть в настоящем будущее, а кто-то и в наступившем будущем отказывается видеть настоящее.
Каждому свое.
В повести я не исправил ни буквы в угоду времени.
…Многое за эти годы изменилось, и только русское слово продолжает свой таинственный путь в этом мире.
Глава первая
Встреча
Звонок Вертакова наделал, надо признаться, немалый переполох в нашей семье: во-первых, потому что позвонил он накануне Нового года, то есть в самую, как вы понимаете, горячую приготовительную пору, во-вторых же – более долгожданного гостя за нашим столом и представить себе было нельзя. Евгений Николаевич был давним другом нашей семьи, убежденным холостяком, в прошлом – кадровым советским офицером, прошедшим чистилище Афганистана. После развала страны и армии служивший на территории Украины Вертаков присягать новоявленной незалежности отказался, сославшись на то, что еще со школьных пор терпеть не может народную самодеятельность и любительские спектакли с переодеваниями, и хотя его клятвенно уверяли, что шаровары носить не придется, начальник штаба мотострелковой бригады и полковник Советской армии Евгений Николаевич Вертаков сказал что-то в духе, мол, «честь имею» и покинул бывшую братскую республику. Что он имел в виду, говоря о чести, его заместитель, принявший руководство штабом, не понял, однако, по словам Вертакова, уже через несколько месяцев этот седеющий парубок категорически «москальской мовы не размовлял», а о НАТО говорил не иначе как с придыханием.
Боевой офицер и полиглот, получивший к тому же блестящее образование в Академии имени Фрунзе, Вертаков не затерялся на пространствах Эсенговии и в пору нашего знакомства сотрудничал по найму в составе миротворческих миссий ООН. Работа эта была хоть и хорошо оплачиваемая, но, мягко говоря, довольно беспокойная. Что, впрочем, как нельзя лучше соответствовало его беспокойному духу.
В этот свой приезд в Москву он вернулся из Сьерра-Леоне. К стыду нашему, о существовании этой африканской страны до его отъезда туда мы и не догадывались. После же того как Вертаков несколько раз позвонил нам оттуда, узнали о ней и уже более осмысленно слушали выпуски теленовостей. Тем более что имя этой маленькой страны на западном побережье Африки в последнее время звучало довольно часто – там было неспокойно, как, впрочем, и везде, где до этого приходилось работать Вертакову.
* * *
– Сейчас-сейчас, не торопитесь, еще рано, – умоляла моя жена Валя, глядя на секундную стрелку курантов, – все! Ну, давайте же, Евгений Николаевич!
Раздался выстрел шампанского, звон бокалов, началась вся та милая новогодняя бестолочь, которая одна только и делает необыкновенно чудесными эти ночные часы. После всех дежурных тостов наступило время Вертакова, рассказчик он был изумительный.
Он рассказывал про свое полугодовое пребывание в Африке (в этот раз он там был в качестве начальника службы безопасности миссии ООН), про гражданскую войну, которая уже долгое время идет в этой несчастной стране, про повстанцев и их недавнее наступление на столицу Сьерра-Леоне – город Фритаун, про эвакуацию миссии в соседнюю Гвинею и про многое другое.
Вдруг Евгений Николаевич резко встал и подошел к пульту от телевизора – начинался добрый советский фильм с Евстигнеевым и Леоновым.
– С вашего разрешения я переключу? – спросил он нас.
– Да разумеется, Евгений Николаевич, чем только он вам не угодил?
– Дело не в нем, просто я с некоторых пор не могу смотреть старые советские фильмы, – сказал он и, немного смутившись, добавил: – Слезы наворачиваются.
Такое признание от человека, сделавшего войну привычным местом своей работы, было поразительно. В наступившей тишине он, будто только что вспомнил, сказал:
– Кстати, очень интересная история случилась со мной уже после нашего возвращения во Фритаун, после того как нигерийские войска его освободили.
Повстанцев отбросили на несколько десятков километров, и, в принципе, уже можно было бы возвращать миссию в Сьерра-Леоне, но, помня о той фантастической быстроте, с какой месяц назад повстанцы взяли Фритаун, наше руководство решило направить в страну группу военных наблюдателей, чтобы на месте уже определить степень опасности.
Ооновцы вообще к вопросам безопасности подходят очень и очень тщательно. Разумеется, как руководитель службы безопасности полетел и я.
Когда, подлетая к Фритауну, мы приблизились к поросшему джунглями берегу Сьерра-Леоне, ощущеньице было то еще: в полосе прибоя, покачиваясь на волнах, плавали трупы. «Зеленка» молчала, но того и гляди – пулеметной очередью или зенитной ракетой встретят. К счастью, переносных комплексов у них, как выяснилось, не было вообще, а насчет пулемета – Бог миловал. В общем, сели.
План был такой: особенно не доверяя командованию «Экомога» (защищавшие законное правительство войска Содружества стран Западной Африки, в основном нигерийцы), бодро рапортовавшему о «полном и окончательном» разгроме повстанцев, выехать на передовую и уже там, в непосредственной близости от места боевых действий, выяснить насколько «окончателен» успех правительственного контрнаступления.
Законсервированные в спецхранилище джипы миссии, к нашей несказанной радости, уцелели, видимо, руки у повстанцев до них не дошли. Поэтому уже на следующий день на двух мощных джипах «Тойота Фор Раннер» мы направились в расположение 22-й Нигерийской бригады, теснившей повстанцев на востоке полуострова. Я с нашими милобами (сокращенное от английского шПйагу оЬзегеегз, то есть «военные наблюдатели») ехал на первом джипе, а на втором ехали солдаты охраны, выделенные нам «Экомогом».
Командовал бригадой полковник Акпата, давний знакомый одного из наших наблюдателей Джерри Ганза. Они познакомились в сходной ситуации несколько лет назад: Ганз тогда работал в ооновской миссии в соседней Либерии, а Акпата со своей бригадой там же усмирял местных мятежников. Поэтому теперь встретили нас в бригаде как родных, нечего было и думать в тот же день отбыть обратно. Акпата закатил нам если не царский, то весьма и весьма внушительный для военно-полевых условий ужин, как водится в малярийном климате – с обильными возлияниями. Устав от постоянного напряжения, неизбежного в такой ситуации, да еще и хорошенько огрузившись джином, расслабились мы, что называется, по полной программе. И Акпата, как и большинство нигерийцев довольно прилично говоривший по-английски, рассказал нам массу интересного о положении на фронте и реальном соотношении сил.
А между прочим еще и вот о чем. Я вам с Валей уже рассказывал, что вся эта заваруха происходит в Сьерра-Леоне по одной простой причине: алмазы. Господь столь щедро одарил этот кусочек суши драгоценными камушками, что очень и очень многим это не дает покоя. Кимберлитовые трубки там выходят на поверхность, то есть простой лопатой, как у нас картошку, там выкапывают брильянты.
Да-да, Валечка, не вздыхай – именно так. Поэтому известная фирма «Де Бирс», контролирующая добычу алмазов практически на всем земном шаре, очень заинтересована, чтобы там не смолкали выстрелы.
Камушки-то в обмен на оружие практически за бесценок идут, поэтому, пока правительство воюет с повстанцами, алмазные поля принадлежат. «Де Бирсу», а охраняют их белые наемники со всего, извиняюсь за каламбур, белого свету. Эти же белые наемники зачастую воюют и среди повстанцев – в качестве инструкторов.
Труп одного из них нашли накануне нигерийцы, и кто бы вы думали это оказался?
При первом же взгляде на то, что Евгений Николаевич достал из внутреннего кармана пиджака, у меня сжалось сердце – этот простой солдатский жетон с номером «АМ–91 663» я уже видел один раз в жизни. Несколько лет назад. На шее у бывшего моего однокурсника и друга.
– Боже мой! Вовка. – я налил себе коньяку в пузатый стакан из-под сока – почти до краев – и молча выпил. Вот и встретились.