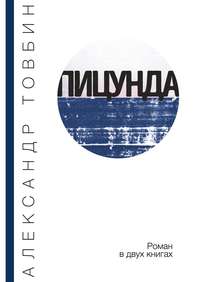Read the book: «Пицунда»
Псоу, пограничный бедлам: хвост жарко пыхтящих автобусов, у барьеров и таможенных будок – ругань, крики, плач детей, а навстречу – идущие на штурм границы старухи-абхазки с неподъёмными сумками мандаринов. «Добро пожаловать в независимую солнечную…» Наконец тронулись – такое же линялое приглашение вскоре затрепетало над въездом в Гантиади. Холодная Речка, почти отвесный обрыв, ржавые скалы, внизу – железнодорожные рельсы вдоль полосы гальки. Зигзаги серпантина и – долгожданный плавный спуск с выключенным мотором под незабываемый задорно-сладкий, по-кавказски интонированный вокал: «О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх, кто повидал, тот не забудет никогда». Да, каждое возвращение в субтропическую Аркадию начиналось с этой бессмертной песенки… Высохшая, с замусоренным бетонным руслом Жоэкуара, пустынная площадь Гагарина, «Рица» с сизыми подтёками на стародавней побелке, «Гагрипш» с базальтовой, некогда торжественной, ныне заросшей бурьяном лестницей – и это главный храм курортного общепита? Облезло-пожухлый рай… Никто не фотографируется у полукружья розоватой парковой колоннады… Вот и вокзал без пассажиров. Валян, Митя, Гешка, Милка, Воля, Любочка, Владик…
Однако не только в автобусе «Аэропорт – Пицунда» на спуске к Гагре с выключенным мотором, но и в Западном полушарии возвращение в мечту начиналось для меня с пошловато-прилипчивой кавказской песенки про море и пальмы, которая, оказалось, покорила и время, и расстояние: отчаянно фальшивя, её распевал Владик, он же – Вла-Дик по кличке «Караул»; после почти тридцатилетней разлуки мы прогуливались вдоль Тихого океана по пляжу в Кармеле.
– Где твоя тетрадка? – оборвав пение, неожиданно спросил Владик.
– В ящике письменного стола…
– Достань и…
– Отработанный пар. Кого теперь могут тронуть терзания семидесятых – восьмимидесятых?
Океан лениво катил валы.
– Здесь какое-то время обитал Стивенсон, здесь дописал он «Остров сокровищ», – не без гордости и даже с нотками краеведческого хвастовства сообщил Владик, блаженно повертев головой. – А вон там, в конце пляжа, на рукотворной скале, есть даже достопримечательность для тебя, один из райтовских «особняков прерий».
И сник:
– А мне тоскливо, сосёт и сосёт, – коснулся груди. – Ил, мне так бывает муторно, так тоскливо.
Прежде, в отечестве, Владик не раскисал…
– Ил, я искал себе приключения, рыпался-трепыхался, чтобы быть не как все, но, решившись эмигрировать, я, получается, поплыл по течению?
Проглотил таблетку, пожаловался, что сердце стало прихватывать.
– Вот если бы я смог телепортировать на этот пляж всю нашу компанию… – поникший, с какой-то виноватой покорностью улыбнулся. – Не подозревал, что меня в райском таком местечке, – повертел головой, на сей раз растерянно, как бы не веря глазам своим, – замучает ностальгия.
– Ты понял, ради чего уезжал?
– Ради свободы, ради богатства, ради этой красоты… – обводяще взмахнул рукой. – Короче, ради всего хорошего, что только мог себе пожелать, и желания чудесно сбылись, однако все калифорнийские достижения мои после обвальных перемен в России словно бы обесценились.
Помолчав, Владик заговорил с детской обидой в голосе:
– Тебе-то, Ил, удалось выкрутиться, ты в своей тетрадке отрефлексировал-отрепетировал ностальгию и – избавился от охоты к перемене мест, участи, приструнил сочинительством собственную судьбу, а я… Я так и не знаю, – смущённо посмотрел мне в глаза, – было ли бы мне легче, если бы я остался.
– Каждому своё. Меня спасла нерешительность.
И тут опять Владик оживился, глаза озорно сверкнули голубизной из тёмных, морщинистых мешочков век:
– Ил, признаюсь в страшном грехе, взятом на душу: это я, искуситель, навязал тебе выбор «ехать – не ехать» и запустил творческий процесс. Я ведь многих из нашей компании, когда надумал слинять, тайно захотел осчастливить, по моей наводке не только тебе присылался вызов.
Вызов? А я гадал, кто тот непрошенный даритель шансов на заграничное преображение…
– Признание, как на исповеди.
– Разве не пора исповедоваться?
Слепило солнце, Владик надел тёмные очки.
Книга первая
Репетиция ностальгии
набросок к роману
О, жребий сладостный —
у моря ждать погоды.
1. Вызов
И Соснин понимал, что пишется вовсе не роман, пишутся преждевременные мемуары, всё быстрее разматывается, покатившись, клубок его собственной, убывающей жизни. Едва вызов получил, душевные силы (будто пырнули финкой) вытекать стали в невидимую рану-пробоину, и – разматывается, рвётся, торопливо связывается узелками нить дней. А конец её, нити той, без его согласия уже, оказывается, переброшен судьбой куда-то туда, в притягательное, но до озноба пугающее политическое зазеркалье, самоназванное Свободным миром; и совесть напряжена: состоится ли сделка?
Где-то там, в далёких и чудных, пока всего лишь манящих странах при симптомах подобной ломки обращаются к психиатру, а у нас в запой уходят либо, как тонущие за соломинки, за авторучки хватаются, чтобы – писать, писать, изливая на бумагу комплексы, сомнения, мечты.
Мечты?
Вот и сейчас, в открытом кафе у пицундской пристани, повернувшись к выглянувшему из-за тучки солнцу, зажмуривался и видел уже не привычную толчею швартующихся прогулочных катеров, стартующих-финиширующих глиссеров с водными лыжниками в оранжевых надувных жилетах, а призрачные города тех самых далёких и чудных стран. О них он мечтал всю жизнь: с закрытыми глазами гулял по Риму, Парижу, плавал по каналам Венеции. Но! Города-миражи он смог бы обрести, обратив их в реальность, при условии, что потеряет другой город, свой… Есть города, в которые нет возврата?
Да, такая цена: обретение в обмен на окончательную потерю.
Но переживёт ли он столь жестокий обмен?
Изнурительная странность психики: никуда ещё не уехал, не принял даже решения об отъезде, а жизненный ресурс у него, всего-то сорокалетнего, и впрямь будто бы иссякает… Да-да, рана-пробоина, опять этот навязчивый образ! И не исключено ведь, что сама идея закордонного возрождения увянет вскоре как недостойная авантюра, словно в дурном сне, словно там уже, с обманутыми своими надеждами, до конца дней осуждённый мучиться наедине с памятью.
Сосущая тоска по друзьям (ничего не мешает снять телефонную трубку, условиться о встрече), убегающие назад, исчезая в обратной перспективе, бесценные видения, звуки, запахи.
Что за напасть?
Последний просмотр для затуманенных глаз, затихающая музыка, терпкая дегустация, которая вот-вот оборвётся?
Да, всё чаще кажется, что всё, чем был жив, вскоре будет отнято у него…
Был жив – чем-то неуловимым?
Час полёта, и – как обычно, летом в Литве, на Куршской косе: собирай у кромки балтийских волн багрово-жёлтые камушки янтаря, карабкайся на белёсый склон дюны, наслаждаясь свистящей песнью песчинок, которой дирижирует ветер; три часа полёта из простудной питерской слякоти, и – как обычно, осенью на кавказском побережье: хурма, мандарины, столик в кафе у пристани, прохлаждайся под опахалами пальм, лечись йодистой ингаляцией моря.
Да что там лететь куда-то за тридевять земель, пусть в Прибалтику, пусть и в абхазские субтропики!
Наваждение: скучает до слёз по пейзажу, когда смотрит на этот самый пейзаж из своего окна.
Здесь всё меня переживёт, всё, даже ветхие… Да что там сочинённые когда-то элегии повторять! Накануне отбытия на кавказское побережье стоял на лоджии, смотрел на облетевшие деревья с серыми домиками скворешен, жадно вдыхал только что перелетевший залив сырой, с примесью гари и дыма – жгли опавшие листья? – осенний воздух; пожухлая, прибитая дождями трава, дикие утки – изящные утюжки, разглаживающие пруд, и в горизонтальную полоску, как лежачие арестанты, дома, толчея кранов в порту, тусклая рифлёнка залива, а правее и дальше, над наслоениями крыш, сушится золотая пиала купола.
И что же, он, неблагодарный, обменяет это на другие города?
Да ещё, – без навыков диверсанта – сожжёт мосты…
Пока всё, что любит, – в поле зрения, на худой конец, – в нескольких перегонах метро, где-то за углом Гороховой или выгибом Мойки, однако боязно, что вот-вот он утратит сопротивляемость и будут отняты у него эти звенья узорной ограды, эти старые тополя, клонящиеся к тёмной воде, по которой из лета в лето медленно плывёт пух, словно где-то во всемогущей инстанции уже состряпан (ждёт подписи?) акт об изъятии.
Пока – действительно можно смотреть, осязать, дышать.
Но – опять, опять! – кафкианские приставы уже изготовились конфисковать всё то, чем он от рождения владел, как описанное по приговору имущество.
И не стоило ему, оцепеневшему в нерешительности, надеяться, как на авось, на успех воображаемой апелляции, нет-нет, надо было сыграть с судьбой на опережение, чтобы сберечь в слове всё то неуловимое, летучее, что особенно ему дорого. Ну а если всё-таки в последний момент (вдруг сыграет он в поддавки?) схватит за горло судьба – обхитрить таможню и пограничников, увезти в новорожденном тексте с собой… Что и говорить, путаные намерения.
О, ему приспичило с ходу затащить в тетрадку свою всё, что было когда-то с ним, не было, в приступах жадности он не задумывался – поместятся ли, не поместятся в тетрадке громоздкие желания, безразмерные воспоминания, клубящиеся фантазии…
Впрочем, по правде сказать, не только намерения (планов громадьё), но и мотивы мук его были путаными. Вопрос поставлен ребром: или – или, однако чего ради?
Разногласия?
Ну да, на поверхности – разногласия: идейно-политические, экономические, само собой, эстетические, однако общественный темперамент его был нулевым; хотя в студенческие годы ему и шили участие в протестной акции, сам он, относясь к тому мелочному происшествию как к скверному анекдоту, никогда не хотел выходить с суровым (перекошенным) лицом на площадь, тем паче – кого-то (главного из престарелых вождей?) свергать, размахивать знаменем свободы на баррикадах, чтобы в очередной раз одурманивать-одаривать толпы посулами мифической справедливости. Ну а сугубо нравственную стойкость диссидентов, практически на смягчение государственного климата не влиявшую, лишь обсуждавшуюся в кругу Соснина вполголоса, он воспринимал с сочувственным скепсисом – ещё бы, над ним не капало: у него была своя ниша с архитектурой, книгами, Эрмитажем, где он был свободен…
Что же вывело из будничного равновесия?
Ясно: явление почтальона с заказным конвертом…
Никакого вызова он не ждал и мог бы не превращать в экзистенциальную проблему чью-то ошибку, дурную шутку или непрошеную услугу…
Но ведь не стал избавляться от маяты выбора, не разорвал в сердцах провокативный конверт с сургучной печатью и листком отменной бумаги с персональными данными на кириллице и латинскими буквами обратного адреса, не выбросил обрывки в мусорную корзину… Да-да, границы советской империи совместились с новой, идеологической чертой оседлости, а ему – молния сверкнула! – подарен шанс увидеть-таки своими глазами иноземные города?
Провокация удалась?
Он и впрямь мог бы, коль скоро решился бы поднять зад с дивана, увидеть иноземные города?
И – всего-то?!
Увидеть Рим, Венецию – далее по списку – и всё?! Что за трусливая программа-минимум? Он что, улизнуть надумал, не сжигая мостов? Подивились бы рьяные и куда более хваткие и основательные соискатели свободы: несерьёзное и наивное какое-то, если не сказать – детское желание… Чего он всё-таки захотел: участь переменить или всего-то отправиться на экскурсию? Так для исполнения столь куцего желания достаточно ведь превозмочь морально-политическую брезгливость и заверить в райкоме собственную благонадёжность… Но такой унизительный выход из щекотливого положения был бы явно не для него.
Короче, можно долго судить-рядить о принциальности его, крутить пальцем у виска, оценивая-переоценивая те ли, другие странности в мотивах и устремлениях… Ещё короче, тут трудно обходиться без лишних слов.
Шансом, однако, собравшись с духом, следовало бы воспользоваться или всё же – если опять-таки собраться с духом – отказаться от него, чтобы понапрасну не мучиться, а он…
Не зря немая сценка с невзрачным почтальоном, посланцем судьбы, и вручением начинённого динамитом конверта у дверного порога многократно будет им проигрываться, вовсе не зря…
Пугающая проблема выбора – вероятность добровольного прыжка в бездну, где якобы спрятан судьбоносный шанс на преображение, – мало-помалу подменялась раздумьями не о принятии решения – того или этого, но в любом случае способного покончить с неопределённостью, – а о том, напротив, как бы полнее и точнее выразить эту самую стимулирующую неопределённость, своё зыбкое состояние, сумятицу – свои умственные и душевные колебания.
Да, внутренние колебания – воспользоваться ли шансом, отказаться – усиливаясь, росли в цене.
И почтальон с потёртой сумкой на боку воспринимался уже как верховный (мистический?), именно их, колебаний этих, заказчик…
Даже неловко: ставки росли, он сравнивал заштатного почтальона с Заказчиком моцартовского реквиема…
По мере того как вопрос «или – или» покидал плоскость конкретного, требовавшего решимости действия-поступка, а экзистенциальная задача смыкалась с художественной, рефлексия углублялась.
И там, на глубине, было так интересно – рефлексия становилась и темой, и формой, а поисковый челнок мыслей-чувств всё быстрей сновал меж фантомами сознания и реалиями внешнего мира, которые ещё только что были ему до лампочки.
Итак, две задачи в одной, более чем неопределённой. Сценка у порога назойливо маячила в памяти, а мысль, гораздая на увёртки, как бы сама собой, помимо воли Соснина, поставленного перед жёстким выбором, выскальзывала из проблемных теснин в рефлексию, в абстрактные противоречия и иллюзии…
Роман?
Мемуары?
«И из собственной судьбы я выдёргивал по нитке»?
Не в жанре загвоздка, и уж точно не в словечке, сохранившемся в нафталине… Мемуары?
Но ведь за мемуары принято садиться на склоне лет, чтобы позитивно, как бы загодя вкладываясь в гордость потомков, описывать избранные события финиширующей жизни, а избранных спутников её, влиявших и канувших, воскрешать, что называется, в порядке их появления в биографии мемуариста.
Итак, поползла улитка: когда и где родился, кто такие, где жили-поживали, учились, служили – не скупясь на подробности – папа и мама, затем – дедушки и бабушки, фотографии коих по сей день назидательно посматривают со стены на состарившегося внука, ну и конечно, где и как сам учился, кто учителя, чем увлекался и в чём преуспел, в кого влюблялся, на ком женился…
При этом помнить надо было о чуть ли не нормативных требованиях «жизненности» литературного жанра:
Скелет «Я» должен был бы «обрастать мясом»…
А характер «Я» – «развиваться»…
Ну не тоска ли?
И – в его случае – ещё и заведомое лукавство: он ведь и словечка не собирался посвящать папе с мамой, школьным друзьям, соседям, не желал обращать внимание и на социальную паутину – нет-нет, никаких пут; крутите ли, не крутите пальцем у виска, однако для сомнительной чистоты эксперимента он вообще вознамерился поместить «Я» в социальный вакуум.
К тому же застряла в голове острота искушённого сочинителя: «У мемуариста слишком мало воображения, чтобы писать роман, и слишком коротка память, чтобы писать правду…»
Нет-нет, он не знал достанет ли воображения ему, но всё-таки – роман, тем более что хронологическая канва и зависимость от спутников жизни изначально, при промельке замысла, были отвергнуты.
Воображение – под вопросом, и опыта с гулькин нос, разве что школьные писульки; ни стишка, ни рассказика не сподобился сочинить и сразу – роман?
Да, заведомо нероманные обстоятельства, внутренние нероманные установки, и – на тебе, цель: роман!
При том что масштабно-престижное словечко «роман» Соснин, между прочим, и вовсе считал затасканным…
Куда и как ни посмотри – всюду клин.
Главное, однако, в том, что ему, ошеломлённому внезапным вызовом – опять, опять: визит почтальона, заказной конверт с прозрачным, с закруглёнными уголками окошком, в которое вписаны его имя, отчество и фамилия, адрес: кто навёл и прислал, кто?! – пора было бы…
А он топтался на месте.
Да, сшибка экзистенциальной и художественной задач создала для него новую реальность стимулирующих неопределённостей.
Но сколь бы плодотворны ни были колебания, сомнения и прочая, прочая, пора было хотя бы покончить со вздорными поисками жанра, приструнить расшалившиеся нервы, сосредоточиться и – если уж замахнулся: роман так роман – начать наконец писать, причём быстро и энергично, вплетая в эфемерную ткань попутных впечатлений-отвлечений нити какого-никакого жизненного сюжета, ибо вместе с душевными силами в рану-пробоину вытекает время, отпущенное ему время – о, это не отсылка к образу, услужливо подкинутому провидцем-параноиком с тараканьими усами (часы, стекающие со стола, – гениально!), не намёк на струящийся из колбы в колбу песок (кстати, как трогательны и зловещи белёсые ручейки, подтачивающие припухло-сыпучий бок дюны, – ничто не вечно, с нас тоже песок сыплется!).
Его внутренние часы – не механические, не песочные; а если бы такие часы и отсчитывали его земной срок, не было бы у него веры в чудотворную длань, которая, вытянувшись вдруг из-за облака, перевела бы стрелки вперёд, перевернула бы спаренные колбы, когда иссякнут пружинный завод, струя, – приближается цейтнот, надо ускорять престранную игру с силами судьбы и с самим собой, чтобы успеть перелить свой текучий мир хоть в сколько-нибудь пристойную прозу, чтобы попытаться при этом ещё и спасти тех, кого помнит (и значит, спасти себя-бывшего!), из уносящего в Лету потока.
И – вот она, сверхзадача!
Почему бы текстом самим (форма – узор строк, содержание – то, что между строк) не только таможенников-пограничников обмануть, отцедив и растворив затем в мыслях, эмоциях, словах что-то бесценное и ускользающее из всего того, вроде бы материального, что вывезти вообще нельзя, но и…
Эврика! Почему бы не обмануть пространство и время как таковые, перемучившись ностальгией, которая настигнет не где-нибудь и когда-нибудь там, в закордонном будущем, а здесь и сейчас?
Здесь и сейчас перемучиться ностальгией и – зафиксировать тягостно-летучие образы её на бумаге?
Вот ещё и благородная зацепка, оправдание отпущенных дней…
И, возможно, целительное, как иммунная прививка, опережение сочинительством всего того, болезненного, что случится (если случится!) там, по ту сторону занавеса, и прежде всего – настоящей, всерьез, без лицедейства и симуляции, ночной пытки воспоминаниями?
Совсем конкретно: в сознании правят бал время и память, так?
Ну а роман (в идеале) = (равен) сознанию.
И опять, опять, опять: попробуй-ка написать (с натуры?) сознание, да так, чтобы – получился роман…
Роман, а не рабочая тетрадь психиатра.
Пока всё, что приходит на ум – пока, никаких ограничений, свобода! – он доверяет толстой, объёмом 250 листов и форматом 128 х 200 миллиметров тетради ценою 70 копеек. Называется она, тетрадь в тёмно-зелёной коленкоровой обложке, «книгой для черновой записи шариковой ручкой», и выпустила её, книгу-тетрадь, типография «Печатный двор». «Книга-тетрадь, – откровенно сообщается тусклыми буковками на последней странице в выходных данных, – изготовлена из отходов»; ну да, желтоватые, чуть шероховатые страницы с несколькими крохотными щепочками на каждой.
В соответствии с назначением этой многообещающей книги наш престранный курортник и строчит шариковой ручкой в кафе у пристани (когда дождь), под пляжным зонтом (изредка, когда солнце), придирчиво поглядывает по сторонам, о чём-то необязательном – возникшем ли, исчезнувшем – размышляет, к чему-то позабытому, наморщив лоб, возвращается.
Спонтанно возникают наброски, нечёткие зарисовки настоящего-прошлого и даже будущего; забавно – будущему подыгрывали сиренево-лиловые кляксы от капель дождя, заброшенных в тетрадь ветром?
И вдруг – отрывочные, разделённые пробелами абзацы и строки, вовсе теряя привязку к времени, начинают рифмоваться, мысль, ускоряясь и притормаживаясь толчками памяти, кружит в спровоцированных ею же завихрениях, отсылает к истоку; как бы сама собой запускается компоновка; вычёркивания, вставки, сцепки разрозненных, пусть и расположенных на разных страницах абзацев длинными стрелками.
Азарт вольного сочинительства – счастливая безответственность памяти, воображения, глаз, руки!
Начинать же писать всерьёз трудно, очень трудно.
Какими будут первая фраза, первый эпизод?
Как задать ритм, найти интонацию?
Но деятельные сомнения, догадывается, одолеют попозже; пока, будто бы проскочив начало, страница за страницей заманивают в неизвестность белою пустотой, пока – разогрев памяти и воображения, пока – экспрессивная пестрятина набережной и пляжа, мешанина контуров, фактур, красок.
Хорошо!
Столик в углу, у барьера из продолговатых деревянных ящиков с жирными, карминными, словно увеличенная герань, цветами, стебли их – толстые, серебристо-пепельные – напоминают бесстыдно голые стволы эвкалиптов в миниатюре.
За ящиками с карминными соцветиями, в рваном окне живой стены (дикий виноград с плющом), свисающей с бетонного козырька кафе, сквозь тюль дождя – море, роща; на столе рюмка с коньяком – помогает раскачать мысль.
Пижонство, конечно, писать на французский манер в кафе, однако в непогоду – это приятная необходимость; когда дождь усиливается, в лиственное укрытие, под этот нелепо задранный козырёк, залетают брызги дождя, солёная пыль штормящего моря, и паста шариковой авторучки расползается по увлажнённой бумаге, будто по промокашке, лиловатыми кляксами.
А за цветами и колыханиями лиственной занавеси, за выносом козырька, пузыри вздуваются, делятся, скользят наперегонки по лужам, обещая затяжное ненастье, но зато – никаких отвлекающих соблазнов: пиши.
Между тем торопливая – вроде бы отвлекающая от садняще-ускользающей сути – писанина пухнет, бунтует, подбрасывает какие-никакие идеи. Это сложная, без выверенной рецептуры кухня, даже себе самому не объяснить, как из зыбких, аморфных массивов слов интуитивно выстраивается композиция странного – словесно-пространственного? – сооружения, которое и в воображении-то пока в общих чертах не выстроилось, а, как чудится, кренится, пошатывается, ибо для каждого из фрагментов его ещё не найдено единственно возможное место.
Но если – единственно возможное, то стоило ли мечтать-размышлять об открытой форме?
Здесь, пожалуй, своевременно будет отметить, что приведённые выше сомнения (равно как и сомнения, которые с иезуитским смирением дожидаются ниже) не столь новы, как может казаться; пора также предупредить легковерных, что и намерения писать поверх правил хорошего литературного тона отнюдь не новы.
К слову сказать, ещё более века назад прославленный романист, утончённый стилист и прочая, прочая, мечтал: «Что кажется мне прекрасным, что я хотел бы сделать – это книгу ни о чём, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как земля, ничем не поддерживаемая, держится в воздухе…»
С тех пор о написании книги «ни о чём» мечтали многие.
Некоторые даже брались за перо и, случалось – как это не признать? – добивались успеха.
Ему тоже захотелось.
Вот и пишет сейчас в кафе «ни о чём», или, если откровенно, то всего-то о двух всемогущих эфемерных субстанциях: о времени и памяти, точнее – о переживании их, времени и памяти.
Правда, об успехе – ей-богу! – не помышляет.
Итак: умозрительное словесно-пространственное сооружение… Пространственное, ибо внутренним взором он, заложник профессии своей, строит, пропорционирует и – общим взглядом, мысленно кадрируя, – оценивает построенное.
Сколько в тексте будет структурно-смысловых уровней, Соснин не знал, хотя, конечно, основные мог перечислить.
События, сами по себе пусть и незначительные, случайные, ибо не бывает вовсе бессобытийной жизни…
Сюжет, который так ли, иначе увязывает события…
Любая жизнь, если на неё оглянуться, покажется невыдуманным кладезем приёмов сюжетосложения. Надо лишь обладать зоркостью и вкусом, чтобы выбрать; нет-нет, выстрелы и погони с поцелуем в диафрагму в финале не занимали его…
Однако сюжет, даже лихо закрученный, – всего лишь функциональный шпагат, «интересно» перевязывающий пакет смыслов и символических содержаний, при том что он (достойное совместительство) и сам может стать символом – не шпагатом, так розовой шёлковой ленточкой на подарочной коробке, да ещё от радующего глаз бантика не стоило бы отказываться.
Мало того, сюжет, как проводник по событиям и предъявитель случившегося, усиливает связи в каркасе текста-сооружения.
Остальные же смысловые и символические уровни текста событийно-сюжетной направленностью не обусловлены, вольная мысль, путешествуя по двум плотным, но диффундирующим средам языка и времени (какое занудство…) в них преломляется, не забывая при этом, подобно греческому хору, комментировать действие.
Этот комментарий, разрастаясь, и подводит к тайнам пропорционирования.
Что важнее – проблемный потенциал (недурно, а?) или череда событий?
История или ее, истории, трактовки?
И – если не забывать о композиции – стоит ли доверяться ощущению перегрузки, рискованного сдвига уровней-этажей, когда многословие начинает критически нависать над сутью?
Да и элементарный здравый смысл подсказывал, что всё, что дорого ему, в текст не затащить, ведь не всякий комод-мастодонт пролезает в дверной проём.
И между прочим, дошло, что отбор, самоограничение – защитная реакция памяти: нельзя объять необъятное.
Да и время – ограничитель, хотя бы потому, что ограничен земной срок.
А пока суд да дело, время и память, каким-то образом смыкаясь и пересекаясь в сознании и непрестанно расширяя-углубляя его, отфильтровывают поток фактов, картинок-кадров…
Соснину нелегко давалось пропорционирование подвижных словесных масс, но, взявшись за шариковую ручку, он сразу понял, что от обрушения текст спасёт не паническое вычёркивание вроде бы лишних слов, фраз, абзацев, а специальное ядро жёсткости, в полостях которого, прошивая все этажи текста, снуют между первой и последующими фразами лифты сомнений.
Сомнения помимо прочего – это индивидуальная технология нейтрализации диспропорций, уравновешивания, искусного продления-поддержания устойчивости, хотя и хлопотная, небезопасная технология – приходится не только сновать по строчкам вверх-вниз и обратно, но и выбираться из текста, чтобы взглянуть на него снаружи: не прозевал ли перекос, не валится ли?
Да, использовал архитектурные навыки.
Посматривал критично на текст, как на недостроенное здание.
Если устойчивость сохранена – продолжается нагружение, если шатается – выручают сомнения в надёжности последних абзацев, и эксцентриситет, опознанный и пристыженный, исчезает.
Так, прочностные характеристики обеспечены.
А как защитить легко уязвимые нервные ткани новорождённой прозы?
Опережая читательское мнение, можно с показной растерянностью ли, самоиронией выставить напоказ изъяны своего текста, связав авторской осведомлённостью (и откровенностью) руки критиков-потрошителей, которые перед нападением лишний раз задумаются: а вдруг впросак попадут?
Или можно посетовать на несообразительность будущего (воображаемого) редактора, и тогда настоящий редактор притворится, что всё понял: это о дураках, а я – умный.
Если страницу смочили не капли дождя, а слёзы умиления, не вредно будет предупредить, что так и задумано, это, мол, не авторский бзик, а стилевой приём, и тогда его, приём этот, понимающе кивнув, оценят другие.
И развивая успех – если в подзаголовке перед существительным «роман» тиснуть прилагательное «сентиментальный», текст могут разругать за что угодно, но только не за слезливость.
Если же под заголовком кокетливо врезать: «Опыты тавтологии», то решится ли кто-нибудь расписаться в отсутствии чувства юмора, обвинив автора в безвкусном пережёвывании сказанного и пересказанного?
Можно также, к примеру, набрать на титульном листе мелким (чем мельче, тем лучше) шрифтом: «Записки эпикурейца».
Разве рискнут тогда упрекнуть автора в том, что он смотрит на мир сквозь розовые очки?
Вещи надо самому называть своими именами, и тогда…
Короче: увидев слабости прозы и открыто сообщив о них в самой прозе, так ли, иначе обсудив (и осудив) их, погримасничав и посомневавшись, можно слабости превратить в достоинства – культурные читатели в этаком самоуничижительном (кокетливом) новаторстве даже преемственность усмотрят, Стерна ли припомнив, Розанова, Олешу с Катаевым…
Здесь, однако, поджидают свои сложности: критикуя текст свой и, стало быть, себя, раскрывая секреты письма, объясняя (суконным языком) принципы компоновки, ритмики, демонстрируя приёмы, надо бы избежать взаимного исключения смыслов, да ещё хорошо было бы сохранить (как?) аромат, загадочность, а главное – лёгкость и радость до беспамятства затягивающей игры.
Если же отвлечься от текущей конкретики, представить жизнь произведения во времени, то стоило бы заметить, что обнажение литературных кодов не изгоняет художественную тайну, а средствами перекодировки может даже её роль усиливать благодаря замещению функциональных содержаний символическими: сетка фахверка на щипцовых фасадах, к примеру, давно уже превратилась в культурном сознании из конструктивной необходимости в декоративный знак, накладной, примитивно-грубоватый вензель ганзейского процветания, обеспечивающий прежде всего красоту графических членений фасадной стены и лишь попутно, между прочим, по чистому (верят ротозеи-туристы) совпадению – её жёсткость и прочность.
Тетрадка отодвинута… Посматривая на море и облака с рваными зияниями лазури, всё думу думает об индивидуальной технологии сочинительства, не зная как записать свои безответственные раздумья, не зная даже, стоит ли вообще их записывать…
Солнце, как яичный желток, обозначилось за облачной мутью, насквозь просветило плющ, угол кафе затопила нежно-зелёная тень, будто чуть пригашенная плывучая вспышка света.
А пока длилась игра сомнений: может быть, ещё сложнее? Вдруг выдержит? А если так накренится, что не удастся выправить? Снова всё сначала, и так – без конца.
Нагружал текст словами-смыслами, рисковал устойчивостью конструкции, которую изначально хотел видеть сбалансированной, но лёгкой.
Добиваясь открытости и непреднамеренности, а заодно прозрачности, рисковал и вовсе потерей формы: хождение по проволоке без страховочной лонжи, без натянутой внизу сетки, без подстеленной соломки, в конце концов.
И параллельно с рискованной игрой сомнений – невнятное проборматывание, смутное планирование, да что угодно из нескончаемых потуг сочинительства, лишь бы не задумываться всерьёз о стиле-форме, структурной организации строк, страниц. Набегает зыбь необязательных мыслей, провоцируя отдаться внутренним импульсам и бегу шариковой ручки по влажной бумаге: интересно, что напишется через две, три, четыре страницы и на какое слово упадёт, уродливо расползаясь лиловой кляксой, новая капля?