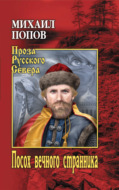Read the book: «Поселение»
Поселение
Роман
И отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!»
И. А. Бунин. Деревня
Глава 1
Начать сенокос, как обычно, после Петрова дня Виталику Смирнову в этот раз не удалось. Всему виной был установившийся с недавних времен порядок пасти деревенское стадо по очереди. Сразу три дома попросили выручить, попасти за них не в свой черед. Конечно, можно было бы и заупрямиться, отказать. Но уж больно причины у всех были серьезные и уважительные. У одних умер близкий родственник где-то в дальних краях, у других разом заболели корью гостившие внучата из города, у третьих призывали (что случалось все реже и реже, и воспринималось уже как экзотика) сына в армию. Виталик помялся, поежился, поулыбался тихими васильковыми глазами… и пошел всем навстречу. По жизни он предпочитал особо ни с кем не заедаться и вообще был покладистым малым, хотя на сердце заныло – для своих трех коров и пяти овец с ягнятами сена надо было каждый год запасать тонны, и тут каждый день в середине июля, в самую жаркую пору, когда накошенная трава высыхала на глазах, был на счету. Да и косилку он уже навесил на трактор, прошприцевал все, подтянул, опробовал на холостом ходу. И готовился начать обкашивать овраг за деревней, где трава в этом году после сырой и затяжной весны поднялась, как никогда, густая и сочная. И вот на тебе, предстояло отдать четыре золотых денечка на занудное кочевание с коровами и овцами по лугам, псу под хвост, безо времени… И это его тяготило, как всегда тяготило то, что приходилось делать, словно с перепугу, нежданно-негаданно, без наторенного, привычного порядка.
Но в первый же день досадного, несвоевременного пастушества, когда Виталик погнал ранним утром жиденькое деревенское стадо – три десятка пестрых, разнопородных коров и грязно-серую, лохматую сплотку овец – по привычному маршруту в пойму Кержи, подкрался мелкий, несмелый, как начинающий воришка, дождь, и от сердца Виталика отлегло.
Он шел за нестройно рассыпавшейся вдоль шоссе, голодно припадающей с утра к траве скотиной, пощелкивал для острастки на отстающих, колченогих, страдающих копыткой овец, коротким ременным кнутиком на длинном кнутовище, отполированным в ладонях до лакового блеска, посматривал на быстро затягивающееся темно-серыми тучами небо и думал, что оно, может быть, и ничего, что досталось вот так неожиданно пасти, косить в такую погоду все равно нельзя, и в этом смысле хорошо, что так получилось. Но когда пристальнее оглядывал из-под длинного козырька бейсболки набухающие влагой и все ниже проседающие на землю облака, мысли опять приобретали неспокойный характер – главное, чтоб на сеногной не завернуло, как два года назад. Тогда вот так же начиналось с сопливого, теплого дождичка, а разошлось не летними, холодными ливнями на три недели, так что за покос он взялся только в августе. А какое сено в августе – проволока, а не сено…
И, словно подслушивая невесело-обременительные мысли Виталика, дождь пришпорил, смелее зашуршал по крапиве и лопухам, редким, объеденным овцами, кустам вдоль дороги. Виталик достал из брезентовой сумки через плечо предусмотрительно захваченный, аккуратно скрученный в рулон матово-прозрачный полиэтиленовый дождевик с капюшоном, тщательно обрядился в него, застегнувшись на все пуговицы-кнопки, разгладил на себе, огляделся и, визгливо скользя резиновыми сапогами по сырой траве, побежал заворачивать непутевую, вечно отбивающуюся от стада, глупо-строптивую корову Генки Демьянова, которая и в это утро, как всегда, самоуверенно и нагло направилась в сторону зеленеющей капусты на крайнем от села приусадебном участке. «Какая вредная тварина – вся в хозяина!» – беззлобно думал Виталик, несколько раз легонечко, щадяще приложившись кнутиком к худым, с намертво присохшим навозом ляжкам коровы. Корова обиженно повела на него своим большим, глупым оком и коряво припустила, тяжело болтая огромным круглым выменем, размером с футбольный мяч, с заляпанными грязью сосками, куда-то во главу стада. Виталик перегнал табун через шоссе, с искрошенным, переломанным в мелкую плитку асфальтом, и вольно распустил стадо по отлогому косогору к реке. Теперь можно было расслабиться и передохнуть, подкрепиться чем Томка снарядила в дорогу. Он присел под густые, запахшие горечью под дождем кусты черемухи на горке, выбрав место посуше у корневищ, и с удовольствием позавтракал парой яиц вкрутую, вареной курятиной, запив все горячим чаем из термоса. Томка у него была баба хозяйственная и заботливая, Виталик подумал о ней с теплотой, и в который раз, что женился правильно.
Пасти ему выпадало обычно три-четыре раза за сезон с мая до середины октября, и это было для него каторгой. Не любил он уныло-тягучее, изнурительное пастушье дело. Четыре дня – три за коров и один за овец (так почему-то было определено в деревне) – монотонного, однообразного перемещения вдоль реки и одичавшим полям, когда время шло черепашьим шагом, все на ногах, и в дождь, и в жару всегда в резиновых сапогах, так, что до неестественной белизны опревали пальцы на ногах, сухомятка, вставание ни свет ни заря, усталость за день, что отваливались, становились ватными ноги – выматывали его до такой общей разбитости, полного изнеможения, что обычно на четвертый день не хотелось ни вставать, ни шевелиться, ни есть, ни пить. То ли дело было прежде, когда всем селом нанимали пастуха, скидывались ему на зарплату, кормили по очереди самым вкусным и лучшим, чтоб старался, скотинку не обижал… и горя, как говорится, не знали. Правда, тогда и стадо было побольше, под двести голов, в каждом хозяйстве держали корову и не одну, телят, овец по десятку. Коровы спешили в жару по улице на полдни, поднимая облако пыли до небес, а вечером по росе возвращались, нагуленные, домой неспешно, разбредались по дворам, с трудом удерживая молоко в сосках, рассеивая его сладкий, густой запах в воздухе…
Виталик оторвался от воспоминаний и нашарил в сумке китайский приемник, специально подаренный ему сыном в прошлом году на случай такой вот одинокой, скучной работенки. Покрутил колесико настройки, везде с утра зубоскалили, смешили друг друга, рассказывали хохмочки и байки, пели непонятные песенки, что-то трещали про цены, курсы, индексы. Виталик с отвращением выключил радио. Ничего дельного, чтобы хоть что-то услышать полезного, чтобы хоть кто-то рассказал, как жить тут, как другие живут. Одна неразбериха какая-то и тарабарщина – триллеры, трейлеры, ритейлеры… и не выговоришь, и ничего не понять. Он действительно не понимал, что происходило за пределами его хозяйства, семьи, возни с коровами, отелами, стрижкой овец, выпаиванием телят, чисткой навоза, сенокосом, уходом за домом, продажей молока, сметаны, творога… Раньше понимал, а вот теперь, хоть убей, не понимал. Нет, он понимал, что надо как-то выживать, что-то зарабатывать, крутиться, прикапливать деньги на свадьбу сыну и дочери, ведь когда-то они будут жениться и замуж выходить, нужна им будет и крыша над головой, не все же по общежитиям и чужим углам отираться, а там надо будет обзаводиться обстановкой, пойдут дети, их нужно будет каждый день поить-кормить, покупать одежду-обувь… Опять же внукам помогать надо, как же без этого… Но вот как все это устроить, как приладить и завинтить в одно целое, чтобы было от чего-то устойчивого и надежного оттолкнуться и пойти, пойти дальше от одного к другому, налаженным ходом? Как? Этого он решительно не понимал. Раньше понимал, когда работал в совхозе на машине, потом на кране… был везде нарасхват, знал, что будет делать каждый день, сколько заработает, сколько налевачит, на сколько и чего купит для хозяйства, на какие шиши приоденется с женой и детей в школу соберет. И сколько на главное дело, можно сказать, мечту заветную, на книжку положит…
В армии Виталик служил в ГДР, в автороте, на авиабазе под Дрезденом. Служба была не обременительной, другие ходили в караулы, сутками не спали, охраняя хранилища и ангары, бегали по боевой тревоге, палили на пыльных стрельбищах, чеканили шаг на плацу, а Виталик исправно крутил баранку огромного и неуклюжего на вид, крокодилистого «Урала», перевозил разнокалиберные армейские зеленые ящики со складов на аэродром и обратно, бомбы и ракеты в круглой опалубке, всегда гомонящих и хохочущих, радующихся, как дети, любой поездке на машине солдат, картонные коробки с маслом и тушенкой, авиазапчасти, бочки с техническим спиртом, хозинвентарь, мебель и немудреный скарб вечно кочующих из гарнизона в гарнизон офицеров. У других ни минуты покоя и отдыха, все по часам и уставу, а Виталик набросит пилотку на глаза и подремывает себе, вытянув ноги, в просторной, пахнущей нагретой кожей и соляркой кабине грузовика, кемарит, пока не загрузят-разгрузят кузов, матерясь, на полусогнутых сноровистые, неутомимые солдатики. Но Виталик, надо заметить, не только меланхолично позевывал на службе, не только лениво подсчитывал, сидя в теплой машине, как и большинство шоферов, в календарике вожделенные денечки до дембеля или наводил бархоткой от безделья на сапогах глянец… Нет, не все так однозначно, водилась за Виталиком как бы одна страстишка. И даже не страстишка, а врожденное свойство его натуры. Тут надо сказать, что Виталик был весьма любопытен и наблюдателен по природе, а потому с самым живейшим интересом и внимательнейшим образом присматривался еще ко всему, что вокруг происходит, деется, особенно у немцев этих, когда выпадало, допустим, к соседям под Лейпциг, где тоже стояли летуны, наведываться. Случится, скажем, в дороге, когда обязательно сопровождающий груз офицер или прапорщик попросит в каком-нибудь небольшом городке или деревушке притормозить у магазина сигарет или что для дома-семьи купить и, строго поправляя ремни, важно уйдет за покупками, Виталик уже не разваливался масленичным котом на сиденье, а живенько выпрыгивал из машины, начинал деловито прохаживаться неподалеку, вглядываясь в незнакомый, чрезвычайно интересный мир окружающей неметчины.
Виталику нравились опрятные, вылизанные улицы; ровные, выложенные плиткой, тротуары; обвитые плющом или диким виноградом неброские, но какие-то надежно сработанные каменные дома немцев; низкие, хорошо прокрашенные, пряменькие изгороди между соседями; цветники, клумбы, подстриженные бобриком газоны; чистота и порядок во дворах, где все было продумано и каждый предмет знал свое место; правильно сформированные, подрезанные деревья. Но особенно эти прочные, двухэтажные дома из камня повсеместно… Они не выходили из головы, волновали его. А почему не построить что-то похожее у себя в деревне и не зажить вот так же крепко и основательно, часто думал он, и его не раз подмывало как-нибудь остановиться вот у такого домика, зайти, осмотреть все внимательно, расспросить, как строить надо, может быть, план срисовать… Он даже не выдержал и осторожно подступился с таким предложением к прапорщику Зозуле, с кем у него за два года службы и частых совместных поездок в командировки сложились вроде бы неплохие, чуть ли не приятельские отношения. «Ты шо, сдурел, хлопец! – насмешливо посмотрел на него прапорщик Зозуля, огромный, добродушный, пузатый хохол откуда-то из-под Ровно. – Контакты с местными… ни-ни! – Зозуля решительно рубанул воздух рукой, похожей на медвежью лапу. – У тебя в кузове богато всяких интересных хреновин понакидано… узнают, что стоял, балакал с немчурой… замордуют!» Виталик понял, что сморозил глупость, и смиренно прикусил язык.
Но, как говорится, кто ищет… Словом, однажды возвращались на базу из очередной поездки к каким-то дальним авиаторам, и тут надо было такому случиться, что у всегда надежного, как танк, «Урала» неожиданно закипел двигатель. Впрочем, не мудрено, жара установилась тогда, несмотря на начало мая, нестерпимая, градусов за тридцать. Виталик поднял крышку парившего, как поспевший самовар, капота и понял, что без ведра холодной воды не обойтись. К счастью, тормознули у буйно цветущей яблоневой аллеи, уходящей от основного шоссе куда-то в глубь поля к краснеющим черепицей постройкам. Подумав, заметно посомневавшись, сопровождающий груз офицер, капитан Седельников, прозванный за не по чину повелительно-строгое, сухо-надменное обращение с сослуживцами Генерал-капитаном, все-таки приказал Виталику сходить за водой к «бауэру», только, свирепо рявкнул он, быть там предельно осторожным, в дом не заходить, лишний раз пасть не открывать, поздороваться, да поприветливее – «guten tag!», попросить «wasser», сказать «danke», и быстренько, на рысях, обратно. «Gut?» – грозно посмотрел капитан на Виталика. Виталик молча, втайне обрадовавшись, отмотал прикрученное проволокой к запаске помятое ведро и отправился, как по райской дорожке, под гудящими пчелами в кипенно-белом цвету яблоневой аллеи к «бауэру». «Вот таким будет подъезд и к моему дому» – отметил он, осторожно, можно сказать трусовато, вступая на незнакомый, чужой немецкий двор.
Перед ним отрылось довольно широкое пространство в форме буквы П, вымощенное столетней, обкатанной временем до серо-сизого блеска брусчаткой. Справа под навесом стоял довольно потрепанный колесный тракторишка с брезентовым, вылинявшим верхом на четырех железных стойках, и новенький белый «трабант»; слева, также под навесом, были аккуратно, в рядок, расставлены плужки, культиваторы, сеялка, бороны. Виталик по-деревенски опытно отметил сверкающую сталь лемехов и зубьев борон от недавней работы с землей. Впрочем, судя по темным подтекам на брусчатке, технику здесь только что и помыли. Под навесами было прохладно и сумрачно, и от того как-то особенно радостно и приподнято выделялся на солнце выкрашенный нежной розовой краской большой двухэтажный дом с лепной, в вензелях цифрой «1885» на треугольном фронтоне. В центре двора на высокой клумбе цвели желтые и красные тюльпаны. Виталик почувствовал, как у него разливается на сердце тепло. Вот так нужно сделать и у себя дома.
У трактора возился коренастый, плотный, средних лет человек в синем, замасленном комбинезоне, позвякивал ключами по металлу. Когда Виталик вошел во двор, он оторвал крепко посаженную на короткой шее, с жидкими прядями светло-рыжих волос голову от работы и с тревожным недоумением взглянул на гостя. Виталик, напрягая все свои познания в немецком языке, вынесенные из курса средней школы, сказал, что «main auto stop… bitte, wasser». Как ни удивительно, но немец его понял и показал на колонку в углу двора. Пока ведро наполнялось водой, Виталик еще раз с плохо скрываемым восхищением оглядел двор и дом, что не укрылось от хозяина. Вытирая на ходу ветошкой руки, немец подошел к Виталику.
– Карл, – гортанно выдохнул немец, протягивая широкую ладонь, и добавил наполовину по-русски, наполовину по-немецки: – Здравствуй, kamerad!
«Не воевал, на вид – перед войной родился», – подумал Виталик, пожимая руку немца.
– Карашо? – сказал Карл, махнув ветошкой вокруг себя.
– Хорошо, – сдержанно подтвердил Виталик и неожиданно начал объяснять на смеси немецкого и русского: – nach Heimat bauen auch Haus… хочу сделать такой же дом… на родине… nach Heimat!
Немец и это понял.
– Карашо, очен карашо! – схватил он еще раз и потряс, смеясь, руку Виталика. – Kom… kom, kom! – показал на вход в дом.
Виталик замялся, вспомнив строгие наставления капитана.
– Бистро, очен бистро! – понимающе увлек его под локоток немец.
Виталик был уже не рад, что связался с этим «фрицем», но любопытство пересилило страх. «А-а, семь бед, один ответ. Когда еще посмотришь, как изнутри они живут!» Дом изнутри, однако, на взгляд Виталика, был не совсем правильно спланирован – слишком много маленьких комнаток, кладовок и подсобок, все это было бы лучше укрупнить, расширить, придать размах… Но вот кухня ему понравилась с первого взгляда, поразила своей просторностью, ухоженностью, блеском эмалированной посуды на полках, ладно подогнанными друг к другу шкафами на стенах с горками тарелок, чашек, затейливыми рюмочками, стаканами, с идеально чистым кафельным полом, большим круглым столом посередине, обставленном стульями с высокими спинками, букетом сирени в прозрачной вазе на белой скатерти. «Вот такую чистоту и порядок заведем и у нас на кухне, где будем собираться всей семьей за круглым столом», – разом размечтался Виталик. Немец угостил его из сифона стаканом шипучей воды с привкусом лимона и неожиданно достал из холодильника бутылку пива и кружок домашней колбасы, нарезал хлеба, упаковал все в полиэтиленовый пакет и протянул Виталику. Посмотрев на немца, на его доброе, просиявшее искренностью лицо, в светлые, без фальши глаза, Виталик понял, что жеманиться и отнекиваться здесь не надо, и принял подарок…
– Тебя только за смертью посылать, рядовой… Почему так долго? – подозрительно ощупав Виталика взглядом, процедил сквозь зубы тоном, не предвещающим ничего хорошего, Генерал-капитан, когда Виталик нарочито суетливо, энергичной трусцой подбежал к машине, стараясь не расплескивать в одной руке воду в ведре, зажав другой под горло пакет с пивом и колбасой.
– Да бауэр пахал на задворках, я ему махаю, махаю… далеко, пока он подъехал… а колодезь у него на замке, – соврал первое, что пришло в голову, и прикинулся валенком Виталик, забираясь на высокий бампер «Урала», залить воду в радиатор.
– «На задворках… махаю… колодезь»… деревня! – недовольно передразнил Генерал-капитан. – А что у тебя тут? – осторожно, двумя пальцами, поднял за ушки пакет с земли, аккуратно приставленный Виталиком к переднему колесу грузовика.
– Да немец что-то сунул в руки, когда я побег обратно с водой, – сказал Виталик, вытирая пилоткой пот со лба. «Вот влепит под горячую руку пяток нарядов вне очереди, карячься потом со шваброй в казарме после отбоя!» – подумал Виталик, физически ощущая, как нарастает, готовый вырваться огнем, нешутейный гнев в капитане.
– Что-то в руки сунул! А если он тебе гранату в штаны сунет, так и побежишь придурком! – заорал капитан. – О, пивко, запотевшее… холодненькое, колбаска домашняя! – заглянув в пакет, резко убавил обороты Генерал-капитан. – Не отравленное? – сурово пронзил взглядом Виталика.
– Давайте на мне испробуем, товарищ капитан, – облизнул сухие губы Виталик.
– Ты у меня испробуешь, ты у меня испробуешь наряд вне очереди! – машинально смягчившимся голосом пропел Генерал-капитан, точным, отработанным движением срывая крышку с бутылки о край подножки. – Хорошо, рядовой, на жаре холодненького пивка принять!
Виталик понял, гроза миновала, и с облечением вздохнул.
– Не вздыхай, – сделал несколько крупных глотков из бутылки Генерал-капитан, – пива я тебе все равно не дам, ты за рулем, а вот колбаски пожуй, заслужил! – и протянул пакет Виталику.
После армии Виталик как-то очень тихо и незаметно женился. А что оставалось делать. Не шляться же с парнями по деревенским улицам с переносным магнитофоном до рассвета, не травить же по лавочкам, лузгая семечки, байки и анекдоты, не пить же портвешок до одури и беспричинных драк до увечий. Нет, Виталик был другой, ему нравилась полезная, правильная жизнь. Во всем размеренная, во всем аккуратная и с какой-то своей завершенной ладностью. Скажем, копает Виталик грядки, так он их так приподнимет, глубоко, на весь штык, врезая лопату в землю и перекидывая пласт повыше, так тщательно потом каждый комочек руками разомнет, граблями любовно разрыхлит и обхлопает для стойкости лопатой по боковинам, что вырастут в огороде выровненные в строгую линейку не грядки, а настоящие клумбы как в каком-нибудь ухоженном немецком городке. Любо-дорого посмотреть. Или колет он дрова на дворе, так поленья бросает не как попало, куда рука «поширше маханет», а в кучку поладнее и повыше прилаживает, чтоб лужайку меньше засорять. А когда дрова подсохнут, перенесет их в поленницу в сарай, и каждую щепку, завиток бересты соберет в корзину, и на дворе чисто, и на растопку зимой сгодится. В кладовке, где держали инструмент, устроил специальные гнезда для раздельного хранения лопат, граблей, вил, мотыг. Все должно быть на своем месте и под рукой.
Не любил Виталик в жизни беспорядок, неряшливость или разор какой… Все в нем от «бардака» протестовало, появлялось желание поправить, сделать хорошо. Но Виталик понимал, что он очень «маленький» человек, и потому особо не высовывался, не лез без команды вперед… Хотя душа болела… Случится, пошлют его на машине сено перевозить куда-нибудь в дальнюю, «неперспективную» деревеньку, где остались три одинокие бабки куковать, а дома все брошенные стоят, так пока разнорабочие сено в кузов навиливают, Виталик пройдется по оставленным избам, повздыхает, что ушла большая и налаженная жизнь, и ничего другого не придумает, как что-нибудь полезное найти, сохранить или запомнить, с расчетом на будущее, так сказать. Хоть так, чтоб не все пропало бесследно. Однажды подобрал в старом сарае топор с подгнившим топорищем и немецким клеймом двадцать пятого года. Оказался топор крупповским, Виталик вымочил его в керосине, очистил от ржавчины, насадил на новое топорище, наточил в кузнице на электрическом точиле, и стал топор острее бритвы – одно удовольствие было им с деревом работать. А с деревом Виталику очень по душе пришлось неторопливыми зимними вечерами заниматься. Полюбилось ему всякие финтифлюшки деревянные вырезать. Взялся он как-то покосившееся крылечко в родительском доме перебрать, да так увлекся, что решил вместо простеньких столбиков под навес резные балясины поставить. Недели две возился с двумя сосновыми бревнышками, но все-таки придал им с помощью того же найденного топора, долота и рубанка нужный фасон, как на одном из крылечек когда-то богатого дома в одной из заброшенных деревень. После балясин Виталик, войдя неожиданно во вкус, решил приняться за кружевные, тоже подсмотренные в какой-то умирающей деревушке, наличники. Но тут он понял, что на одном желании далеко не уедешь. Стал расспрашивать старичков, знающих толк в плотницком деле (они еще кое-где доживали в ту пору по окрестностям), как подобраться к узорам по дереву, заглянул даже в местную библиотеку, и, надо заметить, какие-то полезные книжки там нашел. И пошло все складываться как-то одно к одному: нужный инструмент прикапливаться, понимание и сноровка появляться. Виталик завел даже специальный блокнот, который возил теперь всегда в бардачке машины, и, если встречал что-то необычное по дереву, тут же спешил, как мог, зарисовать карандашом на бумаге. Через год немудреная изба его родителей украсилась наличниками, на которые прохожие оборачивались.
Незаметно Виталик с головой ушел в хозяйство, зарылся в домашних делах так, что даже мать, неторопливая, степенная женщина, сама дальше дома и огорода не любившая никуда высовываться, однажды не выдержала: «Ты бы, сынок, хоть в клуб сходил, промялся… не старый еще». А отец, всю жизнь проходивший в кладовщиках, всегда на людях, бойкий и речистый, сидя как-то на лавочке и наблюдая, как Виталик сноровисто наводит метлой порядок во дворе, насмешливо бросил сыну: «Тебе бы вот так, как с метлой, с девками научиться управляться… Я в твои годы ни одной гулянки не пропускал, мама ты вылитый!» Виталик обиделся, но смолчал, хотя что-то в голове у него щелкнуло, и он подумал о Томке Лисицыной, бухгалтерше в совхозной конторе, присланной недавно после техникума к ним в Романово. У Томки были добрые, всегда весело и дружелюбно смотревшие из-под густых черных бровок сияющие бирюзовые глазки. И Виталику они нравились, хотя ни статью, ни фигурой Томка не удалась. Угадывалась в Томке будущая колобковатая округлость. Но Виталик сам был среднего росточка, плотный крепышок, и в этом смысле, понимал Виталик, они были пара. К тому времени Виталика, как башковитого и непьющего работника, отправили от совхоза на шестимесячные курсы автокрановщиков, и он стал частенько бывать в бухгалтерии то с командировочными отчетами, то за очередной стипендией. Томка всегда посматривала на него из-за своего стола ласково и участливо, когда не было старшей, бралась ему помогать. Виталик обычно тушевался в конторе среди женщин, мямлил что-то о печатях и подписях, незаметно вытирая вспотевшие ладони о штаны. С Томкой у него с оформлением бумаг выходило всегда ловко и без напряга.
Виталик стал снова появляться в клубе и несколько раз проводил Томку до квартиры, к одинокому дому бабы Зои Котовой, куда Томку определили, как молодого специалиста, на постой. Дом стоял на отлогом берегу перерезавшего село ручья, заросшего непролазными травами, ольхой, бузиной и черемухой; пышно цветущее и до болей в висках пахнущее весной раздолье для соловьиных страстей. Обычно перед тем, как расстаться, Виталик и Томка садились на скамейку под самыми окнами бабы Зоиного дома, вглядывались в голубовато-зеленое свечение умирающей и нарождающейся зари, вслушивались в соловьиные, страстные песенные схватки, неловко молчали. Виталик веточкой отгонял комаров, Томка сочно шлепала их ладошкой на голых икрах. Так бы они, видно, промолчали бы еще очень долго, если б не баба Зоя, высокая, крепкая старуха с властным, решительным лицом боярыни Морозовой.
– Ты, вот что, касатик, либо женись, либо в другое место ходи соловьев слушать! – Выросла она однажды в ночи, словно из-под земли, грозной фурией перед заробевшим Виталиком. – Томка девка честная, работящая и чистоплотная… Бери, не пожалеешь! Или – другую поищи!
Виталик подумал-подумал и женился. Без ора и шума всех этих бестолковых деревенских свадеб, гудений клаксонами свадебного поезда, красных лент через плечо шаферов, двухдневного пьянства, корявых речей с подмигиваниями: «Дарю тебе зайца, чтоб засунул по самые яйца», фальшивых братаний с невестиной родней и всей этой кутерьмы и суеты, от которых нестерпимо болит голова и свадьба превращается в испытание воли и силы духа брачующихся. А сколько денег, на мотоцикл с коляской, улетает просто на ветер. Виталик подумал и предпочел скромный вечерок в родительском доме, где с его стороны был старший брат Федька с женой, родители само собой, да старый дружок еще со школы, он был свидетелем, местный силач, гулена и большой авторитет среди парней, широкогрудый, весь прошнурованный мускулами, налитой силушкой немеряной Ванька Кузнецов. С невестиной стороны приехала из соседнего района мать Томки, простая, без фокусов женщина, сразу полюбившая «рассудительного» зятя и от всей души одарившая молодых «на обзаведеньице» ста рублями. Отца, как выяснилось, у Томки не было. Он был, конечно, но давно состоял с тещей в разводе, где-то «странствовал по свету», так, что его уже все и забыли. Приезжал еще на бракосочетание Томкин брат из Москвы Николай, со своей благоверной, толковый мужик, как показалось Виталику, он возил на «Волге» директора завода в столице. Внимательно и строго оглядывала присутствующих из-под очков свидетельница со стороны Томки, тоже недавно присланная в Романово после пединститута, учительница химии Любовь Максимовна. Некоторое время, пока не подготовили комнату в школьном общежитии, она также была на постое у бабы Зои Котовой, и девчонки задружились, хотя Любовь Максимовна была и с высшим образованием… Тихо-мирно посидели, не напиваясь, познакомились, часам к двум ночи разошлись. Правда, Федька с Ванькой Кузнецовым все-таки удалились куда-то в темноту, на огород, выпили там на двоих бутылку водки из горла и, поплясав для куража на лужайке перед домом, поорали одиноко в ночи непристойные частушки. Так Виталик перешел в новое для себя качество женатого человека.
Вскоре ему дали автокран. Романово бурно разрасталось. К двум улочкам, тесно обсевших склоны ручья старых, седых изб с садами-огородами, начали активно пристраивать, «придавать селу стройность и завершенность», как говорил директор совхоза Сергей Васильевич Дьяконов, ряды типовых, двухквартирных домов. На горке, вверх по ручью, заложили новую контору, детский сад, школу, дом быта, универмаг, котельную, баню, с полсотни кирпичных и панельных двухэтажек. Тут задумывалась жизнь, как в городе, с водопроводом, ванной, теплыми туалетами, центральным отоплением. Работы для Виталика хватало, он был всегда нарасхват. С утра краном блоки под фундамент укладывает, люльки с кирпичом и раствором тягает, вечером панели поднимает, одну на другую ладит – «майна! вира!». Рядом с большой совхозной стройкой зашевелился и частный сектор. Кто-то старый дом подновлял, кто-то новый ладил. Все зовут Виталика, кран он любую тяжесть играючи поднимет, куда надо перенесет и установит. Стал накапливаться к зарплате солидный приварок, копеечка в кармане завелась. Тут-то в Виталике и проклюнулась снова мечта о собственном каменном доме. Но прежде Виталика, как молодого семьянина и ударника труда, премировали квартирой в новом двухквартирном доме. Виталик был рад, Томка к тому времени родила Андрюху, первенца, у родителей стало тесно. Какое-никакое (ему не нравилось, раздражало соседство через стенку), а все свое, можно сказать, жилье, думал Виталик, а там поживем, деньжат поднакопим, и, глядишь, лет через пять-шесть можно будет и за свой, отдельный, кирпичный дом браться. Чем-то похожий на тот, что «сфотографировал» он тогда у немца, у этого Карла.
Стал Виталик понемногу, по десятке-другой, каждый месяц на книжку откладывать. Вроде и невелика сумма (всего-то на три бутылки), а за год, однако, больше тысячи набегало. Томка его мечты полностью разделяла. Она действительно оказалась неглупой и покладистой бабой. «Виталик да Виталик, – щебечет, – как ты это хорошо придумал, я согласна…» – и все глазками бирюзовыми Виталика оглаживает. Ночью с деликатной нежностью прижмется к плечу: «А на втором этаже у нас обязательно будет комната для детей, такая… я по телевизору смотрела, с ковром на полу… ты им кроваток с резными спинками наделаешь…» Виталик скупо отвечал: «Угу!» А про себя удовлетворенно думал: «Понимает все, и приметливая… по телевизору смотрела!»
Через шесть лет на книжке скопилась приличная сумма. «На новенькие „жигули“ хватит», – не без приятности оценивал Виталик. Тут и Маринка, дочка, как по заказу, родилась. Пора начинать, решил Виталик… с какой-то неожиданной занозой в сердце. Что-то подсказывало ему в последнее время, что он то ли проворонил нужный момент, то ли по обстоятельствам, не зависящим от него, начинал дело заведомо невыполнимое. Раздвоенность и хмарь какая-то в душу закралась. Все вокруг неясно шевелилось, кривилось, пучилось и поворачивалось полной непредсказуемостью. А Виталик любил твердость, последовательность и определенность. Пошел к Дьяконову, подумал через совхоз кирпичом разжиться, прикинул, дешевле выйдет, на доставку не надо будет тратиться. Сергей Васильевич характерно поскреб указательным пальцем крупный, облысевший лоб: «Не понимаю, что творится, фонды по живому режут, скоро листа шифера не допросишься, а кирпича уже полгода нет. Страна работает, а того гляди, спички пропадут…» И, усмехнувшись, пристально посмотрел на Виталика: «Ты газеты читаешь, телевизор смотришь? Чувствуешь, куда все клонится?!» Виталик ушел от беспредметного разговора, рассусоливать о том, что нельзя было потрогать руками, не любил, главное он понял – кирпича в совхозе нет. Дьяконов был мужик честный и конкретный, поэтому и держался так долго, тридцать лет у руля – если говорил да, то да, нет, так нет. А потом он приходился Смирновым хоть и какой-то дальней по женской линии, но все же родней. Виталик чувствовал, что дядя Сережа (так он звал Дьяконова с детства) его всегда незаметно, но поддерживает. Помог бы и в этот раз, если было бы чем…