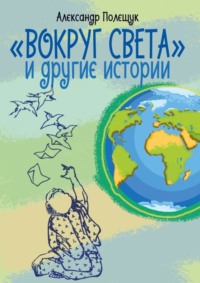Read the book: ««Вокруг света» и другие истории»
Вещи и дела, бывшая и бывающая,
великая и малая, весёлая и печальная,
аще не написана бывают,
тмою неизвестия покрываются
и гробу беспамятства предаются…
Написанная же яко одушевленна вещают.
Из рукописной книги Ивана Филиппова,поморского проповедника XVIII века
В оформлении обложки использован рисунок японского художника Кацусикэ Хокусая (1760-1849).
Елена Морозова Дизайнер обложки
Артём Полещук Иллюстратор
Мария Герасимова Вёрстка
© Александр Полещук, 2024
© Елена Морозова, дизайн обложки, 2024
© Артём Полещук, иллюстрации, 2024
ISBN 978-5-0062-5815-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВСЁ ДЕЛО В ПОДРОБНОСТЯХ
Профессию имеют все, но далеко не каждый становится профессионалом. Иногда в том просто нет необходимости. Жизненный успех приносит не столько профессиональная подготовка или усердие, сколько обретение статуса, не обязательно соответствующего специальности, способностям и опыту. Так было всегда – в известной мере, конечно. Но в последние десятилетия «известная мера» явно подросла, о чём свидетельствуют неожиданные перевоплощения журналистов в политологов, историков, культурологов, экспертов по экономике и даже в управленцев государственного масштаба.
В годы моей молодости профессия журналиста была редкой и почитаемой (престижной, если угодно). Состоять в журналистском сообществе считалось честью, а само название профессии произносилось с уважительной интонацией: «Он журналист. Печатается в газетах». Я долго не решался именовать себя таким заоблачным титулом, хотя стал сотрудником редакции в семнадцать лет. Наверное, сейчас это выглядело бы смешно.
В мои зрелые годы, когда племя журналистов значительно разрослось, обозначились признаки девальвации профессии. По мере погружения в будничную работу редел и тускнел романтический флёр, окружавший миссию журналиста. Да и редакционная кухня не всегда радовала чистотой. Тем не менее я не сожалел о своём выборе. А запись в дипломе, членский билет Союза журналистов СССР и растущий стаж работы в печати молчаливо подтверждали право на высокое звание.
В XXI веке журналистика стала профессией массовой и многоликой, охватила традиционные СМИ и виртуальное информационное поле. «Вездесущая пресса», «Четвёртая власть», «Фабрика мифов», «Вторая древнейшая» – это всё она. Те, кому выпало в зрелые годы стать свидетелями рождения новой журналистики, с недоверием присматриваются к ней, часто порицают за моральную неразборчивость, пренебрежение традициями правдоискательства и просветительства. И я снова стал ощущать психологическое неудобство, представляясь журналистом: как будто становишься в один ряд с теми, кого называют . А ведь честных, талантливых журналистов и теперь немало. журналюгами
Что же это за профессия – журналистика, что ты делал и что успел сделать в ней? Чтобы разобраться, надо заглянуть в прошлое , как учили древние. без гнева и пристрастия
Сложность в том, что прошлое давно не с нами, а то, что мы считаем прошлым, похоже на фотографические отпечатки после компьютерной обработки. Что-то удаляется, что-то подкрашивается, а что-то вообще дорисовывается. К счастью, я сберёг рабочие блокноты, личные записные книжки, письма, документы, фотографии, газетные вырезки и выпуски журналов. Они сохранили гул времени и образы людей – тех, которые наставляли на верный путь, с которыми дружил, вместе работал или просто был знаком. Людей не обязательно «звёздных», но неординарных, умелых и честных в своём деле. Их мысли и поступки вплетены в ткань эпохи, а взгляд различал детали, недоступные взгляду с высоты.
Профессиональный опыт неделим, его невозможно разрезать на куски, соответствующие историческим периодам, однако можно осмыслить и оценить, вспомнив подробности. Ведь именно из подробностей соткана наша жизнь; именно подробности образуют неповторимый рисунок нашей судьбы.
Судьба, если представить её внешней, действующей по каким-то таинственным законам силой, исправно вела меня по ступеням профессии. В череде моих безболезненных перемещений можно увидеть нечто мистическое, однако гордыня не принимает столь простое толкование. Годы, проведённые в шлифовке ума и ремесла, в размышлениях и путешествиях, в творческих исканиях и общении с людьми, в познании себя и открытии миров, – прекрасны и незабываемы.
Следовать судьбе – вовсе не значит трепетно ожидать её благодеяний и терпеливо сносить оплеухи. Напротив, надо понять себя, избрать свой путь, постоянно работать и пополнять интеллектуальный багаж, чтобы самому построить свою жизнь наилучшим образом. Тогда можно будет сказать, что твоя жизнь и есть твоя судьба.
У судьбы два измерения – время и пространство. Время растекается и застывает на обитаемом пространстве, и памятные вехи, которые когда-то много значили для тебя, для твоего журналистского опыта, отдаляются, тускнеют. Хочется их разглядеть, однако погружение в прошлое может разочаровать:
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Если даже пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
И всё же я, вопреки предостережению поэта Геннадия Шпаликова, отправляюсь в путешествие по местам профессии, где случились истории, оставившие след в памяти и слове…
НЕЗНАМЕНИТАЯ ОКРАИНА
Странное ощущение не оставляло меня в те осенние дни 2005 года. Как будто в прежних, чуть обновлённых декорациях разыгрывалась новая пьеса с незнакомыми актёрами. Я узнавал улицы, переулки и здания, вспоминал очертания снесённых строений, но из прохожих не узнавал никого, сколько ни всматривался в лица мужчин и женщин, внешне смахивающих на сверстников. И они проходили мимо, не проявляя даже малого интереса к моей персоне. Вспомнились горькие слова Виктора Лихоносова: «Если хочешь почувствовать, как прошла твоя жизнь, навести свою родину, узнай со скорбью, как мало помнят тебя».
Постоял у нашего дома по улице Мира, построенного в 1955 году. Он чуть скособочился и обзавёлся надстройкой, но знакомые ставни и наличники по-прежнему безмятежно голубели на фоне потемневших стен.
Мысленно попрощавшись с родным гнездом (оказалось, что навсегда: теперь того дома уже нет), отправился привычным путём по Московской на Советскую, повернул направо и, пройдя три квартала, оказался перед бревенчатым особнячком дореволюционной постройки с четырьмя окнами по фасаду и высоким крыльцом под полукруглым жестяным козырьком.
Когда-то вывеска у дверей извещала, что здесь располагается редакция районной газеты «Трудовое знамя». Её давно сняли, потому что редакция переехала в современное здание, а дом передали в городской жилой фонд.
Типография же осталась на прежнем месте, за углом в переулке. Оттуда слышались бодрые звуки производственного процесса. Как раньше…
Работа над ошибками
Призыв судьбы отнюдь не напоминал бетховенские громовые раскаты. Скрипучим голосом пожилой женщины в ватнике и стоптанных кирзовых сапогах судьба объявила, что меня вызывают в редакцию. «Зачем?» – «Почём я знаю? Сказывали быть завтре к четырём».
Так я впервые оказался в особнячке на Советской, 39. Этому событию предшествовал следующий случай. Я встретил на улице школьную учительницу английского языка Марину Григорьевну, у которой пребывал в любимчиках. Узнав о том, что серебряный медалист, потерпев неудачу на вступительных экзаменах в институт, сколачивает тарные ящики в столярном цехе завода, она заохала и озаботилась моим будущим. И вот муж Марины Григорьевны, заместитель редактора районной газеты Александр Фёдорович Поздняков, посылает за мной редакционную уборщицу Фросю. На следующий день он представляет меня редактору Николаю Фадеевичу Иваненко, а тот предлагает работу в редакции.
Поразмыслив и посоветовавшись дома, я согласился. И 5 ноября 1958 года Иваненко назначил меня литературным сотрудником Петуховской районной газеты «Трудовое знамя» Курганской области с окладом 550 рублей в месяц (в январе 1961 года денежная реформа ликвидировала нолик).
Литературный сотрудник поставлял в газету статьи и заметки. Но мои служебные обязанности оказались гораздо скромнее: я стал подчитчиком, то есть помощником корректора Нины Сидоровны Грушецкой. Такая специальность в государственном реестре давно не значится, но в ту пору обойтись без подчитчика в издательском деле было невозможно.
Со времён Гутенберга и почти до середины XX века книги, газеты и журналы набирали в типографиях вручную, используя свинцовые и деревянные литеры, из которых состояли шрифты разного начертания и кегля. Ручной набор господствовал и в нашей районной типографии до начала 60-х годов, когда там смонтировали наборную машину – линотип. Однако редакционный процесс и после этого почти не изменился.
Каждый материал (так я называю любой текст, предназначенный для публикации или опубликованный) до появления на газетной полосе неоднократно трансформировался. Сотрудник редакции создавал своё произведение при помощи ручки и чернил, нёс его машинистке, потом вычитывал и сдавал редактору. Тот мог сделать в нём существенную правку и даже отдать на перепечатку. Собрав запланированные в очередной номер оригиналы, ответственный секретарь размечал шрифты, вычерчивал макет и тащил весь этот ворох бумаг в типографию. Там наборщицы, приколов оригиналы шилом к реалу (деревянному наборному столу) и мельком заглядывая в текст, быстро выхватывали из ячеек наборной кассы нужные литеры и составляли из них в металлическом пенале (верстатке) строчки, из строчек – абзацы, из абзацев – будущую заметку или статью.
После этого наступал час корректуры. Оригиналы и гранки – узкие полоски бумаги с оттиснутым текстом – поступали на наш рабочий стол в жирных пятнах типографской краски и в дырках от шила. Мне нравился их боевой вид. Я размеренно читал вслух машинопись (отсюда и название должности – подчитчик), а Нина Сидоровна, вооружившись ручкой, внимательно следила по гранкам, соответствует ли набор оригиналу, не наделали ли ошибок наборщицы, имевшие привычку во время работы громко судачить о чём попало. Потом мы делали сверку внесённой правки и вторую корректуру, авторы вычитывали свои материалы, а дежурный редактор – все четыре полосы. На исходе дня номер в виде двух тяжёлых свинцовых блоков-разворотов уходил в немецкую печатную машину с огромным маховым колесом. Если вдруг прекращалась подача электричества, печатнице приходилось браться за рукоять и крутить колесо, чтобы привести машину в действие. Ведь тираж (3 000 экземпляров) к утру непременно должен быть отпечатан и подготовлен к экспедированию.
Понятно, что на каждом этапе материал поджидала опасность: в нём могла материализоваться фактическая, грамматическая или «глазная» ошибка. Редактор неустанно добивался их полного искоренения. Так рачительный огородник очищает свои грядки от сорняков. Но в данном случае более уместно другое сравнение: наверное, ошибки представлялись Николаю Фадеевичу, служившему в послевоенные годы оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом, чем-то вроде опасных преступников или даже диверсантов. Поэтому он и усилил корректорскую службу, пожертвовав ставкой литсотрудника для подчитчика.
в свежем номере газеты, о котором обычно сообщал редактору какой-нибудь доброжелатель, становился предметом разбирательства на планёрке. Даже если это была орфографическая или «глазная» ошибка, редактор дотошно выяснял, кто и почему допустил брак, после чего устраивал виновным головомойку, грозил карами и требовал «усилить контроль». Если же ошибка оказывалась более серьёзной (например, путаница в фамилиях, цифрах, фактах), то виновным объявлялось взыскание; бывало и так, что в очередном номере приходилось публиковать извинительную поправку, набранную мелким шрифтом. Ляп
Ответственный секретарь Сергей Михайлович Буров, в 40-е годы служивший редактором «Трудового знамени» (газета называлась тогда «Сталинский путь»), делился со мной воспоминаниями о суровых временах, когда одна неверная буковка в слове могла стоить виновному свободы. Однажды он вполголоса назвал самые опасные из «политических» слов – и , где второпях можно было не заметить пропущенную при наборе «р». Ленинград Сталинград
Полученный в молодости заряд бдительности Буров сохранил на всю жизнь. Он придирчиво сопоставлял расположенные рядом на газетной полосе заголовки: не возникает ли на стыке нежелательный политический смысл или комический эффект? Обязательно прочитывал по вертикали первые буквы стихотворных строк: не составляют ли они акростих непотребного или провокационного характера? (Рассказывали, что в одной районной газете прошляпили акростих ХРУЩЁВ БАНДИТ.) И даже просматривал газету на свет, опасаясь, что какой-нибудь важный фотоснимок окажется перерезанным неподходящим заголовком, расположенным на обратной стороне страницы.
Эпоха ручного типографского набора продолжалась пять столетий, а переход с машинного набора на компьютерный совершился стремительно, буквально на глазах. Издательское дело не просто изменилось, а стало принципиально иным. Цифровые технологии преобразили работу редактора и корреспондента, сблизив её с полиграфическим производством. Типографиям стали не нужны наборщики и линотиписты, редакциям и издательствам – машинистки и подчитчики. Некоторые издатели из экономии обходятся и без корректора, уповая на грамотность автора и бдительность туповатого компьютерного подсказчика. Поэтому в газетных и журнальных статьях и даже в серьёзных книгах то и дело натыкаешься на ошибки и опечатки. Правда, к ним теперь относятся снисходительно.
В свободные от вычитки дни (газета выходила три раза в неделю) я обычно сидел за ничейным столом в отделе писем. Почитывал центральную и областную прессу, листал газеты, присланные по взаимному обмену из соседних районов. Одинаковыми словами воспевали успехи и вскрывали недочёты в работе колхозов и совхозов; призывали читателей встать на трудовую вахту в честь какого-нибудь события; объявляли о начале очередной политической или хозяйственной кампании; печатали рассказы передовых тружеников о своём производственном опыте и портреты самих тружеников, напряжённо глядящих в объектив фотоаппарата. районки
Ничем особенным не выделялась и наша газета. Заведующий сельхозотделом редакции Юрий Захаров и литсотрудник Александр Биисов ежедневно собирали по телефону вести с полей и ферм. Без телефонной связи издавать газету было бы невозможно. Редакция не имела своего транспорта, а район не имел автобусного сообщения. Не было смысла добираться на перекладных до какого-нибудь отдалённого села, а потом дожидаться там обратной попутки, чтобы привезти для газеты обычную информационную заметку. Другое дело, если кто-нибудь из руководящих работников выезжал на «газике» в район по своим делам: он мог прихватить с собой и корреспондента.
Производственная тематика преобладала, но не исчерпывала всего содержания газеты. Поздняков вёл рубрику «Партийная жизнь», писал фельетоны, подбирал стихи местных творцов для «Литературной страницы». Заведующий и единственный сотрудник отдела писем Михаил Омельченко занимался проверкой и подготовкой к печати писем читателей, а также освещал жизнь города. Рубрики «Меры приняты» и «По следам наших выступлений» свидетельствовали о действенности печатного слова. Приятное разнообразие придавали газетным полосам корреспонденции о районной художественной самодеятельности, о жизни сельскохозяйственного техникума и средней школы, о хороших людях, заслуживших делами уважение земляков.
Сотрудникам «Трудового знамени» приходилось поставлять в газету и так называемые материалы за подписью специалистов и рядовых тружеников. Надо было поговорить с нужным человеком, набросать в блокноте конспект его рассказа (до диктофонов было ещё ой как далеко!), а потом соорудить текст за его подписью и – в идеале – согласовать с будущим автором хотя бы по телефону. В советских газетах неукоснительно соблюдалось правило «60/40». Согласно этому правилу, 60 процентов гонорарного фонда должно было расходоваться на оплату материалов нештатных авторов и только 40 процентов предназначалось для штатных. Примерно таким же было и соотношение объёмов опубликованных материалов, что должно было подтверждать: советская газета – это трибуна масс, а не рупор узкой группы журналистов. организованные
Насмотревшись, как легко коллеги ваяют материалы для газеты, я подумал: отчего бы и мне не попробовать? Поделился своим намерением с Поздняковым; он посоветовал написать о том, как встречают 1959 год труженики птицекомбината. Я побывал у директора, прошёлся по цехам и заполнил цифрами, фамилиями и специфической терминологией обработчиков куриных тушек едва не половину блокнота. Все, с кем я разговаривал, охотно и с уважением к представителю прессы рассказывали о своей работе, и мне это понравилось.
В редакции я быстро изложил свои впечатления на бумаге и отдал машинистке. Две восторженные страницы с трепетом отнёс редактору. Через короткое время Николай Фадеич вызвал меня и вернул безжалостно исчёрканные странички, велев перепечатать.
Такого позора я не переживал никогда раньше. За школьные сочинения получал не ниже «четвёрки», да и то из-за какой-нибудь жалкой запятой. Иной бы неудавшийся опус и на том прекратил свои творческие притязания. Но на столь простое решение я не имел права, поскольку пообещал работникам птицекомбината, что о них будет статья в газете. Или мной руководило провидение? Так или иначе, но я с пламенеющими щеками отправился к машинистке. корзинировал
От двух моих страниц осталось меньше одной, и в таком виде заметка была опубликована. Её заголовок, придуманный редактором, мог бы дожить до конца восьмидесятых: «Птицекомбинат на пути перестройки». А под заметкой красовалась моя фамилия! Потом она появилась в газете ещё раз, другой, третий… И настал день, когда редактор не поправил в моей заметке ни единого слова и написал в верхнем левом углу листа замечательную резолюцию: «В набор».
Cладковатый дурман славы районного масштаба с примесью запаха типографской краски и ежемесячный гонорар в размере трёх-четырёх рублей постепенно отравляли мою невинную душу. И весной (когда же ещё!) 1959 года я совершил главный поступок: отправил документы в Свердловск, на заочное отделение факультета журналистики Уральского государственного университета (УрГУ). 1
Мне пришлось поступать на заочное отделение, поскольку на очное брали только тех, у кого за плечами был двухгодичный трудовой стаж или служба в армии. Видимо, кто-то решил, что будущему журналисту следует поближе познакомиться с жизнью, прежде чем браться за перо. Вроде бы благая затея в конце концов не оправдала себя: среди студентов стало расти число обладателей «хорошей» биографии, не очень способных к журналистской работе, и через несколько лет прежний порядок приёма восстановили. Правда, теперь сетуют на инфантильность мальчиков и девочек, вылетающих в жизнь из журфаковского гнезда, не зная, как эта жизнь устроена.
Слушая лекции во время установочной сессии, я пребывал в состоянии эйфории оттого, что почувствовал себя в своей стихии. На языке психологов этот момент называется самоидентификацией личности.
Таким образом, не я искал журналистику – она сама меня нашла. Произошло в точности то, что остроумно описано чешским писателем Карелом Чапеком в очерке «Как делается газета»:
Журналистом человек становится обычно после того, как он по молодости и неопытности напишет что-нибудь в газету. К немалому его изумлению, заметку печатают, а когда он приносит вторую, человек в белом халате (халаты, по утверждению Чапека, были рабочей одеждой тех сотрудников, которые вели сидячий образ жизни за редакционными столами, иными словами – редакторов. – А.П.) говорит ему: «Напишите нам что-нибудь ещё». Таким образом, в большинстве случаев человек становится журналистом в результате совращения; я не знаю никого, кто с детства тянулся бы к журналистике. Каждый журналист в детстве, наверное, мечтал стать машинистом, моряком или владельцем карусели, но получается как-то так, что мечты его не сбываются, и он попадает за редакционный стол.
Осколок зеркала на дороге истории
Взрослея, человек наращивает и развивает опыт детских и юношеских лет, когда он жадно постигал устройство подлунного мира и осознавал своё место в нём. Взгляды и оценки меняются, пересматриваются – это неизбежно. Но невозможно до конца выжечь в себе то, что впитала в раннем возрасте душа, что-то всё равно остаётся. Из себя не выпрыгнешь.
Человека можно сравнить с лежащим на дороге осколком зеркала, в котором отражается ход мировой истории. Не уверен, что эта мысль – моё собственное изобретение, но она мне близка. Я – дитя страны под названием Советский Союз, живой продукт конфликтов и сотрясений XX века. Пожалуй, в первую очередь следует назвать Октябрьскую революцию. Однажды меня осенила эгоистическая мысль: революцию стоило затевать хотя бы для того, чтобы мне появиться на свет. К такому выводу, как ни покажется он кому-то нелепым и даже циничным, ведут следующие цепочки очевидных фактов и неопровержимых суждений.
Начать следует с того, что до революции мой дед Антон Никодимович Савранский и бабушка Ксения Васильевна имели хорошее хозяйство в украинском селе Данилова Балка, входившем в Балтский повят Подольской губернии. (Ныне село относится к Кропивницкой, в недавнем прошлом Кировоградской, области Украины.) Там родились их дети. Если бы не произошла революция или если бы в гражданской войне не победили красные, то Савранские так и продолжали бы крестьянствовать в Даниловой Балке. Со временем выдали бы дочь Анну за какого-нибудь чубатого хлопца или же за старого холостяка из зажиточной семьи. Словом, при таком раскладе у меня были бы нулевые перспективы. У Анны Антоновны родился бы не я, а какой-нибудь другой ребёнок с неясной судьбой, если принять во внимание неминуемое немецкое нашествие.
Но вот в соответствии с неумолимой логикой строительства социализма началась коллективизация. Савранские считались крестьянами-середняками, однако в суматохе классовой борьбы с таким мнением кое-кто мог и не согласиться. Поэтому они сочли разумным продать дом и отправиться в Сибирь по собственному желанию, захватив швейную машину «Зингер», прялку и сундук с пожитками. Савранских было четверо: Антон Никодимович, Ксения Васильевна, дочь Анна и сын Фёдор. Сибирское районное село Юдино стало их пристанищем не случайно: здесь жил родной брат Антона – Денис, служивший с дореволюционных лет билетным кассиром на ближайшей железнодорожной станции Петухово. Почему он там оказался – не знаю.
Савранские купили в Юдино небольшой дом, завели хозяйство. Антон Никодимович работает, Ксения Васильевна – домохозяйка. Анне 16 лет, Фёдору 12. Анну, окончившую семилетку, отправляют в Омск, в медицинский техникум. Сохранилась её выпускная фотография: два десятка девушек, получивших специальность «фельдшер-акушерка». Среди них моя будущая мать. Распределение – в село Новая Заимка Тюменской области – в то время Омской.
Теперь возьмём другую линию, отцовскую. Если бы не произошла революция или если бы Колчак разгромил Красную армию, мой второй дед Илья Ефимович Полещук, выпускник Омской духовной семинарии, наверное, так бы и учительствовал в сельской школе. Возможно, поднялся бы по служебной лестнице, переехал в уездный город Ялуторовск, и тогда его сын Александр, 1912 года рождения (один из шестерых детей Ильи Ефимовича и его жены, крестьянки Евдокии Кузьмовны), не стал бы моим отцом. Наверное, женился бы на какой-нибудь ялуторовской мещанке, и на свет появился ребёнок, быть может, похожий на меня и вполне достойный человек, но всё-таки не я, не я… Как это было бы обидно!
Александр, сын Ильи Ефимовича и Евдокии Кузьмовны, после окончания семи классов школы крестьянской молодёжи работал в Новой Заимке колхозным счетоводом. Отслужив срочную, остался в армии, окончил командирские курсы.
И вот красный командир приезжает на побывку в Новую Заимку, знакомится там с Анной Савранской… Свадьбе предшествует довольно длительный период ухаживаний и переписки. В 1940 году молодая семья уезжает в Забайкалье, к местуслужбы Александра Ильича. Городок в суровом пустынном краю на границе с Монголией мог стать моей малой родиной, но предусмотрительный техник-интендант первого ранга отправил беременную жену к её родителям в Юдино.
Таков ход событий, который неизбежно вёл и привёл к моему рождению. Не будь их, у меня не было бы никаких шансов. Пускай моя жизнь ничем не лучше жизней тех, кто из-за всевозможных катаклизмов не появился на свет. Но ведь это моя жизнь, моя судьба, и с этим нельзя не считаться.
Я родился 12 мая 1941 года, а в июне 16-ю армию, где служил по финансовой части отец, начали спешно перебрасывать в Киевский особый военный округ. Генштаб планировал создать на западе вторую стратегическую линию войск. В случае начала военных действий против нашей страны 26 дивизий, выдвинутых из внутренних округов, должны были стать резервом фронтов. Не исключено, что воинский эшелон проследовал через станцию Петухово, но сообщить об этом жене Александр Ильич не мог, поскольку передвижение частей Красной Армии шло в условиях строжайшей секретности. (Данный факт при желании можно легко вписать в одиозную версию подготовки сталинского превентивного удара по Германии, выдвигаемую некоторыми нашими и не нашими историками.)
Отец остался в моей детской памяти фотоснимком, приколотым кнопкой в простенке между окнами: молодой военный в гимнастёрке с аккуратно подшитым подворотничком, треугольники в петлицах, значки «ГТО» на груди. Последнее его письмо, отправленное из-под Вязьмы (16-я армия не успела к новому месту дислокации), датировано октябрём сорок первого года, а «похоронка» – мартом 1945-го. Три с половиной года молчания. Мать продолжала ждать чудесного возвращения отца и замуж больше не вышла.
Родившихся с 1928 по 1945 год мальчиков и девочек сейчас именуют . Действительно, нет людей более близких, чем мы, по крови и душевной привязанности к участникам войны – живым или мёртвым. Война, унёсшая или опалившая огнём отцов у моих сверстников и сверстниц, была нашим главным и бескомпромиссным воспитателем. Мы знали, что Родина – это не просто слово из учебника. Это наша страна, её могущество и красота, история и культура, язык и народ, герои и вожди. Это нечто реальное, очерченное границами, и в то же время отчасти мистическое, эмоционально ощущаемое, отражённое в словах, которые теперь принято называть пафосными, – . детьми войны родная земля, родимая сторонка, отчий дом
По мере взросления приходило понимание того, что героическая ипостась войны не составляет её полной картины. Танкист Ольгерд Иванович Ермак, преподаватель военного дела (был такой предмет в программе старших классов), рассказывал, как после боя очищал гусеницы от комков человеческой плоти и земли. Я представил себе эту картину. «То могли быть и наши», – обожгла меня догадка.
По дороге с бабушкой на Украину в 1951 году я впервые увидел на перронах крупных станций инвалидов войны с медалями на пыльных пиджаках – слепых, безруких, безногих – на тележках с колёсиками-шарикоподшипниками и одноногих – на тяжёлых деревянных протезах. Хриплыми голосами они кричали под пиликанье гармони «Раскинулось море широко», «На сопках Манчжурии», «Огонёк». Пассажиры одаривали их деньгами, папиросами и домашними припасами.
За Ульяновкой, украинским селом, где жил бабушкин племянник, почти каждый день ухали взрывы – там обезвреживали бомбы, мины и снаряды, оставшиеся с войны. Жителям запрещали ходить по опасным местам, но мальчишки всё равно рыскали по левадам и балкам, подрывались и калечились.
Газеты и радио рассказывали, как борются с асражаются с. Журнал «Крокодил» печатал карикатуры: длинный Дядя Сэм с козлиной бородой размахивает атомной бомбой, жирный Черчилль сигарой поджигает бочку с порохом, американский солдат в тяжёлых ботинках поднимает на штык корейского ребёнка. В Корее воевали американцы, во Вьетнаме – французы. силы мира и прогресса поджигателями новой войны, свободолюбивые народы колонизаторами и угнетателями
У нас в кладовке хранился запас самого необходимого на случай войны с Америкой: ларь с пшеницей, сундук с мылом, солью, сахаром, стеариновыми свечами и спичками.
Таков был контекст взросления детей войны, или, если угодно, поколения. патриотическое воспитание
По окончании 4 класса я получил первую в жизни награду – «Похвальный лист» с овальными портретами Ленина и Сталина по углам. Ленин, в пиджаке и галстуке в горошек, и Сталин, в маршальском мундире, молчаливо подтверждали, что – дело государственное, а не личное. овладение знаниями
В основе школьного воспитательного процесса лежала коммунистическая идеология, а её человеческим олицетворением были два вождя. Однако в этой паре Ленин представлял собой фигуру почти легендарную, книжную. Он совершил великую революцию, но давно умер, а Сталин, его верный ученик и соратник, построил социализм, победил Гитлера и ведёт народ к коммунизму. Примерно такой была схема моего восприятия Сталина.
Я привык к тому, что ОН есть, и такая простая мысль, что ЕГО может и не быть, что ОН, как и все люди, смертен, не приходила в голову.
Отчётливо помню то утро, когда, проснувшись, услышал от матери: «Сталин умер». Радио всё время повторяло правительственное сообщение, играла траурная музыка. Не зная, что сказать, я стал молча собираться в школу.
По случаю смерти вождя в школе состоялась траурная линейка. В день похорон в назначенное время долго и тревожно завывали гудки.
Летом, приехав в Москву, мы с матерью отстояли длиннющую очередь, чтобы попасть в Мавзолей, на фронтоне которого сияли золотом два имени: ЛЕНИН СТАЛИН.
А через три года на школьном комсомольском собрании директор школы Дмитрий Афанасьевич Рябов пересказал нам доклад Хрущёва «О культе личности и его последствиях». К тому времени высокопарные эпитеты, всегда сопровождавшие имя Сталина, незаметно сошли на нет, но его портреты и цитаты по-прежнему присутствовали в учебниках.
Прошло ещё шесть лет, и Сталина тайно удалили из Мавзолея и похоронили рядом в землю. Культ кончился, Сталин как будто ушёл в историю. Однако его личность и дела продолжают будоражить умы и возбуждать страстные споры даже в XXI веке…
Говорят, что советская школа вколачивала в головы учащихся истины в последней инстанции. Но ведь базовое образование и должно опираться именно на основополагающие законы природы, на выводы науки и принятые в обществе нормы и ценности. Ведь никому не приходит в голову вводить варианты написания русских слов на том основании, что существует намеренно искажённый язык, используемый нашими молодыми современниками в социальных сетях.