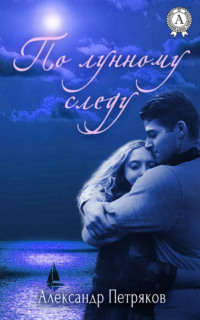Read the book: «По лунному следу»
Дом на болоте
В канун Нового года я предложил Андрюше, своему приятелю и сослуживцу, отметить праздник в дедовском доме на болоте. Он согласился. Я хотел пригласить также свою новую знакомую, красивую и на редкость молчаливую особу, правда, с ней я об этом не говорил, но думал, что она не откажется.
Подготовкой к походу занимался в основном Андрей. Купил ящик хорошего портвейна, шампанского пару «для дамочки» моей, как он изъяснился, тушенки дюжину банок, цыплят, баранины для шашлыков, соленых огурцов и прочего всякого, вроде шпрот и колбасы. Я ему не мешал, целиком, по обыкновению, на него полагаясь.
С Ниной мы договорились быстро, вернее я ей об этом сказал полувопросительно, а она просто кивнула головой. Очень странная девушка. В глаза смотрит и ничего не говорит, кроме как «нет» или «да». И ничего не позволяет. Тихо так ладошку перед собой выставит, а уж тут ты беспомощен. Ну, да ладно, думал я, вот в Новый год посмотрим, может и разговорится. Лицо у нее милое и задумчивое, а фигура, на мой взгляд, безупречна.
Ладно, к делу. Стало быть, дедушкин дом стоял на болоте. Весной или осенью к нему только на лодке или плоту и можно добраться, зимой же хорошо – по льду. Километров этак с десять надо шагать от станции. Вот мы и шагали. С рюкзаками за спиной. Андрей целый час, что мы ехали в электричке, с большим интересом смотрел на Нину, он ее в первый раз видел, и все пытался завязать с ней беседу. Она, как обычно, молчала или односложно отвечала, а я ухмылялся. Когда мы вышли в тамбур покурить, он стал намекать, что не прочь за ней приударить. Я был категоричен:
– Надо было Катеньку свою с собой брать, а на Нину пялиться нечего, у меня на нее серьезные виды.
– Что, уж не жениться ли надумал?
Я пожал плечами.
Итак, мы приехали на маленькую станцию, взвалили на плечи тяжелые рюкзаки и потащились сначала по ледяной колдобистой дороге, потом по узенькой и мокрой тропинке: болото еще не совсем промерзло, поэтому иногда вода хлюпала под ногами.
Мы прошли уже половину пути, как вдруг Андрей, ни с того, ни с сего стал браниться, называть меня фиговым другом. Я попытался его урезонить, но он сказал, что наши пути-дорожки тут вот и разошлись, и с этими словами повернул обратно. Я, сбросив свой рюкзак на лед, побежал за ним, пытался уговорить остаться, но он, приняв воинственную позу, крикнул, чтобы лучше я к нему и не подходил. Так и ушел. Нина созерцала нашу ссору бесстрастно и молча.
Мы остались вдвоем. До места было уже не так далеко, и мы вскоре туда добрались. Дом был расположен на небольшом возвышении среди простиравшихся на десятки километров болот, стоял на сваях, потому что весной кругом все заливало, и выглядел достаточно странно: низкое и длинное строение с узкой круглой башенкой из поставленных вертикально толстых бревен.
Внутри дома бревна отесаны и не оклеены, мебель старая, неудобная. Дед мой занимался биологией. Курс университетский он закончил как раз в семнадцатом году, примкнул к меньшевикам (ошибся), был за это наказан, а потом тут, на болоте, препарируя лягушек, более или менее реабилитировал себя научными открытиями. Кабинетик его и лаборатория отделены от дома узким мосточком, который он на время сна и работы поднимал, чтобы жена не приходила и не мешала разговорами. У бабушки и вправду была способность говорить, не умолкая.
Нина, войдя в избу, немного растерялась. Я ничего не спрашивал, зная, что ответа не будет, а она села на стул и уставилась в окно. Я стал развязывать рюкзак, и когда развязал, рассмеялся. В рюкзаке, который я нес, лежали только бутылки с портвейном и шампанским. Еды никакой. Оказывается, любезный мой приятель Андрюша положил в один рюкзак спиртное, в другой – съестное. Нина проверила и, ничего не найдя из еды, посмотрела на меня строго. Я стал приводить всякие сведения насчет высокой калорийности спиртного и пообещал завтра с утра сходить за едой на станцию.
Было уже три часа, скоро начнет темнеть, поэтому я быстренько побежал на двор наколоть дров. Девушка тем временем по-прежнему сидела и молчала. Желая чем-нибудь ее занять, я попросил подмести пол. Она скинула шубку и осталась в джинсиках цвета хаки и свитерке синеньком – все на ней было приятно глазу. Не долго думая, сбегала к колодцу за водой, отыскала тряпку и вымыла в избе пол.
Пройдя по мостку, она подергала дверь дедушкиной лаборатории и спросила, что там. Я ответил, что нам туда заходить не стоит, там помещение служебное, и рассказал немного про деда.
Строгие времена, очевидцем и до некоторой степени участником он был, являли сутью своей некую негативность, проще было бы сказать, революционное отрицание устоявшихся, окаменевших политических, нравственных и культурных форм. Он прекрасно понимал условность ломки, но полученное воспитание в сочетании с университетским образованием не позволяли достаточно критически и с должной иронией отнестись ко всему этому, а противление и последовавшее наказание упрочили фаталистический уклон мыслей с отпечатанным в сознании знаком обреченности. Нельзя сказать, что страдал он понапрасну, хотя его и преследовали в старости печальные сомнения о результатах своей жизни.
В условном пространстве бытия он сумел кое-как выстроить подобие семейного очага, в тепле которого и вырос мой отец. Дом этот выстроил сразу, как только появилась такая возможность.
– Как видишь, и маленькую лабораторию предусмотрел, где потрошил лягушек и собак. С лягушками совсем просто – тьма, дом-то на болоте, а с собаками было сложней…
Нина заинтересовалась и попросила показать лабораторию. Я сходил за ключом. Ничего тут не сохранилось, только два длинных стола, сколоченных самим дедом, да кое-какая уцелевшая посуда: колбы, мензурки, пробирки. Прилипший к клеенке и совершенно заржавевший буро-коричневый скальпель привлек внимание Нины, она осторожно взяла его и стала пальцем счищать с него ржавчину.
Меня биология никогда не интересовала, я стал инженером по кибернетической части, как выражался мой покойный отец, который пошел по стопам деда и, пользуясь, в основном, неопубликованными его работами, создал себе имя и положение. Нина училась на биофаке, поэтому знала и слышала о моих предках достаточно. И я подумал, что в нашей семье биологи не переведутся, если я женюсь на ней. Честное слово, такое намерение у меня вдруг возникло почти как окончательное решение.
Время за разговорами приблизилось уже к вечеру, до Нового года оставались уже считанные часы, и я с улыбкой иронизировал по поводу «преизобильного» ужина. И все же не совсем было у меня спокойно на душе. Все думалось о каких-то неожиданностях, которые вот-вот придут, нагрянут, не успеешь опомниться, а они уже тут как тут, и ничего поделать будет невозможно.
Однако свечка горит на столе. У стола сидит Нина и смотрит в окно, совсем уже темное. Одиннадцатый час. Я приподнимаюсь с лавки и тихо говорю:
– Может, проводим старый год?
Она кивает головой, и я начинаю открывать бутылку с шампанским.
– Не надо, – говорит она, – оставим на полночь.
– Есть еще бутылка.
– Все равно.
Я не понимаю ее, но начинаю открывать другую, с портвейном. Она машет рукой, но я наливаю вино в дедушкины хрустальные фужеры. Мы выпиваем, и сразу же начинаю чувствоваться голод. Ужасно хочется есть. Знаю, что это пройдет уже после второго бокала, поэтому наливаю себе еще и мигом опрокидываю. Нина же смакует каждый глоток и смотрит в окно.
– Что ты интересного в этой тьме высматриваешь? Думаешь, придет Андрюша? Он сюда дороги не знает, а если пошел за нами следом, значит, заблудился.
– Нет.
– Что нет?
– Ничего не думаю.
– А ты можешь сказать пять слов сразу?
– Да: мужчина, собака, дом, вино, свеча…
– А где собака?
Она вновь машет рукой, и я умолкаю. Думаю, при чем тут собака? Молчу тоже.
Уж скоро полночь, приемник передает поздравительную речь советскому народу. Беру за горлышко бутылку с шампанским и начинаю раскручивать проволоку.
– Рано еще, – говорит Нина.
– Разве? – переспрашиваю, как идиот, и думаю, саданет сейчас пробка из-под моей руки, уже наполовину распутанная, или нет, и чувствую, как неудержимо она лезет.
– Подставляй, – говорю, – сейчас хлопнет, я ее уже распутал.
До Нового года еще минуты три, а мы уже чокнулись и пьем холодное вино. Бьют куранты. Новый год! Поздравляю, Нина, и так далее. А у нее лицо, как всегда каменное и ни звука в ответ. Наливаю тогда себе еще шампанского, выпиваю залпом, потом – портвейна, и тоже залпом, два раза подряд. Вот теперь посмотрим.
Собственно, мне как-то не по себе, и куда я смотреть собираюсь после четырех бокалов залпом? Смотрю, впрочем, на нее, а она уже преобразилась: лицо порозовело от вина, рука гладит красивое круглое колено.
– Я тебе нравлюсь? – вдруг спрашивает она.
– Сама догадайся.
– Давно догадалась, только очень есть хочется.
– Увы.
– Поговори со мной, расскажи что-нибудь.
– О чем? О многом, сама понимаешь, можно порассказать.
– О дедушке, например.
– Что дедушка… Хороший ученый, говорят, и человек был неплохой, я-то его мало помню, вот отца хорошо знаю и…
– Папочка твой, извини меня, хоть и академик, а все же не чета дедушке.
– Почему ты так думаешь? Я, впрочем, того же мнения, даже, может, и посерьезней, чем «не чета». Я, знаешь, очень его не любил. До полного, можно сказать, отрицания. Мне все в нем было ненавистно до омерзения: обрюзгшее красное лицо, толстый живот, и я всегда удивлялся, как он его носил на своих тоненьких ножках; руки с жирными пальцами, грубый и в то же время писклявый голос, – словом все. Он отвечал мне тем же, причем, с самого раннего детства, подозревая, видимо, что я не его ребенок. Отец женился на молоденькой тогда еще матери, когда ему было за шестьдесят, и, похоже, ему не очень верилось, что я от его стараний зачат. Ну, да что теперь… Мать до сих пор дуется, когда его вспоминает, ведь ни копейки не оставил нам после смерти, все – детям от первой жены. А они из благородства, что ли, дом этот на болоте нам отдали. Смешно!
Ну, так об отце. Подробности. Говорят, он после смерти дедушки первым прискакал сюда, а дело было осенью. Как он добрался по трясине, трудно сказать, только оказался тут раньше других и клялся потом, что архив дед сжег, ничего, дескать, не осталось. Но только очень скоро после этого пошел в гору, гипотетические статьи подтверждались затем довольно быстро в его лаборатории точными и безукоризненными результатами экспериментов. Так, известно, научные открытия не делаются. Впрочем, ученым свойственна зависть, может, конечно, это досужие сплетни, я в вашей науке мало смыслю. Хотя всем известно, что после своего избрания в Академию он и вовсе перестал работать.
Это время я хорошо помню. Он целыми днями слонялся по квартире, приставал к матери с указаниями, как, например, варить суп, что туда класть и сколько, учил пылесосить. И всегда брюзжал, если что-то было не по нему. Меня он просто терроризировал. Когда мне было лет десять, я увлекся астрономией, сам сделал телескоп, врыл на дворе кусок стальной трубы, чтобы вставлять туда по ночам свой инструмент и наблюдать звезды. Телескоп он сломал и выбросил, трубу долго не трогал, потом сказал дворнику, чтобы выкопал, и ямку сам закопал.
Когда я, начитавшись фантастики, стал рисовать всякие неземные виды акварелью, а потом и маслом, потихоньку от всех, он таки выследил меня в сарае. Посмотрел на меня, улыбнулся и ушел. На другой день краски и картинки исчезли. Подозреваю, что сжег. Он ничем никогда со мной не занимался, говорил, что из меня ничего не выйдет, и советовал присматриваться к работе деда Юры, нашего дворника, иной раз сам совал мне в руки метлу и при этом посмеивался. Возненавидел я его после всего этого страшно. Не было на свете для меня человека хуже и противней, никого так не презирал, как его. Боже, какие только картины не рисовались в моей юной голове, какие казни и лютые смерти я ему придумывал! Вот, казалось мне, он идет по дороге, а его у обочины поджидают двое в широких шляпах и темных очках, и вежливо просят закурить. А он: да я не курю, а они ему раз по голове, и еще, и еще… Он лежит на земле, они шарят у него в карманах и говорят, что вот, мол, академик, а в кошельке всего-то три рубля. Или: лежит он на своей кровати, вокруг врачи суетятся, делают уколы, мать сидит рядом и утирает слезы, потом выходит ко мне за дверь и сообщает: все, мол, похоже, кончается. И теплая волна радости омывает мое сердце, оно стучит часто-часто неужели, думаю, и вправду, конец?
Но конец был не скоро. Умер он от инфаркта на восемьдесят первом году. Мне тогда было уже двадцать, учился на третьем курсе, домой приходил поздно, поэтому и не помню подробно своих ощущений, когда он умер. Помню только, что когда пришел к ночи домой, в квартире горел весь свет, все двери были открыты настежь, братья сидят в гостиной в креслах, мать – где-то в уголке на кухне с распухшим лицом. Стало страшно, и по телу пробежали мурашки. Рассматривая себя в зеркале – я почему-то остановился перед ним в прихожей и увидел в своих глазах что-то новое, раньше ничего подобного не замечал, – какой-то, похожий на чистоту беспамятства отстраненный свет, как будто в прозрачном провале своих глаз я прочел некую тайну… Длилось это только одно мгновение, потому что подошла наша домработница Маша и завесила зеркало прямо перед моим носом.
Я прошел на кухню к матери и спросил, когда и как это случилось. Она не смотрела на меня, сморкалась в большой клетчатый, вероятно отцов, платок и молчала. Я повторил вопрос, она после этого махнула рукой и попросила закрыть дверь. Рассказала о последних в этот день его причудах и конце. Лицо у него во время обеда стало вдруг красным, как помидор, покрылось пятнами, она ему об этом сказала. Его это так взбеленило, что он замахнулся на нее палкой, с которой в последнее время не расставался. Тут же упал. Перенесли в комнату на кровать, а когда пошли звонить врачу, он сполз на пол и стал рассуждать в полубеспамятстве о добре и зле. Врач пришел уже к мертвому. К чему я тебе это рассказываю? Тебе интересно?
Нина молчала и смотрела на огонь, красные языки бросали свет на ее лицо, и причудливые тени, мимолетные и разноцветные, играли на скулах, лбу и под глазами, являя то индийскую маску, то лик Снегурочки. Да, она молчала, я привык к этому, хотя чувствовал, что она рассказанному доверяет, вспоминая, может быть, и свое прошлое.
– Интересно, – сказала она после минутной паузы, – интересно…
Чувствуя, что снова настигает нас плотный ватный туман, где потеряемся, взял новую бутылку, открыл, налил по фужеру, и мы выпили. Я – сразу залпом до дна, она – мелкими глотками.
Я подошел к ней, взял из ее руки пустой фужер, поставил на стол, нагнулся к ней и поцеловал. А она, странное дело, – я ведь ждал совсем другого, – даже не подумала сопротивляться. Нами быстро овладевает желание, особенно в такие минуты, женщинам же чувство это знакомо постоянно, то есть я хочу сказать, они лучше и увереннее ориентируются в этой стихии. Впрочем, ни о чем подобном я в это время не думал, моя активность возобладала до нетерпения, боли и безумия, я чуть не задушил ее и оборвал пуговицы на ее светлом платье, в которое она переоделась к новогоднему ужину. Нельзя сказать, чтобы Нина была в эти минуты равнодушной, о, нет, я почувствовал ее страсть, но она вдруг выпрямилась, окаменела, выбросила как флаг узкую ладошку и сказала:
– Еще не время.
– А когда время? – Не понимая ничего и с трудом составляя фразу, спросил я.
– Время всегда, но всему – свое время. Вся ночь еще впереди, а в новогоднюю спать не полагается.
Я стал потихоньку остывать, и тело расслабилось.
– Ты знаешь, – сказала она, – вы, мужчины, так на нас не похожи, так мало в вас с нами общего, что мне всегда бывает удивительно, когда меня влечет к тебе или… Хотя, конечно, инстинкт, природа требует и так далее, но и природу сполна, как следует, понимаем только мы, женщины, и наша общность не чета вашей. Мы солидарны очень крепко. И все наши распри, несогласия, видимая нелюбовь друг к другу – внешнее. Внутри мы спаяны общей целью верного служения природе, понимая ее главную, и, может быть, единственную задачу постоянного обновления жизни. Мы служим ей, не даем возможности увянуть и зачахнуть…
Я рассмеялся:
– А мы, что же?
– Вы? Вы – средство, а не цель.
Я едва не захлебнулся от смеха:
– Неужели конечной целью создателя является женщина? Неужели он делал нас ради наших ребер?
Она не отвечала. Смотрела на огонь и тихо, блаженно улыбалась. Я подошел к печке, прислонился спиной к ее теплой округлости и закрыл глаза. Было хорошо и покойно, и легкая дремота стала плести свою паутину.
– Ваше ребро, – услышал я, – всегда при вас как извращенная идея.
Шел третий час Нового года. Хотелось спать. Ничего не происходило, вокруг нас была пустота, освещенная двумя догоравшими свечами. В печке серым подвижным пеплом покрывались бледно краснеющие угольки. Сквозь шипение приемника пробивалась музыка.
– Душно, – сказала Нина.
В форточку, которую я открыл с трудом, пахнуло сырым воздухом, и я услышал, как с крыши капало.
– Оттепель, – сказал я и зевнул, подошел к кожаному дивану, присел и моментально заснул.
Когда проснулся, в окна сочился серый невнятный полусвет. Нины в комнате не было. Значит, в другой спит. А может, ушла? – испугался я вдруг, вскочил, но сердце ухнуло, поэтому присел вновь на диван, отдышался и вышел на крыльцо.
И увидел воду. Она подступила к самому дому. Болото за ночь покорилось оттепели, под слоем воды лед был виден, но едва я попытался вступить на него, он без хруста, мягко сломался, и в пролом, булькая, хлынула темная стылая вода. Я постоял некоторое время на крыльце, туго с похмелья соображая. Захотелось позавтракать, выпить кофе. Решил разбудить Нину и попросить ее что-нибудь приготовить, но вдруг вспомнил, что, кроме портвейна, ничего нет, и что с утра собирался сходить на станцию за едой, и понял, что моими намерениями можно замостить любую дорогу, но не эту: пешком не пройти и на лодке не проплыть. Прошел в дом, постучал в соседнюю комнату и прокричал:
The free sample has ended.