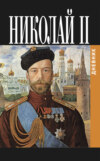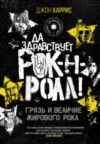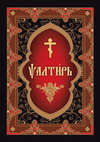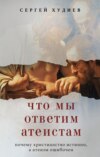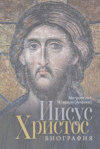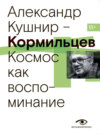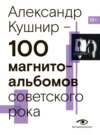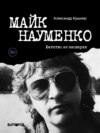Read the book: «Золотое подполье. Полная энциклопедия рок-самиздата. 1967-1994»
© Кушнир А. И., 1994
© Издание. Оформление. ООО «Издательство «Омега-Л», 2025
* * *
Составление энциклопедии рока является, несомненно, крайне глупым предприятием.
Ник Логан, Боб Уоффинден
Культура совершилась и требует энциклопедизации.
Андрей Вознесенский
Неоценимая помощь:
С. Бабенко, А. Гильдебрандт, А. Сипявская, М. Чеснокова, О. Шишкина, О. Шляхтина.
Стоицизм, долготерпение и виртуально-техническая поддержка:
Всеволод Гродский & Денис Кирьенин («Public Totem Ltd.»).
Много светлого и полезного для издания сделали также:
В. Андреев, Аня (г. Соль-Илецк), Е. Ардабатская, бабушка, О. Барабошкина, Н. Баранова, О. Барбаков, B. Батуев, А. Беликов, Т. Бирчинов, Г. Блинчук, А. Богданович, А. Бурлака, А. Вернерова, П. Вильямс, Н. Винник, К. Волков, С. Гапоненко, В. Гойденко, И. Голубенко, Ю. Гурьев, А. Данилов, Джулиан, А. Дмитриева, Т. Долбинина, Я. Г. Дубенко, Е. Дьяконова, В. Елбаев, С. Ельчанинова, А. Жаринов, М. Зуйков, В. Иванов, О. Каминская, Д. Карасюк, А. Касьян, Е. Киселев, О. Коврига, С. Коротков, К. Костин, С. Кошеверов, К. Кривова, И. Кричевский, С. Крюков, Л. Кузьминова, А. Кузнецов, А. Кутинов, М. Левнер, С. Леготин, Ю. Лысых, Е. Матусов, А. Мезенцев, Ф. Минлос, Г. Моисеенко, В. Мурзин, В. Наумов, М. Немиров, М. Немцов, И. Осадчая, О. Осетров, А. Осина, М. Осина, Г. Пилипенко, C. Попович, Г. Рамазашвили, М. Ромм, В. Рудницкий, А. Семенова, А. Сенин, С. Сериков, С. Симонов, С. Скворцов, Б. Слива-Штайн, В. Соседкин, Д. Стэнфорд, В. Тихомиров, А. Тищенко, К. Томас, С. Трофимова, А. Турусинов, Р. Тухватулин, С. Фоменко, Р. Цапина, С. Чернов, Ю. Чернокошкина, И. Чикунова, В. Щеголев, М. Шишков, Н. Шульгина.
Авторский коллектив благодарит редакторов и других представителей изданий, включенных в энциклопедию рок-самиздата, за предоставленную информацию.
Пограничные столбы рок-самиздата (опыт описания описания)
Мифы – души наших поступков и наших страстей. Действовать мы способны не иначе, как устремляясь к некоему призраку. Любить мы умеем лишь то, что творим.
Поль Валери
Сергей Гурьев
Смысл данной книги на первый взгляд не вполне очевиден. Современный обыватель, быть может, и готов смириться с переводом леса на труды по истории искусствознания или литературной критики, но «должны же быть какие-то границы». Отечественный рок-самиздат все-таки не уходит корнями в глубину веков и существует всего лишь немногим более четверти века, а по большому счету – и того меньше.
Парадокс заключается в том, что сейчас, когда весь русский рок находится в стадии известного упадка и вырождения, рок-самиздат, напротив, спокойно продолжает плодиться и развиваться. Фразы типа «интерес к рок-музыке в нашей стране заметно упал» здесь по определению не попадают в цель – потому что цель отсутствует. Рок-самиздат уже по законам жанра не рассчитан на серьезный общественный интерес, что обусловлено средним тиражом изданий «от пяти до пятидесяти». Смертоносная для «неподкупных художников» проблема коммерческого спроса на продукцию здесь не существует: выпуск подобного рода журналов имеет чуть ли не единственный смысл – самовыражение.
Как в свое время абсолютно справедливо утверждал журнал «Юность», «самиздат – это когда человек садится за пишущую машинку, не особенно раздумывая, КОМУ ЭТО ВСЕ НУЖНО, когда у него не существует никаких внешних обязательств перед окружающим миром, перед редактором или читателем, есть только внутренняя потребность, внутренние обязательства, внутреннее ожидание от своего творческого процесса. Когда он пишет не ЗАЧЕМ, а ПОЧЕМУ».
В этом смысле рок-самиздат оказался своего рода экстрактом самиздата в целом, той его областью, в которой наиболее интенсивно развернулись спонтанные эксперименты с языком и журнальной формой. В отличие, например, от политсамиздата, понятие свободы приобрело здесь чисто стилистический смысл. Фанатики – меломаны брежневских времен видели в гитарных пируэтах королей рок-н-ролла некий творческий абсолют, максимально удаленный от вездесущих идеологических клише эпохи. Напрашивался лозунг «Ударим Блэкмором по Шолохову». Околомузыкальный сленг и приемы разговорной речи успешно ложились в основу языка рок-журналистики, альтернативного помпезному академизму официозной прессы.
С течением времени рок-самиздат приобрел необратимо массовый характер, и ныне почти во всех крупных городах России и сопредельных стран бывшего ЗБ возникли свои региональные издания. Собственно рок-н-ролл все чаще превращается в только лишь повод для создания очередного журнального артефакта, имеющего к отправной точке весьма свободное отношение. Музыкальный андерграунд создает локально-своеобразное жизненное пространство со своими законами, и наиболее интересные журналы сейчас анализируют скорее жизнь в этом пространстве, чем непосредственно музыку. Тем более что последняя, как отмечалось выше, дает все меньше поводов для серьезного анализа.
Рок-самиздат, наконец, можно рассмотреть как своеобразную форму молодежно-индустриального фольклора эпохи массовых коммуникаций. Сама форма журнала здесь теряет функциональный смысл и приобретает жанровый характер. Из всех видов массмедиа – радио, телевидение, пресса – последняя лучше всего поддается домашнему моделированию. А современное подсознание гораздо плотнее забито кодами имиджей «Ровесника» и «Плейбоя», нежели хохломой или вологодскими кружевами.
Отсюда – внешне неожиданное стремление выразить себя не в сочинении «народных песен», а через журнал, связанный с рок-музыкой как «исконно молодежной» формой творчества. Стихийная компетентность здесь определяет тематику, которая, в свою очередь, предполагает свободное до фамильярности обращение с материалом. Так самораскручивающийся механизм «рок-издания» оказывается закольцован и запущен. Далее он может затянуть в свои пределы, перемолоть и выплюнуть любые социокультурные имиджи – от даосов до Кастанеды.
«Все это – рок-н-ролл».
Основной несформулированный принцип рок-самиздата, таким образом, произвол андеграундного сознания. Опьяненный сумасшедшим драйвом своих кумиров маргинал, взявшись за перо, превращается в миниатюрный трансформатор реальности. Банальный тезис о том, что язык – мощный инструмент социальной власти, сужаясь пропорционально камерности тиражей, начинает предполагать власть криптосоциальную. Ее обычный диапазон – от узкого круга друзей («карнавальных апостолов») до рок-общины русского провинциального города.
Опорные фигуры, задающие систему координат в таких изданиях, могут быть как общественно значимыми (Джон Леннон, Фрэнк Заппа), так и субкультурно-эзотерическими (локальные культовые тусовщики). Причем последние нередко оказываются предпочтительнее, так как формируют присущую рок-самиздату «масонскую» атмосферу, уютную для ориентации посвященных и изобилующую «слепыми» символами для внеположных.
Древние греки обозначали ситуацию, создающую препятствия для понимания, словом atopon – т. е. «лишенное места» в схеме наших ожиданий. В случае с рок-самиздатом atopon предполагает обманутые ожидания от текста. Именно такой реакции можно ждать от непосвященного читателя, случайно нарвавшегося на пестрый спектр музсамиздатовских эссе. Он по большей части не сможет «прочесть» цепочку опознавательных фетишей и понять смысл канона каждого отдельного издания, вне контекста которого «темнеет» извлеченная оттуда статья. Никакие комментарии и сноски не спасут новоявленного референта от горькой необходимости созерцать приводимые артефакты сквозь густой частокол пограничных столбов рок-самиздата.
Но тот, кто сможет пересечь эту границу, совершит увлекательнейшее путешествие в вербальный мир по ту сторону ответственности, исчезающей в царстве микроскопических тиражей. В этом заповеднике можно отслеживать самые невероятные миазмы мысли, слова и провоцируемого действия: «закон джунглей» и иезуитский кодекс чести здесь нередко соприкасаются полюсами.
Рок-самиздат – своего рода архипелаг необитаемых островов, где выброшенные на берег журналисты могут обустраивать жизнь по своему усмотрению, вне поля зрения всевидящего ока «власти взрослых». Необитаемые острова вошли в историю человечества двумя полярными методами решения проблемы: «Робинзон Крузо» Дефо и «Повелитель мух» Голдинга. Независимая рок-пресса прекрасно овладела обоими.
Робинзоны рок-журналистики преуспели в создании конструктивно-аналитических путеводителей по сложной паутине мирового музиндепендента. Аналоги героев Голдинга сбиваются в волчьи стаи разрушителей психосоциальных мельниц. Грань между Дон Кихотом и Плюмбумом в последнем случае оказывается размыта до основания.
Вытекающий отсюда и упоминавшийся выше морально-эстетический беспредел требует развернутого философского комментария.
В эпоху субкультурной революции конца 60-х годов в кругах неоавангардистов широко использовался термин «мифопластика». Он как бы метафорически обозначал право художника на неограниченную свободу в лепке собственных мифов, на отказ от всех традиционных устоев искусства ради неистового, экстатического выражения чувств и ощущений личности. Рок-самиздат, сделавший из журнала художественный жанр, фактически вывел мифопластику за пределы искусства в сферу формы (но только формы!) культурной информации.
Другими словами, в рок-самиздате осуществилась самая, пожалуй, сокровенная мечта знаменитого основателя герменевтики Г. Г. Гадамера. Общеизвестно, что вся философская ситуация нашего столетия восходит в конечном счете к критике понятия сознания. Утверждая вслед за Хайдеггером, что понимание смысла артефакта неизбежно выходит за рамки субъективного замысла автора, Гадамер говорил: «История так устроена, что прокладывает себе путь вовне, за пределы знания отдельных лиц о самих себе. То же самое относится к опыту искусства. Было бы прекрасно применить эту мысль к сфере интерпретации текстов, но, увы, их смысловое содержание не допускает той неопределенности в истолковании, какая возможна с артефактами».
Разрушив жанровые рамки между искусством и текстом в понимании Гадамера, рок-самиздат возвысил и одновременно низвел язык информации до адекватного (с точки зрения современной философии) состояния. Набор фактов и умозаключений как бы перестает быть собой и превращается в полуабстрактный рисунок мысли, рассчитанный на дальнейшую интеллектуально-игровую орнаментализацию. Одновременно работает и принцип «а глупый пусть примет за чистую монету». Именно так примерно выглядит самый, может быть, самобытный жанр рок-самиздата – т. н. «телега», внебрачная дочь бессвязных нарко-хиппистских монологов.
Характеризуя этот жанр, крупнейший его мастер Александр Серьга пишет: «Что значит „толкать телегу“? Это когда человек в устной или письменной форме высказывает какие-либо мысли, идеи, теории, причем он говорит не всерьез, а из спортивного, так сказать, интереса. Некоторые телеги годятся в основу солидной диссертации, в иных „опять изобретается велосипед", в прочих совершенный вздор, но для автора это неважно. Он не примеряется к традиционным нормам научности или философской истины – он знает, что к настоящему качеству ума они отношения не имеют… Телега – жанр мертворожденных, серийных образцов. Это – к лучшему. Вся современная литература (художественная, научно-философская, публицистическая) – большой постскриптум. Что нужно, было написано до нее. Точнее, была надежда, что пишут то, что нужно, а сейчас очевидно, что нет… Самое достойное в сложившейся ситуации – давать, не мудрствуя, справочную информацию и „толкать телеги“».
Разумеется, «неформальная рок-журналистика» редко дифференцировала последние два понятия, активно используя метод «тележной информации». Русское общество также не желало фетишизировать силуэт реальности, и с воцарением свободы печати вышеозначенный провокативный ход оказался успешно опошлен типографской желтой прессой. Массовый тираж без труда просчитал количество шагов между элитарным эстетическим приемом и безответственным пустозвонством.
Как сказал бы Джим Моррисон, «дети несчастий смешались со стаями бродячего зверья».
Мифотворческий произвол, однако, нельзя считать преобладающим в рок-самиздате явлением. Журналы подобного плана (свердловское «Палевой, столичные «Сморчок» и «Связь времен» etc.) – это как бы пики, вырастающие над средней массой конструктивно-аналитических (да и просто графоманских) изданий. Но сам принцип рок-самиздатовского творчества создает пространство для подобной реализации потенциала, где возможное часто оказывается существеннее реального.
Тот же Гадамер неоднократно отмечал, что напряженная жизнь языка протекает под знаком антагонизма между конвенциональностью и тенденцией к революционным переменам. Граница между взаимоисключающими формами понимания своих задач нередко проходит через отдельный журнал, что делает крайне интересным отслеживание судьбы издания и его отдельных участников. Поэтому в статьях энциклопедической части книги немалый интерес представляет жизненная драматургия участников процесса, история их микроиздательских побед и поражений – последние запросто могут вывести автора за борт истории.
Естественно, борьбе за чистоту творческого принципа на уровне подсознания конгруэнтна борьба за власть в криптосоциальной структуре. Language is an efficient tool of power, как говорила Ирина Сандомирская. Чем важнее стратегическое положение города, тем острее конфликты в его рок-общине. Закономерно, что наиболее драматичной в этом смысле оказалась судьба московского рок-самиздата, волны от взрывов внутри которого достигали Балтийского моря и Тихого океана. История крупнейших московских рок-журналов неразрывно связана с острейшей квазиполитической конфронтацией, осложнявшейся до 1988 года давлением и интригами со стороны КГБ.
Сами деятели рок-самиздата, конечно же, не осознавали, в какую зловещую игру с ними играют язык и контекст. В работе со сленгом и инвективной лексикой они обычно видели лишь путь к освобождению от очевидной власти официозного языка тоталитарного социума. «Свой маленький тоталитаризм» неизбежно терялся на таком могучем фоне.
«Искусство должно предпринять широкую атаку на язык средствами самого языка ради достижения полнейшего молчания», – писала Сьюзен Зонтаг в своей книге «Стили радикальной воли». Наследуя и здесь традиции неоавангардизма конца 60-х, деятели рок-самиздата довольно часто на излете творческого пути упирались в финал процитированной фразы. Экзистенциальный тупик обозначился, когда в качестве апофеоза духовного нонконформизма был зафиксирован суицид – что, в частности, привело к остановке одного из флагманов рок-самиздата журнала «Контр Культ Ур’а» в 1991 году. Дальнейшее развитие предмета статьи протекало под знаком известной деинтеллектуализации – что, впрочем, отнюдь не свело на нет мифотворческие тенденции.
Внешняя оболочка жизни – точно такой же миф. Однако он может столкнуться с контрмифом, и тогда на выходе просвечивает метафизический мрак, скрытый обычно павлиньим хвостом иллюзий.
«Подполье любит сумерки, и поэтому, когда туда заглядывает лучик света, всякая нечисть сразу расползается по углам», – утверждал Борис Гребенщиков. Добро бы так! Иногда она лезет на свет.
За всю свою недолгую историю подпольная рок-пресса последовательно оппонировала двум «верхним жителям» – советскому обществу (до 1987 года) и «дикому капитализму» (с 1990 года). В переходный период социальных иллюзий рок-самиздат, чувствуя себя на коне, пытается встать на рельсы легализации и профессионализации, но одновременно теряет свои патогномоничные жанровые признаки, оказываясь в арьергарде официальной демократической прессы.
Метафорически эта драма описывалась на удивление однообразно.
Несколько лет назад журнал «Декоративное искусство» сравнивал самиздат с Русалочкой, погибающей, превращаясь в розовую пену, при первых же лучах восходящего солнца. По-видимому, имелось в виду солнце перестройки, в свете которого теряют силу все запреты на свободу слова, коими, в принципе, и был вызван к жизни весь самиздат – в том числе и музыкальный. Но и сейчас, хотя солнце зациклилось и палит все жарче и жарче, в морской пучине продолжают плодиться новые и новые русалки, бегущие мафиозных миазмов неуклюжего российского капстроительства. В этом контексте традиционно неотрефлексированный радикализм провоцирует их на воинствующую духовность – порой даже несколько коричневатого оттенка.
Таков тернистый вектор современного утопического сознания. Следуя канонам лозунговой мифопластики, следовало бы завершить эту затянувшуюся интродукцию дуплетом шоковых тезисов: «свобода – мать фашизма» и «художник сегодня – это реакция». Но, перевернув несколько страниц, читатель увидит, мягко говоря, менее депрессивный портрет явления – и будет прав.
Ибо квинтэссенция смысла сам смысл никак не подменяет.
Из-под пресса времени
Александр Кушнир
Самиздатовская рок-пресса представляет собой одну из самых малоизученных форм существования рок-культуры в России. В течение почти трех десятилетий своей истории рок-самиздат накопил огромный багаж фактического материала, объем которого можно измерять томами. Примерно столько же места занимает информация, ранее считавшаяся недостоверной или утерянной. Погребенные под прессом времени бесчисленные документы уникальных образцов человеческой мысли печальным образом растворялись в пространстве. Данная работа по своей сути является лишь попыткой обобщения и систематизации зафиксированных нами изданий, которые сыграли определенную роль в истории отечественного рока и его развитии.
…По словам академика Лихачева, «самиздат существовал всегда». Любительская рок-пресса появилась в СССР практически сразу после возникновения на территории страны собственной рок-сцены. Следствием создания на Украине первых студенческих бит-групп явился выход в 1967 году в Харькове самодельного журнала «Бит-Эхо». Еще через несколько месяцев юный Артем Троицкий начинает выпускать в Праге общешкольный рок-бюллетень «New Dimond», включавший эксперименты в области коллажно-эротического дизайна.
Оба издания профункционировали сравнительно недолго. «Бит-Эхо» был задушен КГБ, а «New Dimond» автоматически прекратил существование после отъезда его редактора на советскую родину. Первый период существования рок-самиздата на этом можно считать завершенным.
* * *
Все последующее десятилетие обернулось для рок-прессы неправдоподобно глубокой паузой. Сегодня объяснить этот факт непросто – временной промежуток 1968–1977 годов так и остался белым пятном для исследователей рукописных рок-журналов1. На том этапе истории в «левой» идеологии господствовали хиппистская созерцательность, а сами музыканты на долгие годы завязли в рутине классического хард-рока. В подобных условиях эпицентр подпольной прессы находился в сферах литературного и политического самиздата. По стране сотнями копий распространялись в машинописи Оруэлл и Солженицын, постепенно возникали первые литжурналы («Вече», «Часы», «37»), и даже у джазистов в начале семидесятых появился собственный «профсоюзный орган» – «Квадрат».
Рок-самиздат возродился лишь в 1977 году. Произошло это там, где, скорее всего, и должно было произойти: в Ленинграде околоаквариумистская тусовка во главе с Гребенщиковым начинает издавать легендарный машинописный журнал «Рокси». Несмотря на тягу редакции ко всевозможным формам литературного анализа, это было первое советское издание, целиком ориентированное на субкультуру и отечественный рок. Опять-таки, «Рокси» был одним из первых, кто сразу же сделал принципиальный шаг от расплывчатых идеалов хиппизма к живительно-провокативной «новой волне» и торпедирующему общественное сознание панк-року.
…Вслед за локальными изданиями в Литве и Грузии любительская рок-пресса начинает выходить и в Москве. В отличие от «Рокси», появившийся в 1981 году первый столичный музсамиздат «Зеркало» поначалу никаких новых веяний не принес. В нем преимущественно печатались студенческие статьи, которые по тем или иным причинам нельзя было опубликовать в официальной прессе. Одним из немногих достоинств этого альманаха оказалось приобретение его редакцией бесценного опыта организационно-концертной деятельности в условиях пока еще неявной конфронтации с властями2. После того, как в конце 81-го года институтское начальство запрещает издание «Зеркала», журнал начинает выходить нелегально под новым названием «Ухо». Полученные в «Зеркале» необходимые литературно-редакторские навыки реализуются в «Ухе» на качественно новом уровне. Основной акцент теперь делается на последовательном освещении событий московско-ленинградской подпольной сцены, а идейный вектор журнала направляется в сторону еще толком не оформившегося в России панк-рока.
…Подобно «Бит-Эху» «Ухо» был раздавлен в конце 1983 года силами КГБ по всем правилам военного искусства. Наползавшую на страну черненковскую стагнацию отечественный рок-самиздат встретил, находясь в глубоком подполье.
* * *
Вслед за «Ухом» искусственным образом прекратила существование алма-атинская рок-газета «ЗГГА»; затем были задушены московские «Попс» и «Око», а также новосибирские «ИД» и «Стебель». В течение полутора лет фактически вся андеграундная рок-пресса оказалась разогнанной, уничтоженной или достаточно плотно опекаемой3. Тем не менее именно в подобной атмосфере «выжженной земли» в стране зародилась третья, и, как оказалось впоследствии, наиболее яркая генерация отечественного рок-самиздата.
Ориентированный на группы «национального рока» «Урлайт», культурологический «Сморчок» и рекламно-скандальный «Зомби» появились в Москве почти одновременно – в конспиративных условиях, которым могли бы позавидовать даже создатели «Искры». Первой полосой защиты служили камерные тиражи, уничтожение оригинал-макетов и распространение самих номеров при помощи фотоспособа: 36 страниц = 36 кадров на пленке. В наиболее тяжелый период «Зомби», к примеру, попросту выходил в единственном экземпляре, и в те времена это было по-человечески понятно и оправданно.
Помимо специфического тиражирования, в журналах применялась целая система неповторяющихся псевдонимов, обратные переводы с английского на русский («Урлайт»), пропущенные выпуски и умышленная путаница с нумерацией («Сморчок»), использование различных пишущих машинок («Зомби»). Вместе с тем, следуя традициям «Зеркала» и «Уха», создатели третьей волны самиздата продолжали организовывать квартирные концерты, продюсировать записи альбомов андеграундных рок-групп и т. д.
Приблизительно с осени 1986 года по всей стране наметились первые признаки потепления, и жесткий идеологический прессинг в отношении самиздата начинает постепенно ослабевать. Следствием этого процесса явилось массовое появление региональных рок-журналов, в основе концепции которых лежало ярко выраженное игровое начало. Многие из возникших изданий («ДВР», «СЭЛФ», «Тусовка», таллинский «Про рок») взамен сухого и насквозь пропитанного штампами языка официальной прессы принесли в журналистику самобытную жанровую эстетику – от иронично-вежливого или издевательски-глубокомысленного тона статей до тщательно выверенной глобальной мифологизации происходящих перемен. Еще одной отличительной чертой этих журналов стала тенденция быть несколько умнее и глубже, чем хотелось бы их усредненному читателю – восторженным фанам, музыкантам или просто тусовщикам.
* * *
…Несмотря на очередную, последнюю серию рокофобских репрессий (антисамиздатовские статьи весны – осени 1987 года, отмена ряда фестивалей), идеологи подпольной прессы вновь становятся в ряд основных катализаторов возникающего по всей стране мощного рок-клубовского движения.
Показательным моментом явилась кулуарная сторона V Ленинградского рок-фестиваля, на который съехалось рекордное по тем временам количество представителей андеграундной прессы и всевозможных рок-деятелей. Их повторный сбор осенью 1987 года в Свердловске ознаменовал собой создание т. н. «Рок-федерации», явившейся в дальнейшем подводной частью того айсберга, на вершине которого затем оказались «ведущие рок-группы страны». Одновременно Свердловск-87 символизировал зарождение мощных межрегиональных связей и появление реальной информационной инфраструктуры.
Пиком всего движения стали события Подольского и Черноголовского рок-фестивалей. В праведном порыве к «новым горизонтам свободы» самиздат в данный период пытается выйти на новые рубежи тиражирования и воспламенить своим боевым глаголом более обширную аудиторию. Прямым следствием запоздалого доступа к ксерокопировальной технике становится выход ряда изданий на отметку трехзначных тиражей. Вместе с тем все попытки «Зомби» и «УРлайта» выпустить в 1988–1989 годах свои очередные номера типографским способом завершились неудачей – в Москве и Таллине соответственно. В обоих случаях выход уже готовых журналов оказался сорван по причинам идеологического характера, а вся продукция пущена под нож.
Тем не менее именно в это время впервые на страницах солидной прессы начинается серьезное обсуждение самиздатовского феномена. «Литературное обозрение», «Вопросы философии», «Аврора», «Неделя», «Столица», «Юность» – вот неполный список тех изданий, которые в числе первых стали вести всевозможную полемику и дискуссии на данную тему. О русской неофициальной прессе начинают писать за рубежом – от известных рок-журналов («Rolling Stone», «Maximum Rock-n-Roll») до книг, посвященных специфике самиздатовского дизайна4.
* * *
На границе десятилетий отечественная рок-пресса естественным образом разделилась на две группы: ориентированные на массовые вкусы официальные рок-издания и оставшиеся в осознанном андеграунде журналы, несущие в себе глубокий Контр Культурный импульс. Последние, в свою очередь, либо вышли на офсетный и ротапринтный способы тиражирования («Ура Бум-Бум!», «Окорок», «Охота», «ОРЗ», «Мицар»), либо, исчерпав все свои идеи, в течение двух последующих лет прекратили существование («Контр Культ Ур’а», «Шумелаъ Мышь». «Палево», «ДВР»). Представители этих журналов провели в декабре 1991 года первый съезд самиздатовской и независимой рок-прессы, состоявшийся в Вятке.
Заключительный период 1992–1994 годов оказался характерен для бывших подпольщиков сразу тремя обстоятельствами: прекращением деятельности фактически всех флагманов 80-х годов, появлением журналов с откровенно примитивистской эстетикой «назад к корням» – написанных и размноженных вручную («Польский батон», «Субанда») и, наконец, возникновением очередной волны новых изданий, специализирующихся на исследовании чуть ли не всего околомузыкального спектра – от гневно-обличительных гражданских рок-манифестов («Подробности взрыва», «Связь времен») до возведенных в культ экспериментов с компьютерным дизайном («Уголовное дело №»).
Так выглядит к середине 1994 года ситуация внутри андерграундной и независимой прессы. Несмотря на то, что политические притеснения уступили место не менее беспощадным экономическим, рок-самиздат по-прежнему существует. При этом он был и остается не столько формой утонченного нонконформизма или эстетских изысканий, сколько состоянием человеческой души в ее самых светлых и искренних проявлениях.